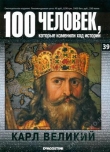Текст книги "Рыцарство от древней Германии до Франции XII века"
Автор книги: Доминик Бартелеми
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 47 страниц)
ПРЕДЕЛЫ НАСИЛИЯ
Для германских народов, по крайней мере для их воинской элиты, характерна определенная свобода. Она, как мы видели, и порождает «доблесть»{61}, понимаемую как стихийное проявление благородства. Тацит все-таки говорит о неудобствах этой системы – вскользь, когда рассказывает о «собраниях», или plaid'ax, созываемых на новолуние или полнолуние. «Но из-за их свободы происходит существенная помеха, состоящая в том, что они сходятся не все вместе и не так, как те, кто повинуется приказанию, и из-за медлительности, с какой они прибывают, попусту тратится день, другой, а порой и третий»{62}. Далее, в «Истории» и «Анналах», он вернется к вопросам недисциплинированности германских воинов и вреда, который некоторым народам наносят раздоры вождей; мало того что между соперниками нет здорового состязания в храбрости, есть ненависть, которая приводит к убийствам.
Как говорится на знаменитой странице «Германии», «разделять ненависть отца и сородичей и приязнь к тем, с кем они в дружбе, – непреложное правило»{63}. Авторы XIX в. часто приводили этот отрывок, доказывая неизбежность насилия в таком обществе. Но многие опускали продолжение этой фразы: «Впрочем, они не закосневают в непримиримости; ведь даже человекоубийство у них искупается определенным количеством быков и овец, и возмещение за него получает весь род, что идет на пользу и всей общине». Если знаменитую фразу Тацита о мести у германцев прочесть до конца, то, оказывается, она говорит, что существует система улаживания конфликтов. Вопреки современным предрассудкам в отношении «мести», такое общество вовсе не обязательно рвут на части импульсивные люди, подверженные мстительному гневу. Участвовать в конфликтах вместе с родичами или по крайней мере декларировать такое участие – это обязанность. После такой декларации вовсе не обязателен переход к действию, дело чаще заканчивается получением выкупа, «композиции» за кражу и побои, вплоть до «цены крови». Это создает систему, которую я во всем тексте эссе буду называть файдовой (faidal), потому что файдус (faidus) в салическом законе франков означает одновременно месть и композицию. Так что этот термин позволит во всех случаях иметь в виду то и другое сразу[14]14
После этого можно обсудить главу 12 [у Тацита] о суде народного собрания. Тацит в ней ссылается на «наказания», а не композиции. Но так же ли строго он разделяет оба этих термина, как мы? Он упоминает казни за бесчестие, к которым приговаривают предателей и перебежчиков, с социальной коннотацией. А за мелкие проступки берут только штрафы, что предвосхищает римско-варварские законы.
[Закрыть].
То есть у германцев было правосудие, ориентированное на мирное прекращение раздоров, либо на местах (о чем упоминал уже Цезарь), либо на народных собраниях. Очевидно, о нем хотелось бы знать больше. Были ли его решения обязательными для обеих сторон конфликта? Это представляется маловероятным, судя по тому, что известно из других источников об обществах мести. Но выбор стоял не только между судебным институтом и частной войной, бывали и частные примирения – вероятно, в форме дружеского общения.
В самом деле, примирения происходят на пирах, куда приходят с оружием, где вино иногда распаляет страсти и даже остаются раненые и убитые. Но в то же время, если верить Тациту и его источникам, эти моменты, когда непритворно высказывают всё, что лежит на сердце, равно пригодны и для соглашений. И, наконец, почти все пиршества выполняют функции «народного собрания»: там толкуют «о примирении враждующих между собою, о заключении браков, о выдвижении вождей, наконец, о мире и о войне». Или, точнее, – Тацит это отмечает, – тогда начинаются переговоры, а решения их участники принимают на следующий день, когда протрезвеют{64}.
Это во всяком случае делает германцев скорее снисходительными, нежели мстительными. Но немногие историки XIX в. это по-настоящему замечали. В самом деле, глава 21 «Германии» (в издании Бюде) включает в себя полторы строки о ненависти, четыре – о композиционном правосудии и одиннадцать – о чудесном гостеприимстве, которое германцы оказывают сородичам, приглашали тех или нет, знакомы с ними или нет. Мы вполне догадываемся, что речь идет о воинах из хорошего рода, о мирном времени, ну и что – ведь это вежливость, щедрость, которые вполне могут смягчить их репутацию свирепых людей. И, уходя, гость может попросить что-то еще, и ему это дарят, «впрочем, с такой же легкостью дозволяется попросить что-нибудь взамен отданного». Тацит уверяет: «Они радуются подаркам; не считая своим должником того, кого одарили, они и себя не считают обязанными за то, что ими получено»{65}.
Куда же теперь деть теорию антрополога Марселя Мосса о состязании между сделанным и ответным подарками, со всеми ее аватарами XX в. – на полку с потерянными парадигмами? Не думаю. В архаических обществах – вплоть до нашего – есть нормы поведения, которые, чтобы сделать их эффективными, надлежит изо всех сил отрицать. Расточать щедроты, обязательные и обязывающие партнера (и соперника), изображая непосредственность, – показная добродетель. Говорить другому, что он не обязан делать ответный жест, – не значит ли это фактически бросать ему вызов? Он волен этот вызов не принять, но тогда утратит силу. Так что дармовое гостеприимство представляется не столько идеалом, сколько идеологией.
Что касается поддержки родичей в их ненависти, Тацит хорошо видит ее обязательный характер – и, отмечая это, пусть мимоходом, наносит серьезный удар по римскому мифу о бездумной варварской ярости. Далее, описывая, каким образом германцы все-таки приходят к соглашению, он вполне дает понять, что грозящего насилия обычно можно избежать. Побуждает ли их к этому только сознание гражданского долга? Бьемся о заклад, что и материальные компенсации здесь кое-что значат. Но взять их взамен мести – поступок корыстный, который лучше не афишировать.
Разве европейские путешественники и этнологи, обнаруживающие «рыцарство» у воинских элит бедуинов, ирокезов, других американских индейцев, не покупаются на отказ от расчетливости, от желания доминировать? Они поддаются симпатии к собеседникам, которые ведут себя как «вельможи», несмотря на суровую жизнь. А то и находят трагическое величие в воинах, которых общество якобы подвергает опасностям, при этом запрещая применять силу: так, Пьер Кластр под конец (1977) оплакивает «несчастье последнего дикаря», гуайкуру, видя в нем «подобие рыцарства»[15]15
Воспроизведено в издании: Clastres, Pierre. Recherches d'anthropologie politique. Paris: Seuil, 1980. P. 209-248 (особенно р. 217, 225, 237: «это надменное рыцарство Чако»; «цвет этого дикарского рыцарства»).
[Закрыть]. Клод Леви-Стросс или Пьер Бурдье так бы не выразились, они не столь романтичны. Может быть, орудуя скальпелем структурализма и критической социологии, они упускают из виду человеческую душу? Не знаю.
Тацит идеализирует своих героев меньше, чем Пьер Кластр, и больше, чем Пьер Бурдье. Благодаря ему можно увидеть сложные взаимодействия в обществе свирепых дикарей. Возможно, это общество не «раздирается насилием», оно только пронизано силовыми отношениями и структурировано сравнительно упорядоченной состязательностью. Подытожим то, что в произведении Тацита позволяет судить о германцах как о племенах, в конечном счете несколько менее жестоких в действиях, чем на словах и в манерах.
Есть периоды мира, чередующиеся с периодами войны. В это время вооруженная свита воинского вождя и само оружие – только декор{66}. Кстати, если знатные юноши вступают в такую свиту, значит, они покинули «общину, в которой они родились», закосневшую в длительном мире{67}.
Среди народов, перечисленных во второй части «Германии», есть более и менее воинственные. К последним относятся хавки, живущие на северо-западе, явные предки саксов. «Среди германцев это самый благородный народ, предпочитающий оберегать свое имущество, опираясь только на справедливость. Свободные от жадности и властолюбия, невозмутимые и погруженные только в собственные дела, они не затевают войн и никого не разоряют грабежом и разбоем». Они не совершают несправедливостей – в смысле не осуществляют вооруженной агрессии против других. Просто они постоянно находятся на военном положении и держат в готовности «и войско, и множество воинов и коней». И таким образом, «когда они пребывают в покое, молва о них остается все той же»{68}.
Однако очень похоже, что это некая «хавкская аномалия», потому что надо признать, что воинственность многих других народов способствует укреплению их репутации. Хатты (которые живут немного южней, среди «предков» франков) дают жестокие и наглядные обеты, отчего становятся «приметными для врагов и почитаемыми своими». Впрочем, «и в мирное время они не стараются придать себе менее дикую внешность»{69}. У них нет ни дома, ни земли, и питаются они в гостях. Иными словами, они демонстрируют воинственность лишь затем, чтобы верней, по-барски, эксплуатировать труд других. В этом смысле они больше, чем хавки, отвечают воинскому идеалу (или словесному портрету), изображенному в части первой. Они в большей степени германцы, чем другие германцы. Они отличаются «особо крепким телосложением» и «необыкновенной непреклонностью духа».
И, однако, хатты не столь уж соответствуют стереотипу нерассуждающего варвара. «По сравнению с другими германцами хатты чрезвычайно благоразумны и предусмотрительны»: они соблюдают боевое построение, не спешат атаковать, когда не надо, «наконец, что совсем поразительно и принято только у римлян с их воинской дисциплиной, больше полагаются на вождя, чем на войско»{70}. Так вот кого они взяли за образец, и в самом деле сходство с римлянами очень заметно в том, какую роль они отводят пехоте. В ней «вся их сила», которая, впрочем, сочетается с силой конницы. Они нагружают на пехотинцев «помимо оружия <…> также необходимые для производства работ орудия и продовольствие». Есть с чем предпринимать настоящие походы. И Тацит искусно делает вывод, противопоставляя два понятия: «Если остальные германцы сшибаются в схватках, то о хаттах нужно сказать, что они воюют». В общем, подобно римлянам…
Вот противоположный пример – херуски, которые живут «бок о бок с хавками и хаттами». Они славились подвигами во времена Арминия (в 9 г., в 16 г.) и даже Италика, в определенном смысле (в 47 г.). Поскольку с тех пор на них не нападали[16]16
«Анналы», напротив, объясняют их ослабление скорее междоусобными войнами.
[Закрыть], они «долгие годы пользовались благами слишком безмятежного и поэтому порождающего расслабленность мира». В этом они неправы, «потому что в окружении хищных и сильных предполагать, что тебя оставят в покое, – ошибочно». Более того, Тацит как настоящий реалист замечает, что умеренность и честность приписываются, скорей, победителю в бою, чем приверженцу мира, – страшная фраза, хоть и сказанная мимоходом, но разоблачающая все будущее рыцарство! «И вот херусков, еще недавно слывших добрыми и справедливыми, теперь называют лентяями и глупцами, а удачу победителей хаттов относят за счет их высокомудрия»{71}.
То есть справедливость приводит народ к упадку – в Германии, где чрезмерное благодушие все-таки не одобряют. Несомненно, численность народов-победителей растет за счет присоединения воинов из других народов: все начинается с подражания их обычаям, поскольку длинные волосы, характерные для хаттов, у их соседей становятся признаком личной отваги.
Далее к востоку группа народов, называемая «свебами», пытается отличаться прическами, которые еще у нашей молодежи выражают одновременно кокетство и вызов: они «подбирают волосы наверх и стягивают их узлом». Но это не означает отказа от воинской этики. «В этом забота свебов о своей внешности, но вполне невинная: ведь они прихорашиваются не из любострастия и желания нравиться, но стараясь придать себе этим убором более величественный и грозный вид, чтобы, отправившись на войну, вселять страх во врагов»{72}. Пусть так. Но разве это столь же эффективное средство, как подражание римской дисциплине у хаттов?
Побуждает ли религия германцев их к войне или способствует отводу воинственных чувств в другое русло? На этот счет существуют разные мнения.
Есть жрицы, разжигающие воинственность, как Веледа, эмблемы, взятые из священных рощ, боги войны, эпические герои; не стоит забывать и о роли жрецов в обеспечении, путем санкций, минимального порядка в осте и в наказании за измену. То есть такое язычество по-настоящему поощряет жестокость в жизни и действиях. Пусть даже, четко отметим это, никакое участие жреца, никакие ссылки на богов и героев не окрашивают вручение оружие знатному юноше в цвета языческой сакральности. Так что не стоит предполагать, как это делали некоторые историки Нового времени, что средневековое христианство позже пожелало присвоить этот обряд, чтобы изгнать из него языческие черты. Ношение длинных волос хаттами и их вождями, от которых этот обычай, несомненно, унаследовали Меровинги, тоже не обязательно означает сохранение за этой прической языческого сакрального смысла – напротив, миропомазание 751 г. избавило Каролингов от таких ассоциаций.
В древней Германии, но на севере, «на острове среди Океана», есть также культ Нерты, «матери-земли», со святилищем и святым днем, когда всякое насилие запрещено{73}. Эрудиты Нового времени иногда хотели видеть в этом предвосхищение Божьего перемирия XI в., забывая, что подобные табу на какие-то места и периоды времени склонны налагать многие религии. А если германская религия и стремится ограничить военные конфликты, то, скорей, за счет частого обращения тацитовских германцев к гаданию: «Нет никого, кто был бы проникнут такою же верою в приметы и гадания с помощью жребия, как они»{74}. Жрецы общины занимаются этим ради «общественных» интересов, отцы семейств – в «частных» целях. Они используют ветки, ткани, они наблюдают за птицами и лошадьми и слушают их. Они предпочитают гадать дважды, чем раз, прежде чем что-то предпринять.
Значит ли это, что они часто ищут сакральные предлоги, чтобы отказаться от боя? Тацит не говорит этого определенно, кроме как в последнем примере гадания, который приводит. Чтобы «предузнать исход тяжелой войны», они «сталкивают в единоборстве захваченного ими в любых обстоятельствах пленника из числа тех, с кем ведется война, с каким-нибудь избранным ради этого соплеменником, и те сражаются, каждый применяя отечественное оружие. Победа того или иного воспринимается как предуказание будущего»{75} (prae-iudicium). Это не совсем похоже на средневековый судебный поединок или поединок героев перед боем, поскольку один из его участников – пленный. Но все-таки это один из поединков, которые влекут за собой ограничение военных действий, не компрометируя сам идеал героизма; и самое классическое средневековое рыцарство, рыцарство XII в., в принципе будет придавать таким поединкам величайшее значение{76}. И, если присмотреться, тут заметен и зачаток и другого характерного рыцарского обычая: похоже, здесь с уважением обращаются с пленником равного ранга и даже используется нечто вроде принципа fair-play (честной игры (англ.)).
В той же степени и даже больше, чем «посвящение в воины», на котором часто сосредотачивают внимание, вместе с прической свебов, все это по-настоящему предвосхищает рыцарское Средневековье. Итак, в древней Германии можно найти несколько его предвестий – даже если крайняя грубость и многие обычаи[17]17
Воинские игры сильно отличаются от средневековых: Германия. 24. С. 470-471.
[Закрыть] составляют существенное различие.
Языческая религия, похоже, в той или иной степени приспособлена к нравам этого «военного общества», где подстрекательство к войне периодически сменяется предлогами для того, чтобы ее отложить и начать переговоры. Надо будет обратить внимание, поведет ли себя менее двусмысленно средневековое христианство с его стремлением к миру и идеей справедливых войн, сыграет ли оно более «цивилизаторскую» роль.
Прежде всего надо будет проследить в ходе этого эссе: воспримет ли Средневековье, франкское, а потом феодальное, жестокий идеал древней Германии целиком. Какие детали и оттенки оно сможет добавить к нему? Какие возьмет из него обычаи в иной контекст, когда короли и сеньоры будут сильней, а экономика, техника – более развитыми?
УСИЛИЯ ВОЖДЕЙ
Тем временем германские вожди пытались достичь большего могущества в основном при помощи военных походов, приносящих добычу и дань. Но можно ли сказать, что при этом они безупречно следовали идеалу? И не сталкивались ли с серьезными препятствиями?
«История», а потом «Анналы», написанные после «Германии», посвящены событиям I в. н. э. Мы располагаем только фрагментами того и другого текстов, но в обоих уделено внимание германским делам (наряду с другими). Военные вожди и цари германцев пользовались тогда институтами и ценностями, упомянутыми в книге «Германия», но перед нами эти события оживают благодаря орлиному глазу Тацита и даже его поэтическому дару, причем здесь автор проявил больше реализма.
Лексикон власти со времен Цезаря до времен Тацита почти не изменился. Во всех произведениях последнего местный вождь, усмиритель распрей (princeps), – это еще и тот человек, который на собрании племени («общины») может проявить себя, только начиная войну, привлекая к себе множество сторонников и тем самым становясь дуксом (dux), причем Тацит упоминает и царей. Создается впечатление, что это не три разных власти, а, скорей, три этапа идеальной карьеры, три этапа пути восхождения.
Казалось бы, существует критерий различия царей и дуксов (военных вождей). «Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей – из наиболее доблестных»{77}. Но знатность и доблесть характерны для одних и тех же лиц{78}, по крайней мере есть такая тенденция. И Тацит сразу же переходит к общей черте обеих этих властей: они ограничены и не самоуправны, основаны на примере и убеждении. И обе, разумеется, должны учитывать наличие сферы, выделенной жрецам, которые хранят законы, а также гадают и обнародуют предсказания.
Но ведь, несмотря ни на что, резонанс победы над римскими легионами Вара в 9 г. дал военному вождю херусков Арминию беспримерную власть?
Тем не менее в 16 г. Рим попытался отомстить. Германик, близкий родственник Августа и один из приемных сыновей императора Тиберия, возглавил поход на Арминия и его дядю Ингвиомера. Он рассказал римским солдатам о слабостях германских воинов. Защитное вооружение у них плохое: ни панциря, ни шлема, щит слишком тонкий. «И тела их, насколько они страшны с виду и могучи при непродолжительном напряжении, настолько же невыносливы к ранам; германцы, не стыдясь позора, нисколько не думая о своих вождях, бросают их, обращаются в бегство…»{79} Иначе говоря, они не каждый день находятся на высоте своего идеала – который прежде всего является идеалом их вождей. Нужно было, чтобы Арминий «словом, примером в бою, стойкостью в перенесении ран» поддерживал их мужество. В борьбе с римлянами он воплощал для них альтернативу «свобода или смерть». Но вот их окружили, и Арминий бежал, предприняв огромное усилие и воспользовавшись быстротой своего коня. «Он все же пробился, измазав себе лицо своею кровью, чтобы остаться неузнанным. Некоторые передают, что хавки, сражавшиеся среди римских вспомогательных войск, узнали его, но дали ему ускользнуть. Такая же доблесть или хитрость спасла и Ингвиомера; остальные были перебиты»{80}.
Арминия чрезвычайно превознесли, под именем Германа, в Германии XIX в. Это победивший Верцингеториг, предтеча кампаний 1813 и 1870 гг. против Франции Бонапартов… Прочтите только надпись на памятнике Герману в Тевтобургском лесу, памятнике, достойном картин Каспара Давида Фридриха! Тем не менее здесь мы видим, что он спасает себе жизнь – конечно, отважно, но оставляя собственный ост на гибель. Все-таки это не герой эпопеи. Разве бегут так с поля боя в «жестах», вроде песни о Роланде?
В конечном счете Арминий не имел в Германии того авторитета (хоть и не на всей территории, но ощутимого), каким обладал Верцингеториг в Галлии 52 г. до н. э. Однако и римский натиск был несравненно слабей. В 16 г. император Тиберий не пустил Германика в поход и назначил его консулом, чтобы тот оставался в Риме, вместо того чтобы покрывать себя славой.
Поэтому в 17 г. римляне довольствовались тем, что наблюдали за войнами между народами (gentes) Германии, причиной которых была «борьба за первенство»{81}. Арминий возглавил союз противников Маробода, принявшего титул «царя». Этот титул был «ненавистен его соплеменникам», – но, видимо, не всем, коль скоро оба союза имели равные силы. Словно затем, чтобы эти силы уравновесить, родной дядя Арминия, тот самый Ингвиомер, который сражался бок о бок с ним в 16 г., примкнул к Марободу: племянник отодвигал его на задний план.
Так что «войска устремляются в бой», причем время беспорядочных передвижений германцев былых времен прошло. Теперь (в 16 г.) они усвоили кое-какие положения римской дисциплины (в силу «длительной войны с нами»).
Похоже, Арминий вел себя не совсем как римский полководец (imperator), который отдает строгие приказы, а после этого наблюдает за сражением, побуждая, если надо, войска к бою, как это делал Германик в прошлом (16-м) году.
Возникает, скорей, ощущение, что он распалял эмоции своего оста, добиваясь одобрения – бряцания оружием, как во время ptaid'a. Ему полагалось убеждать и подавать пример: он сидит на коне и напоминает о своей доблести, которую доказала его победа в 9 г., а Маробода называет трусом и беглецом, пошедшим на соглашение с римлянами, «предателем родины, заслуживающим, чтобы его отвергли с такой же беспощадностью, с какою они истребляли легионы Квинтилия Вара»{82}. Но Маробод, в свою очередь, хвалил себя и превозносил прежде всего Ингвиомера, который теперь был на его стороне как воплощение истинной славы херусков, не то что самозванец Арминий…
Самозванец, Верцингеториг наших немецких друзей? В самом деле, начался яростный спор. И яростная война, потому что завязался горячий бой с неясным исходом – однако, не столь уж неясным, коль скоро его прервали. Маробод предпочел не возобновлять бой, а отойти на возвышенность. Там он обнаружил, что дезертирства ослабили его силы. Иными словами, эта междоусобная война не то чтобы оказалась безобидной, но не вызвала и настоящего разгула братоубийственных страстей. Напротив, «Анналы» Тацита не единожды описывают старания военных вождей усилиться с помощью собственной группировки, редко пренебрегая поддержкой Рима и сталкивая одних противников с другими посредством пропаганды и оружия. Стоит одному из них добиться существенных успехов, как против него начинают негодовать, даже в рядах его родичей, и он теряет поддержку Рима, пусть он и пользовался ею поначалу. После чего он обычно бежит, реже его убивают. Соперничество германцев и макиавеллизм империи сдерживают честолюбцев и способствуют сохранению чисто аристократической системы.
Вот еще одна характерная история – 47 г. Молодой херуск царской крови вырос в Риме, где с ним обходились, скорей, как с согражданином, чем как с заложником; он носил имя Италик, «обладал красивой наружностью и хорошо умел управляться с конем и оружием как на отеческий лад, так и по-нашему»{83}. По отцу он происходил из херусков (был сыном брата-врага Арминия, сторонника римлян), по матери – из хаттов. А херуски как раз «испросили царя из Рима». И это гордые победители Вара! Что же произошло? Об этом подробно не говорится ни у Тацита (в «Анналах» которого есть лакуна между 6 и 11 книгами), ни у других. Похоже, «знать» херусков «была истреблена во время междоусобных войн», и он остался единственным представителем царской крови.
Если это правда, плохо понятно, почему немного позже обнаруживаются вожди клики, которых раздражает его внезапное появление. Несомненно, его хотели сделать внешним арбитром, не связанным ни с какими группировками, настоящим псевдоиностранцем. Не будем воспринимать буквально идею, что «междоусобные войны» – непременно гекатомбы[18]18
Пусть даже они изображены таковыми в Германии, 33 (с. 475). Похоже, римляне были несколько склонны принимать желаемое за действительное.
[Закрыть].
Может быть, молодой Италик был уцелевшим потомком виднейшего рода херусков, задним числом объявленного «царским». Хотелось бы знать об этом больше, а также хотелось бы, чтобы Тацит сообщил, было ли Италику на собрании херусков вручено оружие по обычаю, описанному в главе 13 «Германии». Но, правду сказать, ни в «Истории», ни в «Анналах» он никогда не упоминает об этом обряде.
Во всяком случае молодого Италика поначалу приняли приветливо и хорошо. Он приобрел имя. Но его возвращение, по сути прибытие, на родину, где он не родился, вызвало недовольство некоторых херусков, которым были выгодны раздоры. Они скрылись, чтобы искать поддержки у соседних народов. Италик, обвиненный в том, что он ставленник римлян, обратился к своей знати и предложил: «пусть они испытают его доблесть на деле, и он покажет, достоин ли своего дяди Арминия, своего деда Актумера» (хатта, его предка по матери){84}. В самом деле, он одержал победу в сражении, но решительную. Он впал в высокомерие, – а как не впасть в него, когда царствуешь за счет примера и убеждения? И его изгнали…
Из истории Италика хорошо видно, какие трудности возникали при попытке стать царем у германцев. Любопытно, что далее сразу же описана неудача римского полководца Корбулона. Это был властный командир, он восстановил былую дисциплину в легионах на Рейне.
Ведь если германцы терзали друг друга, то на римской армии сказывался упадок режима, иногда в ней вспыхивали мятежи. Другая система – другие проблемы. Легионер – не аристократ, в мирное время предающийся праздности; наоборот, в это время ему устраивают учения, принуждают заниматься земляными работами. Его праздности опасаются. А ведь в 47 г. для легионов были характерны расхлябанность, грабежи, неподобающие инициативы. Корбулон отреагировал на это и ввел смертную казнь за мелкие нарушения дисциплины. И он уже был готов идти на германцев.
Но император Клавдий этого не хотел. В империи считали, что если такой человек, как Корбулон, «добьется успеха, [он] станет опасной угрозою для гражданского мира и непосильным бременем для столь вялого принцепса»{85}. Поэтому Корбулону не дали покрыть себя славой в Германии. И этот человек долга мог только вздохнуть: «О, какими счастливцами были некогда римские полководцы!»[19]19
Может быть, он тайно завидовал германцам?
[Закрыть] Действительно, в то время вспоминали «образцы доблести и величия, явленные римским характером при былых нравах»{86}. Но доблесть больше не стояла на повестке дня, так что Корбулон велел отступать и приказал своим легионам прорыть канал от Мааса до Рейна, «чтобы не дать воинам закоснеть в праздности». После этого Клавдий все-таки предоставил ему «триумфальные отличия, хотя и не дозволил вести войну»{87}. И перевел его на Восток.
Таким образом, цезари 1 в. н. э., руководящие государственным аппаратом, запрещали отборным солдатам отличаться, выказывать доблесть. Может ли могущественный государь допустить, чтобы рядом с ним были знатные люди, имеющие слишком высокий престиж? Так что непохоже, чтобы «средневековое рыцарство» могло иметь римское происхождение, как недавно заявил Карл Фердинанд Вернер, разве что если дать этому рыцарству иное определение, чем в настоящем эссе. Когда в Средние века, например в царствование Людовика Благочестивого, в тысячном году или в XII в., вдруг возникают римский лексикон и римские идеи о militia [воинстве], это, скорей, значит, что власть пытается приручить и ослабить рыцарство, принудить его к покорности.
Однако идеалы римлян и германцев не прямо противоположны: разве отдельные знатные воины, отдельные офицеры-аристократы не набирались храбрости и не изъявляли готовности к реваншу при неудачах? С другой стороны, противостоя друг другу, они неизбежно перенимали друг у друга технику и приемы, так что опыт у них был общий. Мы уже в двух случаях, в отношении херусков и хаттов, обнаруживали, что германцы брали за образец римскую дисциплину.
Впрочем, очень скоро римляне стали использовать германские вспомогательные войска: Цезарь – в галльской войне, Клавдий – в войне за Британию (с 43 г.). И именно батавские[20]20
Батавы – племя, родственное хаттам, которое было изгнано в результате внутренних усобиц.
[Закрыть] когорты, то есть германцы из устья Рейна, последовав за вождем, создали в 69 г. серьезную проблему, зафиксированную в «Истории» Тацита.
Этот военачальник принял римское имя Юлий Цивилис – можно было бы сказать «Жюль Сивиль», если бы это не звучало фальшиво. Он служил Риму в Британии, но попытался избавиться от этой службы, воспользовавшись смутами в империи в 69 г. – в году четырех императоров, – когда многих из чистокровных римлян вывели с Рейна. Цивилис поначалу сделал вид, что поддерживает Вителлия, любимца римской солдатни (против Веспасиана, которому симпатизировали офицеры). Но вскорости, как показывает Тацит, Цивилис стал подстрекать батавов к восстанию. И тогда «поставили его на большой щит и подняли на плечи; он стоял, слегка покачиваясь, высоко над головами; это значило, что его выбрали вождем племени» (dux)[21]21
История, IV, 15. С. 697. [В русском переводе здесь речь идет о племени каннинефатов и вожде Бринноне. – Прим. пер.]
[Закрыть]. Поскольку в царстве историков сейчас модно отрицать германские черты у франков, то возникновение этого обычая, который прославили страницы Григория Турского, посвященные Хлодвиг{88}, историки с удовольствием приписали римским армиям – где он действительно отмечен в IV в. Но разве самое первое упоминание – все-таки не здесь? И разве это чисто римский контекст?
Вероятно, батавы Цивилиса, вовлеченные в кампанию за Ла-Маншем, уже усвоили какие-то поверхностные представления о римской дисциплине – позже херусков и раньше хаттов, своих родичей. Но Тацит описывает их, скорей, как свирепых и разнузданных германцев, какими они были издревле.
Цивилис и сам усвоил древний обычай. Он с начала восстания против Рима дал «варварский обет», близкий к обетам хаттов, как они описаны в «Германии»[22]22
Германия. 31 (с. 474): если «у остальных народов Германии [такое] встречается редко и всегда исходит из личного побуждения», то все хатты, достигнув возраста зрелого мужчины, отращивают волосы и бороду, пока не убьют врага (всего одного, в конце-то концов!).
[Закрыть], отращивать волосы. Он даже окрасил гриву в рыжий цвет и в самом деле остриг ее только после «разгрома» легионов{89}. Впрочем, делая такой жест, не намеревался ли он заодно еще раз, под видом жестокости, продемонстрировать аристократическую «свободу» германцев? Дать такой обет – в принципе значит самому выбрать цель, а также момент, когда считать ее достигнутой! Нельзя отрицать и воздействие на противника этих огненных волос, предвещающих пролитие крови. Это было в традиции причесок германцев, которые они делали «не из любострастия и желания нравиться, но стараясь придать себе этим убором более величественный и грозный вид»{90}.
К тому же Цивилис распустил слух, что отдал маленькому сыну нескольких пленников в качестве мишеней для его детских стрел и дротиков. Он также пользовался поддержкой девственницы-пророчицы Веледы из племени бруктеров.
В этом уборе, пользуясь такой репутацией и такими политическими связями, Цивилис мог призывать германцев вернуться к обычаям и привычкам отцов. Они обязаны снова взяться за оружие и порвать с теми удовольствиями, которые подчиняют их Риму. «Забудьте о рабстве, станьте опять прямыми и честными, и будете равны другим народам, а может быть, даже добьетесь власти над ними»{91}.
Иными словами, программа Цивилиса для германцев как будто описывает то, что Тацит изобразил как их реальную жизнь через тридцать лет, в «Германии», и то, что римлянин представлял, заново сочиняя эту речь[23]23
Он напишет «Историю» после «Германии».
[Закрыть]. Тем не менее на сей раз он дает понять, что «свобода» – не более чем лозунг, и вскрывает истинный смысл слов Цивилиса. Последний действительно не боится призывать к восстанию и галлов. Он им напоминает, что их предки обратились к римлянам, потому что междоусобицы изнурили их и стали смертельно опасными{92}, – подобно херускам в 47 г.?{93} «Почему же галлы не сбросят с себя иго римлян?»{94} «Разве они не хотят свободы, и они тоже?»[24]24
Обращение к тунграм, соседям с левого берега Рейна. [В русском переводе такой реплики нет. – Прим. пер.]
[Закрыть],{95} Этот призыв встретил слабый отклик, прежде всего потому, что император Клавдий в 48 г. дал галло-римской элите допуск ко всем магистратурам. «Они говорят о свободе и тому подобном, – добавляет Тацит, – но это лишь предлог [для людей типа Цивилиса]; всякий, кто возжелал захватить власть и поработить других, прибегает к громким словам»{96}.