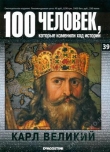Текст книги "Рыцарство от древней Германии до Франции XII века"
Автор книги: Доминик Бартелеми
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 47 страниц)
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ
И, несомненно, поскольку здесь все принадлежали к хорошему обществу, герцог Гильом мог впоследствии рассказать Ги де Ластуру, спев «Farai un vers, pos mi somelh»{788}, как он сам сыграл добрую шутку, обманув – для их же удовольствия – двух прекрасных замужних женщин. Их звали Аньес и Эрмесен, и он усыпил их недоверие уловкой, достойной уже «Декамерона». Чтобы проникнуть к ним, он притворился немым. Они провели его в свой покой и подали обед. Но потом, чтобы испытать, на самом ли деле он немой, они принесли кота, который стал его царапать. Это было почти что рыцарское испытание, ведь, чтобы не закричать, требовались мужество и стойкость – и надежда на приятное времяпровождение впоследствии. В самом деле, обе дамы, убедившись, что он ничего не расскажет о них и о себе, приготовили ему баню, и им было хорошо! Ибо, добавляет этот адепт любви втроем, «я имел их сто восемьдесят восемь раз». Каждую или суммарно? Если только это не плод его воображения, разгулявшегося, дабы хвалиться перед Ги де Ластуром или кем-нибудь еще. Действительно, в мужской компании было принято вовсю хвастаться любовными победами, как и богатством. Женщины – как перец: сколько их ни будь, все мало, а адюльтер придает им вкус.
Этот лихой герцог был первым трубадуром, внесенным в список таковых, автором одиннадцати кансон, положивших начало лирике на языке «ок»{789} и создавших ему превосходную репутацию «пылкого любителя женщин»{790}, trechador de domnas[200]200
Les Biographies... P. 7. [Русский перевод: Жизнеописания трубадуров... С. 8. В этом издании: «превеликого обманщика женщин».) Эти vidas XIII в. посвящены творчеству отдельных трубадуров, задуманы для прославления их и не представляют собой результат исторического исследования.
[Закрыть] – это был Вильгельм Завоеватель Дам. Пусть даже он чередовал с этим распутством некоторую новизну, изящную похвалу радости в рамках жанра fin'amor [утонченной любви]. Действительно ли его кансоны выражали истинные чувства автора, соответствовали конкретным эпизодам его жизни? Как правило, исследователи склонны верить этому в отношении последней, «Pos de chantar» [Про то стихи сейчас сложу], где автор принимает решение в преддверии смерти закончить жизнь не Дон Жуаном, бросающим вызов Богу, а поступить по-христиански и отринуть, отбросить cavalaria et orgueill [всю гордость рыцарства, весь пыл[201]201
Пер. А. Г. Наймана.
[Закрыть]]. И тревожится о сыне, окруженном князьями, которые хотят ослабить его власть. И хочет, чтобы его самого почтили благородным погребением{791}.
Но правда ли, что слова по адресу дам, содержащиеся в предыдущих кансонах, он сочинил, действительно добиваясь их расположения? Или это развлечение в чистом виде, условные жалобы в соответствии с некими правилами любовного служения и риторических стратегий? Турниры, конечно, были сражениями искусственными. Но почему бы не представить, что некоторые из этих диалогов, как случалось и с турнирами, оказались серьезней, чем было принято? Любовное служение было игрой, но могло статься, что дело доходило до настоящих попыток обольщения и до реальных любовных удач и неудач.
Так, герцог Гильом, человек очень плотский и очень хитрый, при общении с дамами притворившийся немым, вновь обрел свой язык (окситанский) перед сеньорами! Он сделал вид, что ведет с женщинами такую же конфронтацию, как и с мужчинами. Он в той же пропорции проявлял к ним взаимное уважение и враждебность. О своей даме Гильом поет: «Она мне напоминает о том утре, когда мы положили конец войне и когда она дала мне великий дар – свою любовь и свое кольцо»{792} [Так, однажды, в лучах зари / Мы закончить войну смогли, / И великий дар меня ждал: / Дав кольцо, пустила в свой дом[202]202
Пер. А. Г. Наймана.
[Закрыть]]. Это «феодальный» тип отношений, пусть даже, в конечном счете, автор имел в виду совсем иной контекст! Во всяком случае это не полная покорность, не мифическая вассальная преданность, выдуманная старой исторической школой (XIX в.), внезапно претворившаяся в любовь. Женщина здесь – не идол и не добыча, она партнерша в игре, и у нее есть свои козыри, ей есть что дать и что получить, в соответствии с правилами. Она тоже может сделать попытку добиться неких обязательств в своем отношении. Скажем даже, что добивается она этого успешно! «Моя дама изведывает меня и испытывает, чтобы узнать, как я ее люблю; но никогда, как бы ни искала она со мной ссор, я не сброшу ее уз»{793}. Можно было бы подумать, что читаешь «Conventurn», написанный в интересах Гуго Хилиарха, если бы язык здесь не был чище и красивей. И речь трубадура в конце концов становится по-настоящему лиричной. Он нуждается в любви, трепещет от нее, содрогается от нее. «Я бы умер, клянусь головой святого Григория [своей реликвией], если бы она не подарила мне поцелуй в закрытой комнате или под сенью дерев»{794}.
Окситанская поэзия произросла на почве рыцарского общества Аквитании, вероятно, не менее воинственного и не менее склонного к развлечениям и к играм, чем общество на Севере, – впрочем, постоянную связь с последним мы обнаруживаем то и дело. Не следует думать, что здесь быстро и внезапно научились утонченности или же молниеносно открыли для себя Женщину и тем самым сформировали такое рыцарство, которое целиком посвятило себя служению ей, безукоризненно вежливое и слащавое. Здесь скорее обожали подвиги любви трудной, запретной и возбуждающей. Ведь у рассказов и песен такого рода были свои «фанаты», как сказали бы мы, – видимо, молодых холостых рыцарей здесь хватало[203]203
Это в косвенной форме дает понять Жоффруа из Вижуа (Geoffroi de Vigeois. I, 74): около 1180 г. он с тревогой отмечает, что все братья-рыцари хотят жениться, а из-за этого дробятся наследства ... Значит, раньше, в эпоху герцога-трубадура, многие так и не женились.
[Закрыть]. Эта поэзия не столько освобождает феодальную женщину, сколько высвобождает вожделение рыцаря к ней и вносит настоящую молодую силу в это радостное утверждение желания любить, выраженное в самых разных регистрах, желания жить настоящим в духе, довольно далеком от религиозного.
Когда Гильом IX говорит о двух своих любовницах, это могло быть уже некой поэзией для посвященных, если бы параллель между обладанием двумя женщинами и обладанием двумя конями или двумя замками не была ясна как день. В таком же ухарском тоне говорят о костях, какие бросают на игорный стол!{795} В этой поэзии контрапунктом сентиментальным песням служат достаточно вольные стихи.
Какой-нибудь Джауфре Рюдель, «князь» (сеньор) Блайи, с его amor de lonh [дальней любовью] к далекой принцессе, – разве не робкий вздыхатель, галантный кавалер, о каком только может мечтать цивилизованная женщина? «Любовь из дальней земли, все мое сердце страдает без вас». И в благе, которого он ищет, благе сладостной встречи, ему отказано, «нет ничего странного в огне, который меня сжигает. Ибо никогда не было более прекрасной женщины ни среди христианок, ни среди евреек или сарацинок, этого не потерпел бы Бог; какой манной угощают того, кто может приблизиться к своей любви». Но Джауфре Рюдель к ней не приближается, терзаясь лишь одним опасением – «вдруг другой, а не я, страстно ее пожелает или увезет»{796}. Мимоходом заметим: трудно представить, чтобы столь болезненно-высокая оценка блага, за которое окситанские рыцари боролись между собой, могла бы сделать их миролюбивей! Ревность никогда не смягчала ничьего сердца, и в другой кансоне Джауфре Рюделя упоминается очень затруднительное положение любовника, захваченного на месте преступления, во время causa doucena. Рогоносцы Лангедока рыцарским великодушием не отличались…
Возможно, Джауфре Рюдель в своей печальной любви выражал, если верить Эриху Кёлеру, обманутые ожидания и социальный сплин класса мелких рыцарей, обедневших в XII в., разочаровавшихся в князьях, которые дают слишком мало и не всех спасают от упадка{797}. В таком случае это дальняя любовь к утраченному социальному положению. Но благодаря Жоффруа из Вижуа мы уже видели, что южные дворы были скорей склонны к безумствам, чем к унынию. А обратившись к творчеству Бертрана де Борна, мы прежде всего увидим откровенное и неприкрашенное желание получать милости (мы увидели бы это в творчестве и многих других трубадуров). Зачем тогда было бы выражать это желание обиняками?
Можно было бы также отметить язвительность какого-нибудь Маркабрюна в сатире на женщин и его ядовитые намеки на рыцарей сомнительного происхождения{798}. Однако у одного из последних, Бернарта де Вентадорна, выходца из семьи министериалов, можно обнаружить строгую сдержанность и склонность погружаться в свои мысли, граничащую с нарциссизмом{799}. Итак, рыцарство теперь выставляло напоказ умение красиво любить, как с начала исторических времен демонстрировало красивую воинскую смелость.
Поэзия трубадуров повлияла на поэзию Севера через посредство двора Алиеноры. Способствовала ли тем самым эта поэзия смягчению нравов? Доказать это было бы непросто, и притом для этого ей бы следовало самой проникнуться мягкостью. А ведь она отнюдь не столь уж спокойна и не пресна. Она воспевает суровые испытания, выдвигает настойчивые, пылкие требования к прелестным женщинам и к богатым мужчинам, никогда не возносит хвалу мирной жизни и также не слишком жалует хорошие манеры. Она вся написана во славу знатного мужчины – лихого молодца и его партнерши, которая составляет ему достойную пару. А если он там и сям завоевывает пухлую «пастушку», то за счет того, что уверяет ее, будто она выглядит как дочь рыцаря, и ей дадут красивые наряды, – все с целью запудрить мозги и завалить на траву.
Впрочем, эта поэзия посвящена не только любви. Пусть у Бертрана де Борна есть подруга, но ее очаровательная анатомия, «руки круглы, грудь без изъяна, / Как у кролика – выгиб стана»{800}, не более чем на строфу отвлекает его от требований к своему князю вести добрые малые войны, которые бы поправили финансовое положение рядового рыцаря, слишком «бедного». И ему по душе война стычек и осад против своего брата-врага Константина. Этот барон, сеньор Аутафорта в Перигоре, отражает в творчестве собственную жизнь, отмечая этапы борьбы и резкие перемены. Он поднимает оружие против герцога Ричарда Львиное Сердце – не столько, может быть, ради защиты прерогатив «высокородных мужей», сколько потому, что герцога поддерживает его брат.
Однако он адресуется к самым обычным рыцарям княжеского двора, участникам стычек, поединков, когда находится среди них, и даже к какому-нибудь рутьеру-«брабантцу», затесавшемуся в их ряды[204]204
В плаче по Генриху (№ 13) он жалуется именно им на утрату последнего.
[Закрыть]. Именно рыцарям он говорит о желании участвовать в славных малых войнах, чтобы получать похвалы и выгоду. Самая знаменитая из его сирвент – та, что начинается словами «Ben platz lo gais tempos de Pascor»{801}: «Мила мне радость вешних дней, / И свежих листьев, и цветов». Действительно, напев птиц он слышит, но все-таки «милей – глазами по лугам / Считать шатры и здесь и там / И, схватки ожидая, / Скользить по рыцарским рядам / И по оседланным коням». Словно война – это праздник, как, должно быть, воспринимал ее в двадцать лет Людовик VI в 1100 г. «Е platz mi» (и мне нравится), настаивает Бертран де Борн, видеть людей, бегущих от разведчиков, осажденные замки, поваленные частоколы. «Лишь тот мне мил среди князей, / Кто в битву ринуться готов, / Чтобы пылкой доблестью своей (ab valen vasselatge) / Бодрить сердца своих бойцов, / Доспехами бряцая». Чтобы заслужить уважение, надо наносить и получать удары, надо, чтобы разлетались шлемы, чтобы раскалывались щиты, чтобы убивали и ранили. «А стычка удалая / Вассалов! Любо их мечам / Ходить по грудям, по плечам, / Удары раздавая! / Здесь гибель ходит по пятам, / Но лучше смерть, чем стыд и срам».
Итак, призыв к самому жестокому рыцарскому бою, возникший в том краю, где, по утверждению стольких книг Нового времени, ласковость женщин «окультурила» трубадуров! Что это за песнь о смерти, априори более достойная Тацитова германца, свевского вождя с его комитатом или свирепого франка из армии Хлодвига, чем окситанского француза под ясным солнцем XII в.? Во всяком случае эта сирвента перекликается с героическим идеалом «жест». По сути Бертран де Борн очень откровенно причисляет себя к их эпическим героям. Он даже радуется, что Герри Рыжий вернул Рауля Камбрейского, уже было склонявшегося к миру, на прямой путь неумолимой мести{802}. Но, правду сказать, наш Бертран – не Рауль Камбрейский, погибший от своей неуемности, и не Жирар Руссильонский, которого близкие обрекли на двадцать лет одиночества в пустынном лесу. Нет, он слишком любит двор и щедроты, чтобы отказываться от любых сделок с противником, – и бьемся о заклад, что в бою он был не столь кровожаден, как на словах. В чем, кстати, он не слишком резко отличался от древних германцев или франков и прежде всего походил на тех сеньоров, о войнах которых рассказывает Жоффруа из Вижуа и которые как добрые феодалы предпочитали попасть в плен, чем погибнуть.
Бертран де Борн любит двор и его щедроты. Он умеет писать надгробные песни в честь князей. Вот хотя бы его плач по Генриху Молодому, сеньору Вильгельма Маршала, умершему в 1183 г. во цвете лет:
«Дух благородства навеки утрачен, / Голос учтивый, пожалуйте-в-дом, / Замок богатый, любезный прием, / Всякий ущерб был им щедро оплачен»{803}. Ах, будь он жив – он стал бы «reis dels cortes е dels pros emperaire» («королем куртуазных людей, императором героев»), он, князь юности! Но «сталь шпаг и байдан, / Штандарт и колчан / Нетронутых стрел, / И плащ златоткан, / И новый камзол / Теперь во владенье / Лишь жалкого тленья». Увы, увы, рыцарство умерло!
Тем не менее оно не замедлит воскреснуть в лице родных братьев Генриха, в турнирном бойце Жоффруа Бретонском (по прозвищу Расса)[205]205
Он, в свою очередь, умер в 1186 г.
[Закрыть] и прежде всего в Ричарде Львиное Сердце (по прозвищу Да-и-Нет). Против последнего наш Бертран сначала бунтовал, но добился его прощения и расточает ему стихотворные комплименты… Его песни написаны с конкретным расчетом, как песни пуатевинских пленников из Фонтен-Милона{804}.
Если принять тезис Эриха Кёлера, Бертран де Борн выглядит человеком, открыто и без обиняков говорящим о том, что другие трубадуры подразумевают под стремлением к даме. У него, конечно, есть дама, которой можно служить как возлюбленной, настаивать перед ней на своей невиновности и требовать должного. Но даже говоря о любви, он сохраняет социологический подход: «Расса, – обращается он к Жоффруа Бретонскому, – высшей доблести грани / В сердце зрит она, а не в сане», видит «благородство в рвани», в «pros paubres» (бедных героях), поэтому «я советчик ее» (имеется в виду любовная поддержка, любовное служение). Ах, как она права, если «в любви изберет / Тех, чей дух высок, а не род, / Ибо нас бесславит почет / От иных преславных господ»{805}!
Сам Бертран стоит не на столь уж низкой ступени в феодальной иерархии, и нельзя сказать, что его не за что упрекнуть. Однажды его изобличают в измене даме (если только это не вымышленный эпизод, придуманный, чтобы написать блестящее стихотворение). Он пылко защищается, обещая себе ряд проблем в случае, если бы он стал ухаживать за другой, давая нечто вроде мирской клятвы. И эти обещанные неприятности формируют негативную картину всего того, в чем он бы хотел преуспеть, чтобы стать превосходным рыцарем, и что может вызвать интерес у его аудитории. Вкратце содержание его речи – следующее: если мои клеветники правы, «пусть кречета, схватив с моей руки, / Лохматые ощиплют ястребки, / И станет он бессилен и беспер»[206]206
Значит, он любит охоту, хотя в другом месте (№ 8) ее порицает.
[Закрыть]. Или же пусть я стану импотентом, пусть я проиграю в игре, пусть я разделю свой замок с тремя другими владельцами, – а ведь представить даже единственного брата, Константина, «совладельцем» Аутафорта ему было совсем не забавно! Но на том список возможных бед не заканчивается: ему еще придется обойтись без таких специалистов, как врачи, арбалетчики, сержанты, часовые и привратники, стерпеть побои от привратников прямо при королевском дворе (то есть изгнание из него), бежать из сражения, скакать в дурную погоду на коне со слишком короткими поводьями и слишком длинными путлищами, то есть все у него пойдет вкривь и вкось… Вот сколько поводов для стыда. Не говоря уже о гипотезе «пускай с другим [рыцарем] вы станете близки»{806} – ладно еще, что не с клириком!
Этот сеньор замка, интригующий против брата и ведущий феодальные войны, не более непримиримо относится к Ричарду Львиное Сердце, чем относились к своим князьям какой-нибудь Гуго дю Пюизе или Жиро Белле. Он способен даже пересмотреть некоторые из своих суждений вплоть до того, что при случае становится певцом, выразителем требований рыцарей-наемников. Он то превозносит яростную войну, то упрекает князей за то, что они поощряют разработку новой техники, такой как осадные машины, и гаджетов вроде угловых башен и поворотных лестниц в своих замках: за это они платят большие деньги специалистам, работникам физического труда, а хорошее общество их осуждает. Не нравится ему, что они ездят на охоту: от рогов и труб столько шума, весь этот зверинец из птиц и собак совсем недостоин рыцаря{807}. Его настроение переменчиво и в отношении других вещей – или, скорей, он применяется к аудитории и к обстоятельствам. Довольно много окситанских рыцарей ездит на турниры. Бертран иногда благосклонен к «воинам и турнирным бойцам»; однако, будучи не в духе{808}, он обнаруживает среди «турнирных рубак» множество мошенников (gualiadors). Пусть лучше каждый из князей «осыплет их [своих рыцарей] градом благ», дарует им землю и куртуазно к ним относится. Бертран де Борн доходит до утверждения, что наемников надо даже награждать «и к празднику, и к посту»{809}.[207]207
В песне, которая, возможно, принадлежит не ему (№ 14), говорится о «куртуазных наемниках».
[Закрыть]
Он вполне отличает благородных рыцарей от рутьеров, о зверствах которых говорил Жоффруа из Вижуа и оправдывал тем самым зверства по отношению к последним. Сам Бертран отрицает, что имел с ними дело: «Мне ненавистно общество баскских рутьеров, как ненавистно общество шлюх»{810}. Но можно ли полностью ему в этом доверять? В другом месте он уделяет внимание «брабантцам», которые очень удручены смертью Генриха Молодого{811} – и требуют от Вильгельма Маршала заплатить его долги. И если даже не он, то его брат Константин с ними водился.
Только о городских буржуа он никогда не говорит ничего хорошего!
СОГЛАШЕНИЯ С ЦЕРКОВЬЮ
Воспевая любовь и войну в очень мирской манере, трубадуры не освобождают аквитанских рыцарей ни от Бога, ни от сеньора. Многие из них закончили жизнь благочестиво, как герцог Гильом IX, который в последней песне отрекся от cavallaria и от orgueill{812}, и как Бертран де Борн, ранее 1196 г. поступивший в монахи в ци-стерцианское аббатство Далон недалеко от своей сеньории. Жоффруа из Вижуа в конце первой книги своей хроники может, не выразив чрезмерного пессимизма, сделать рассудительный вывод о том, какими христианами можно считать сеньоров его местности. Он, следуя давней традиции монахов-критиков, начинает с сожалений по поводу «нынешней моды», чрезмерная пышность которой контрастирует с умеренностью прежних времен – когда у сеньоров, по его мнению, оставалось больше богатств, чтобы отдавать церквам{813}.
В 1184 г. мода, продолжая свои колебательные движения, вернулась к богатым одеждам с длинными рукавами, и «подлые люди» стали одеваться роскошней баронов былых времен. Но если мы сравним Жоффруа из Вижуа с монахами – хулителями рыцарей тысячного и тысяча сотого годов, с каким-нибудь Раулем Глабером, с каким-нибудь Ордериком Виталием{814}, он, скорей, выглядит более сдержанным. Его перо не спешит выражать пафос и выдавать, как у них, подавленные желания. Нет, теперь он, скорей, социологичен, он обнаруживает вульгаризацию нравов знати – например, ношение башмаков, ставших «плебейскими».
Его перо еще и прагматично: его владелец выдает рыцарям – своим современникам (1184) аттестат в том, что они достаточно хорошие христиане. «Они часто поступают в монастыри [тот же Бертран де Борн вскоре это сделает] или в странноприимные заведения» – благотворительность была в XII в. делом достаточно новым, и ее, несомненно, стимулировали буржуазные элементы[208]208
Она также позволяла сохранять полумонашеский статус.
[Закрыть]. «И так же часто, – продолжает Жоффруа из Вижуа, – они совершают паломничество в Иерусалим. Многие не полностью возмещают ущерб, нанесенный их преступлениями, но все-таки они искупают его в большей мере, чем если бы оставались дома. Ради Христа они подвергают смертельной опасности тело, покидая детей, супруг, наследие»{815}. Поэтому не стоит, и это настроение хорошо чувствуется, проявлять к ним излишнюю суровость, желать полного изменения их нравов; несомненно, достаточно, чтобы миновала «юность» – поэзия трубадуров сама в полной мере обладала порывистостью юности с ее пылом, нетерпением, пристрастием к чрезмерным обещаниям и к вызовам[209]209
Говоря это, я не игнорирую разнообразие тональностей и сюжетов, которое присуще этой поэзии и позволяет филологам и историкам осуществлять очень яркий анализ – намного превышающий возможности и рамки настоящего эссе.
[Закрыть]. В общем, надо призывать людей совершенствоваться, – повторяет приор Вижуа, – и в то же время не доводить их до отчаяния. Христиане должны сохранять веру в покаяние и мессу, которые поносят «еретики»{816} – те, кого мы называем «катарами» и кому целая система мифов, созданных в Средние века и Новое время, приписала приверженность представлениям восточного манихейства, вместо того чтобы понять: их сомнения и требования возникли под влиянием сомнений и требований первого григорианского поколения, возникших еще до компромисса тысяча сотого года{817}.
Жоффруа из Вижуа не упоминает здесь одну из причин, по которым Церковь раздражала южных рыцарей, – ее желание «отнять» у них десятину, которую они собирали вопреки канонам. Однако, учитывая сокращение их богатств[210]210
Отмеченное Жоффруа из Вижуа: Geoffroi de Vigeois. I, 74; он связывает это явление с тем, что младшие сыновья чаще стали жениться, и с дроблением сеньорий, которое стало следствием.
[Закрыть], ей, возможно, следовало бы пойти на уступки. Озлобленность вскоре подтолкнет некоторых из них к ереси.
Ни на Юге, ни на Севере рыцари и народ не собирались массами покидать лоно Церкви. Можно было бы даже отметить, что в своем пастырском рвении, усилившемся со времен григорианской реформы, она научилась проявлять особую тактичность по отношению к рыцарству – прежде всего к выгоде князей, которые ей покровительствовали.
Весь понтификат Александра III (1159–1181) был наполнен осуждениями наемничества, и этот папа оказывал давление на короля Людовика VII и императора Фридриха Барбароссу, чтобы они прекратили прибегать к помощи наемников. В 1179 г. Третий Латеранский собор провозгласил настоящий крестовый поход против наемников внутри христианского мира. Однако этот поход почти не проповедовали. Потребовалось явление Богоматери одному ремесленнику в Ле-Пюи-ан-Веле, в 1181 г., чтобы сформировалось братство миротворцев, взявшее на себя задачу уничтожать наемников, которые рыскали по Центральному массиву. Жоффруа из Вижуа восторгается этим братством[211]211
Ibid. II, 22 и намеки на наемников, «басков» или «пайеров» (Paillers), разбросанные по всей второй книге.
[Закрыть], хоть ему были известны бесчинства, устраиваемые братьями, и для него не была секретом их связь со многими баронами. После этой записи его «Хроника» обрывается. Но впоследствии успехи братства «присяжных» (jures), фактически довольно близкого к коммунальному движению, вызвали беспокойство у высших церковных иерархов. Стало известно, что братьев излишне возмущает несправедливость сеньоров. Миротворцам приписали безумные замыслы, даже бесовское наущение упразднить различие между знатными и сервами… Поэтому епископ Осерский Гуго де Нуайе покончил с этим движением: он возглавил ост, собранный, чтобы взять братьев в плен, и наложил на них суровое покаяние{818}.
Если наемники в какой-то мере были конкурентами рыцарей, последние обычно не становились их жертвами, и, возможно, некоторые даже затесались в число наемников… Бертран де Борн в своих сирвентах их то хвалит, то хулит. Прежде всего они были полезны для князей и баронов.
Третий Латеранский собор 1179 г. напомнил также о запрете на турниры, «мерзкие торжища». Он, конечно, не дошел до того, чтобы упомянуть, пусть даже мимоходом, о крестовом походе на турнирных бойцов. Но даже в вопросах запрета на их погребение Церковь на практике всегда уступала. Прежде всего она постаралась призвать турнирных бойцов в крестовый поход, чтобы они искупили свои прегрешения{819}… и применили опыт, приобретенный на турнирах, на благо Церкви. Трувер Конон Бетюнский сожалеет, что оставляет свою подругу, отправляясь в Третий крестовый поход (1198). Тело уходит, в то время как сердце остается во Франции… Также хорошее дело – «совершать рыцарские подвиги» в Святой земле, завоевывая одновременно рай и честь, «et pris et los et l'amor de s'amie» [и награду, и славу, и любовь своей подруги]{820}.[212]212
Поэзия труверов (на языке «ойль»), отчасти вдохновленная поэзией трубадуров (на языке «ок»), имеет тоже игровой характер и немного менее изощрена. Она выглядит менее пылкой, ее более «цивилизовали» большие дворы: см. выше. С. 371.
[Закрыть]
Впрочем, осуждая турниры, Церковь XII в. допускает, чтобы в отдельных рассказах о чудесах турнирные бойцы изображались с сочувствием. В Вандомуа происходила «та игра, где упражняются воины, в разговорном языке именуемая турниром». Один турнирный боец в сече, чтобы забрать коня, хватает его за повод, а всадник шпорит этого коня, чтобы вырваться, и уже не может остановить. Конь увлекает его в «очень глубокую реку» (уточним: Луару!..) Тогда рыцарь взывает к Шартрской Богоматери. И она спасает его из опасности{821}, потребовав только, чтобы он больше не ездил на турниры. Более того: разве в одном сборнике назидательных историй (exempla), составленном немецким цистерцианцем Цезарием Гейстербахским (между 1219 и 1223), Дева Мария не оказывает любящему ее рыцарю довольно смелую милость? Ведь он настолько ей предан, что, дабы не пропустить субботнюю мессу, отказывается от участия в турнире, где считался фаворитом, способным завоевать «приз». А тем временем Богоматерь переодевается, берет его оружие и выдает себя за него, – находясь на мессе, он выигрывает турнир, не зная этого!{822}
Так что, похоже, до 1200 г. дожили и любезность святых тысячного года, и даже гротескный аспект поведения святой Веры Конкской. Дева Мария ничего не имеет против рыцарства. Она только требует от рыцарей, как и от всех остальных, кто обращается к ней, обращаться от всего сердца, а тону просителей в целом следовало быть учтивей, чем у некоторых исцеленных тысячного года, которые разговаривали со своими святыми с некоторой долей надменности, как взыскательные вассалы.
Благодетельствуя этим двум турнирным бойцам, Богоматерь в какой-то мере ведет себя как мать, которая умеренно заботится о соблюдении закона Бога-Отца против турниров – и нарушает его своей милостью.
В другой месте она проявляет определенную слабость, приступ симпатии и к жонглеру. Но в основном она склонна к нравоучениям, проявляя больше твердости, чем святые тысячного года{823}, – а значит, и Церковь уделяет нравоучениям больше внимания, распространяя назидательные рассказы о чудесах.
Вот некий аквитанский рыцарь. Он опасается, что враги его убьют – может быть, их особо возбудили сирвенты нашего Бертрана? Так что этот рыцарь направляется в Шартр, он умоляет о помощи Богоматерь и касается своими доспехами ее покрова, великой реликвии. Тем самым они становятся «кирасой святой Марии», непробиваемыми{824}. Заметьте, что Богоматерь не освящает наступательное оружие, в то время как «копье святой Веры» когда-то существовало{825}, – но, правда, броня тысячного года несравнима с броней тех времен, о которых идет речь. Прежде всего Богоматерь вливает в сердца врагов своего рыцаря христианский дух прощения – не требуя, однако, чтобы все они присоединились к какому-нибудь братству вроде братства из Ле-Пюи-ан-Веле, которое обязало бы их навсегда отказаться от взаимной мести.
Рокамадурская Богоматерь незадолго до 1172 г. исцеляет молодого рыцаря из Базаде от эпилепсии. В данном конкретном случае имеется архаичный мотив, каких в рассказах о чудесах, как правило, больше не будет: падучая героя – следствие гнева Бога и даже Святой Девы. Действительно, этот молодой муж рыцарской дочери мог бы жить счастливо, если бы соблюдал закон Божий. Но, увы, «он разделял привычки своего сословия или, скорее, увлечения и страсти своего легкомысленного возраста. Он только и думал, что о мирском», и, конечно, испытал некоторое влияние трубадуров высокого полета, герцога, виконта, сеньора замка… «Он стал необузданным игроком», тогда как соборы категорически запрещали азартные игры. «К тому же он не переставал оскорблять Бога богохульствами и доводить народ до отчаяния грабежами»{826}. И вот он заболел эпилепсией, тогда как в тысячном году понадобилось бы действие, направленное непосредственно во вред земле, людям или жеребятам святого[213]213
Но храм большой собственности не имел. Он принимал скорее ренты.
[Закрыть], чтобы случилась Божья кара – и отказ от чего-либо, дар Церкви, чтобы эта кара прекратилась. Здесь, напротив, все происходит в нравственной сфере, и рыцарь должен по-настоящему перевоспитаться – он обязуется исправить свой нрав, и вот он исцелен.
Однако сдержать клятву, данную Богоматери, оказывается трудно. Исцеленный поначалу ведет себя сдержанно и серьезно. Однако долго ли можно так жить в окружении других рыцарей? Надо видеть, как насмехается над ним тесть! Ведь тот не монах, а значит, трус (или даже импотент)? Очень реалистичный штрих.
Задетый за живое, рыцарь бросает кости (что у трубадуров означает также занятие любовью)… и тут же его болезнь возвращается. Он должен вернуться в Рокамадур, где совершает зрелищное публичное покаяние, близкое по типу к harmiscara{827}.[214]214
Оно часто упоминается в более классической форме (рыцари с седлом на спине) как публичное покаяние перед церковью после совершенных насилий: Люшер, Ашиль. Французское общество... С. 276.
[Закрыть] От входа в город до самого храма рыцаря, совершенно обнаженного, с веревкой на шее, тащат его люди. Его даже подгоняют ударами метлы. И он «перед всеми объявляет себя лжецом, клятвопреступником и злодеем». Он вызывает общее сочувствие, снова дает обет, и Богоматерь повторяет чудесное исцеление.
Этот рассказ служит контрапунктом рассказам о милостях Святой Девы к турнирным бойцам. И какой контраст со святой Верой из предыдущего века, которая лезла из кожи вон, чтобы помочь рыцарям приобрести волосы, коней, сокола и прочие безделицы, соответствующие их социальному статусу… А этот тесть, сыплющий насмешками, какие можно найти в «жестах», когда герои разгорячены жаркими спорами или жарким боем! Он уверяет, что намерен держать попов в ежовых рукавицах, и ему даже не приходит в голову попросить прощения за то, что сыграл роль провокатора[215]215
Кстати, Божий гнев его не настигает, как случилось бы с богохульником в тысячном году.
[Закрыть]…
Мы отметили, что незадолго до 1200 г. отношения между Церковью и рыцарями были по-настоящему напряженными. Во всяком случае некоторые представители высшего духовенства, воспитанные в парижских школах, в своих проповедях метали громы, обличая прегрешения рыцарства – гордыню, турниры, разнообразную социальную жестокость (в том числе грабежи). Но ведь и другие социальные категории были не менее грешны и подвергались не менее суровым обличениям. В конечном счете более всего от моралистов доставалось ростовщикам, но обличители не щадили ни крестьян, ни женщин, никого{828}. Эту критику можно сопоставить с выступлениями баронов против вмешательства церковной юстиции в их дела, а также с литературой, бичующей клириков средствами сатиры или превозносящей рыцарей. Все это выходит за рамки нашего исследования, посвященного временам не позже 1190 г.
Тем не менее невозможно не упомянуть «Историю Вильгельма Маршала», хотя она вышла уже после смерти паладина, ставшего знатным бароном, в 1219 г. В молодости его не беспокоил запрет на турниры – даже если был ему известен. Но на смертном одре он слышит повеление вернуть то, что взял. А ведь доходы от турниров, от этих нечестивых торжищ, – едва ли не то же самое, что доходы от ростовщичества, их надо вернуть жертвам или, в отсутствие таковых, Церкви и бедным. В этот момент старик еще раз показал, что неустрашим и дорожит трофеями, которые приобрел благодаря подвигам. Вот что он заявил, согласно «Истории»: «Клирики слишком суровы к нам. Они стригут нас слишком коротко. Я взял в плен пятьсот рыцарей и оставил себе их доспехи и боевых коней со всей сбруей. Если из-за этого меня не пустят в царствие небесное, ничего не поделаешь, но всё вернуть я не могу». Впрочем, требовать того, что по случайности взяли другие, не приходилось, так как «История Вильгельма Маршала» признает только одно поражение, и то допущенное по оплошности… «Так что, – продолжает умирающий, – я думаю лишь о том, что предать самого себя Богу, сожалея о своих грехах и обо всем зле, которое я совершил». А если клирики настаивают, – заключает он, – то «их речь лжива», поскольку предполагает, что спастись не может никто{829}.