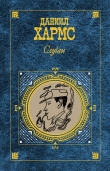Текст книги "Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета"
Автор книги: Дмитрий Токарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Но «ослепление» – это уже второй этап преодоления телесности, первый же – это самообнажение, освобождение от условностей, накладываемых обществом. Вспомним, что любимое занятие Мэрфи до того, как он поступил санитаром в психиатрическую лечебницу, заключалось в раскачивании обнаженным в кресле-качалке; так же поступает он и сейчас: прежде чем попытаться воскресить в своей памяти образы отца, матери, Сэлии, он снимает с себя всю одежду, возвращаясь к исходному для всякого человека состоянию наготы. Не приходится удивляться, что попытка Мэрфи с самого начала обречена на провал: оставшись обнаженным, он утрачивает связи с внешним миром, перестает быть не только санитаром по фамилии Мэрфи, но и просто Мэрфи. Мэрфи становится «человеком без свойств», человеком без имени, без прошлого, а значит и без будущего. Самого Мэрфи, кстати, такая перспектива страшит, поэтому он решает вернуться в свою мансарду и для успокоения покачаться в своем кресле. Однако как будто какая-то сила, сила внутреннего перерождения, влечет его к окончательному растворению в ничто, в пустоте.
В шестой главе романа Беккет подробно описывает три зоны духа Мэрфи: первая зона, зона света, – ментальный аналог физического мира; во второй, так называемой зоне Белаквы, царствуют сумерки. Вторая зона не имеет параллелей во внешнем мире, она замкнута на себе, это зона бессознательного, представляющая наибольшую опасность не только для того, кто, подобно Мэрфи, двигается по дороге к «истинной», окончательной смерти, но и для того, кто взыскует алогической «первой» реальности. Наконец, третья зона, зона черноты, – это «матрица иррациональностей», порождающая бесконечный круговорот распадающихся и вновь возникающих форм; в третьей зоне Мэрфи «был лишь точкой в кипении линий, в ничем не обусловленной бесконечности рождающихся и умирающих линий» ( Мэрфи,84). В третьей зоне нет движения, то есть нет протяженности. Сжатие до размеров бестелесной точки равнозначно возвращению в дородовое, добытийственное состояние, когда первородный хаос еще не превратился в космос.
Третья зона духа Мэрфи в чем-то похожа на ту сферу райской пустоты и безгрешности, которую Хармс изобразил в своей таблице «троицы существования». Сближает их состояние абсолютной свободы, неукорененности в тварном мире; это зона бесконечных, но еще не актуализированных возможностей. Напомню, что в хармсовском трактате «О существовании, о времени, о пространстве» исходная форма Вселенной предстает в виде бесконечно малой точки, не имеющей протяженности. В ней, в не проявленном пока состоянии, скрыто все богатство предметного мира. Разница, однако, состоит в том, что Хармса это состояние непроявленности не устраивает; он – представитель реальной поэзии и стремится познать мир во всем его многообразии. Разрушив материальный мир и возвратившись в дородовое состояние, поэт причащается абсолютной свободе небытия, чтобы разделить с Богом работу по созданию безгрешного, наполненного светом нового мира. Для Беккета, напротив, третья зона – зона освобождения от всего предметного, зона ночи и смерти. Разница действительно велика. Но когда Хармс в конце тридцатых годов призывал смерть, разве не стремился он к той же самой «мертвой» пустоте?
Итак, Мэрфи, обнаженный, устраивается в своем кресле и начинает раскачиваться.
Кресло раскачивалось все быстрее и быстрее, время колебаний становилось все короче; свет померк, померкла улыбка радиатора, померкло небо; скоро его тело успокоится. Предметы двигались все медленнее и, наконец, остановились. Движение все замедлялось и, наконец, замедлилось. Скоро его тело успокоится, скоро он будет свободным.
(Мэрфи, 181)
На этой стадии Мэрфи, в отличие от хармсовского Аменхотепа, уже не сознает своей наготы; в зоне абсолютной свободы, куда он попадает, физическая смерть тела вторична по отношению к смерти духа, которая уже состоялась. Мэрфи умирает, поскольку не думает о том, что умирает; ему наконец удалось оказаться по ту сторону мысли и по ту сторону бытия.
В туалете из баллона начал сочиться газ, превосходный газ,
высококачественный хаос.
Скоро его тело успокоилось.
(Мэрфи, 181)
ГЛАВА 5. БЫТИЕ И ТЕКСТ
1. Инстинкт поедания и разрушения структуры
Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника. За ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда.
По земле ползет большая зеленая гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю ее пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну и в другую сторону.
Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине. Я низко склоняю голову и негромко говорю:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
(Псс—2, 187–188).
Так заканчивается повесть «Старуха». Продолжать повествование рассказчик не может: опыт контакта с той таинственной бесформенной субстанцией, олицетворением которой является старуха, не поддается вербализации. Попытка выразить невыразимое, назвать неназываемое неизбежно привела бы к распаду языка и его превращению в набор нечленораздельных звуков, в бессмысленное «ква ква ква», на котором изъясняется беккетовский Лаки в пьесе «В ожидании Годо» [406]406
Beckett S. En attendant Godot. Paris: Minuit, 1952. P. 58.
[Закрыть]. Хармса такая перспектива не устраивает, и он предпочитает замолчать, оборвать волевым движением рукопись.
«Вбегает мертвый господин / и молча удаляет время», – говорится в поэме Введенского «Кругом возможно Бог» ( Чинари—1,448). По Введенскому, удаление времени равнозначно концу дискурса; в сфере вечности, проникнуть куда можно лишь через «окончательную» смерть, царит молчание, тишина. Хармс же рассчитывал на то, что, остановив время, он сможет заставить говорить каждый элемент «чистого» мира, но говорить уже не на человеческом, а на алогическом, «сверхсмысленном» или «внесмысленном» языке. В то время, когда была написана «Старуха», надежда создать такой язык уже покинула его, поэтому он, подобно Беккету, выбирает молчание небытия.
Чувствуя, что его сознание уступает напору бессознательного, он обращается за помощью к Богу: и это неудивительно, ведь Бог для Хармса – это сила, трансцендирующая как ограниченность сознательного, так и аморфность бессознательного [407]407
Обращаясь к Богу, рассказчик опускается на колени; но на колени он один раз уже вставал; это было в его комнате, и встал он на колени по приказанию старухи. Не является ли старуха одной из инкарнаций Бога? – вот в чем кроется главная опасность.
[Закрыть]. Знаменательно, что рассказчик Бога ни о чем не просит: он не жалкий проситель, обращающийся к господину, а свободный человек, ждущий от Бога подтверждения своей свободы. «Бог есть свобода, Он есть освободитель, а не господин», – писал Бердяев [408]408
Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека; Опыт персоналистической философии // Бердяев Н. А. Царство Духа и Царство Кесаря. С. 49.
[Закрыть].
Для мыслителей типа Вячеслава Иванова свобода есть свобода отказа от собственного эго; свобода футуристов, напротив, выражает себя как «чистое самовластие автономного я» [409]409
Вышеславцев Б. П. Этика преображенного эроса. С. 102.
[Закрыть]. Для Хармса свобода – это не растворение в Боге и не попрание его, но постоянный диалог с Богом, диалог, в котором заинтересован не только человек, причащающийся соборной коммуникации, но и Бог, тоскующий по другому.
Ровно десять лет отделяют «Старуху» от текста, к которому я уже не раз обращался, – я имею в виду «Саблю». Тем интереснее тот факт, что намеки на угрозу, исходящую от бессознательного, содержатся уже в этом раннем трактате, созданном в то время, когда Хармс разрабатывал свою поэтику. В предыдущей главе особое внимание было уделено пунктам 4–7 «Сабли» ( Псс—2,298–304), теперь же имеет смысл подробнее остановиться на первых трех пунктах данного текста.
«Жизнь делится на рабочее и нерабочее время» – такова исходная предпосылка Хармса. «Нерабочее время создает схемы – трубы. Рабочее время наполняет эти трубы». Когда «работа в виде ветра / влетает в полую трубу», наше тело освобождается от груза материальности и переходит в «красивый ветер», не теряя при этом, парадоксальным образом, своей конкретности, определенности: «Точно рифмы наши грани / острием блестят стальным». Тело поэта, которое и является этой пустой трубой, куда «влетает» рифма, отвердевает именно в результате соприкосновения со словом, твердость которого не уступает твердости стали; поэзия здесь действует как музыка, о «металлической прозрачности» которой говорил Рокантен. Стальное острие рифмы – это острие сабли, с помощью которой Хармс намеревается «регистрировать» мир.
Получается, что краткое изложение хармсовского поэтического метода содержится уже в первом пункте трактата. Но Хармсу хочется проанализировать процесс порождения поэтического слова более подробно. И во втором пункте текста он возвращается к самому его началу. В нерабочее время, пишет Хармс, мы
отделяем себя от всего остального и говорим, что в праве существовать самостоятельно. Тут нам начинает казаться, что мы обладаем всем, что есть вне нас. И все существующее вне нас и разграниченное с нами и всем остальным, отличным от нас и его (того, о чем мы в данный момент говорим) пространством (ну хотя бы наполненным воздухом) мы называем предметом. Предмет нами выделяется в самостоятельный мир и начинает обладать всем лежащим вне его, как и мы обладаем тем же.
И человек и предмет существуют самостоятельно, то есть не находятся в состоянии взаимной подчиненности. В третьей главе своей книги «Обоснование интуитивизма», где идет речь об отношениях между субъектом и объектом знания, Лосский замечает, что знание всегда рассматривается как деятельность «я». «Я и не-я глубоко отличаются друг от друга, обособление этих двух сфер и сознательно, и безотчетно руководит всем нашим поведением» [410]410
Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н. О. Избранное. С. 78.
[Закрыть]; поэтому важное значение приобретает процесс самоидентификации субъекта, отграничение его от мира объектов. Однако, хотя субъект и объект отделены друг от друга на уровне физической действительности, на глубинном уровне они продолжают быть связанными, ибо они, по мысли Хармса, не замкнуты сами на себе, но внутренне активны, то есть интенционально направлены друг на друга. В первую очередь это относится к одушевленному субъекту познания, так как именно его сознанию внешний предмет становится имманентен, внутренне присущ. Лосский пишет по этому поводу:
Чтобы познать предмет, нужно иметь его в сознании, т. е. достигнуть того, чтобы он вступил в кругозор сознания познающего субъекта, стал имманентным сознанию. Это сознание о предмете не есть продукт причинного воздействия предмета на тело и душевную жизнь субъекта: в таком случае субъект знал бы только свои психические состояния, возникшие по поводу вещи. Сознание о предмете есть результат своеобразного (не причинного) отношениямежду сознающим субъектом и сознаваемым предметом: при наличии этого отношения субъект созерцает предмет непосредственно, «имеет его в виду» в подлиннике; здесь нет субординации ни субъекта предмету, ни предмета субъекту, обе стороны по своему бытию остаются независимыми друг от друга… [411]411
Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное. С. 345.
[Закрыть]
Другими словами, предмет как бы «живет», если воспользоваться терминологией Хармса ( Псс—2,306), в сознании человека; знание о нем есть не копия и не символ действительности, а сама действительность, подвергнутая лишь «дифференцированию путем сравнения» [412]412
Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма // Там же. С. 327.
[Закрыть].
Важно, что предмет, на который направлено сознание (а оно всегда интенционально – это одно из основных положений феноменологии), имманентен именно сознанию, а не субъекту сознания, поскольку «наблюдаемый предмет должен быть имманентным сознанию, но может быть трансцендентным субъекту сознания, т. е. может быть частью транссубъективного мира» [413]413
Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Там же. С. 345.
[Закрыть].
У Хармса, отмечу, сам предмет становится активным деятелем, одушевляется – воззрение, получившее свое обоснование в теории панпсихизма, согласно которой все вещи одушевлены, обладают жизнью и психикой. В списке книг, которые Хармс брал в «Библиотеке новых книг», значится труд основателя русского панпсихизма А. А. Козлова [414]414
Анализ списка книг, прочитанных Хармсом, см. в моей статье «Даниил Хармс: философия и творчество». С. 73–74.
[Закрыть]; но почерпнуть свои представления об одушевленности материи он мог и у Лосского, который был учеником Козлова [415]415
Лосский значится в хармсовском списке; учениками Лосского в Петроградском университете были Я. Друскин и Л. Липавский.
[Закрыть]. Так, согласно Лосскому, даже субстанциальные деятели, «стоящие на низшей ступени бытия, путем слияний и сочетаний друг с другом <…> способны увеличить свою творческую активность и подняться на ступень одушевленной материи» [416]416
Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Там же. С. 420.
[Закрыть]. Поэтому, заключает философ,
ввиду активности всякой материи и целеустремленного характера ее, обусловливающего возможность эволюции, ведущей к высшим ступеням бытия, следует признать, что неживой материи нет, хотя бывает неодушевленная материя. Жизнеспособность присуща материи благодаря лежащему в основе ее духу [417]417
Там же. С. 461.
[Закрыть].
Что-то подобное происходит и в поэзии Хармса: предметы живут у него такой же жизнью, что и люди; они участвуют в разговорах, подают реплики наравне с другими персонажами, как, например, в неоконченной пьесе «Дон Жуан» (1932), где в число действующих лиц, наряду с Дон Жуаном, Донной Анной, Командором и самим автором, входят проходящие облака, расцветающие цветы, пролетающие журавли, озера и реки и т. п. Все они относятся к первой реальности, которая всегда прекрасна и потому жизненна. Вот почему в число объектов, вызывающих его восхищение, Хармс заносит, в письме к Пугачевой, и птицу, и солнце, и человека, и камень, и гребешок.
Хармс, однако, прежде всего поэт, а не философ; он познает мир с помощью стихов, а не аналитических операций. «Писать стихи и узнавать из нихразные вещи», – заносит Хармс в список того, что его интересует ( Дневники,473; курсив мой). Поэтому для того, чтобы проникнуть в высшую реальность, ему необходимо сначала перестать быть наблюдателем и превратиться в «предмет, созданный им самим». Только тогда он сможет, как говорится в «Предметах и фигурах», приписать себе «пятое значение своего существования» ( Псс—2,306). Напомню, что пятым, сущим значением предмет обладает только вне человека; точно так же и человек обладает своим сущим значением только вне предмета. Такой человек и такой предмет реют.Как именно они реют, описано во втором пункте «Сабли»:
Самостоятельно существующие предметы уже не связаны законами логических рядов и скачат в пространстве, куда хотят, как и мы. Следуя за предметами, скачат и слова существительного вида. Существительные слова рождают глаголы и даруют глаголам свободный выбор. Предметы, следуя за существительными словами, совершают различные действия, вольные, как новый глагол. Возникают новые качества, а за ними и свободные прилогательные. Так выростает новое поколение частей речи. Речь, свободная от логических русел, бежит по новым путям, разграниченная от других речей. Грани речи блестят немного ярче, чтобы видно было, где конец и где начало, а то мы совсем бы потерялись. Эти грани, как ветерки, летят в пустую строку-трубу. Труба начинает звучать и мы слышим рифму.
(Псс—2,299)
Примечательно, что новая речь имеет конец и начало; иными словами, у нее есть форма, некие границы, которые отделяют ее от других речей. Таким образом, новая речь не является продуктом коллективной речевой деятельности. Вообще, поэт, в соответствии с представлениями Хармса и других чинарей, ни на минуту не должен забывать о существовании ноуменальной сферы – того идеала, к которому он рассчитывает приблизиться с помощью своей поэзии. Только так он может уподобиться Богу-Творцу как конкретной Личности, которой присуще внутреннее движение, аффективная и эмоциональная жизнь. Вот почему роль поэта как простого «регистрирующего аппарата» ни в коей мере не могла удовлетворить ни Хармса, ни Введенского; так, «чинарное» письмо, несмотря на все свои неожиданные и спонтанные образы, не является, в отличие от письма сюрреалистического, ни автоматическим, ни галлюцинаторным.
И все же очевидно, что на неком промежуточном этапе роль поэта сугубо пассивна: рифма приходит к нему извне, она наполняет его уши звоном распавшегося на мельчайшие элементы мира (см. стихотворение «звонитьлететь»). Вот как об этом говорится в «Сабле»:
Слышен в трубах ветра глас,
мы же слабы и тихи.
Где граница наших тел,
наши светлые бока?
Мы неясны точно тюль,
мы беспомощны пока.
(Псс—2, 299)
На этом этапе поэт теряет свою идентичность, увлекаемый потоком несущихся в пространстве предметов и слов. Он, как сказал бы Беккет, лишь точка в бесконечном кипении линий. Родовая, материнская первостихия одерживает верх над властью отца и закона. Однако Хармс далек от того, чтобы полностью отдаться «оргийному самозабвению» творчества, и приступает к следующему этапу очищения мира и слова, беря инициативу в свои руки.
Таким образом, мы завлекаемся в рабочее состояние. <…> В драке не оправдываются и не извиняются. Теперь каждый отвечает за самого себя. Он один своей собственной волей приводит себя в движение и проходит сквозь других. Все существующее вне нас перестало быть в нас самих. Мы уже не подобны окружающему нас миру. Мир летит к нам в рот в виде отдельных кусочков: камня, смолы, стекла, железа, дерева и т. д. Подходя к столу, мы говорим: Это стол, а не я, а потому вот тебе! – и трах по столу кулаком, а стол пополам, а мы по половинам, а половины в порошок, а мы по порошку, а порошок к нам в рот, а мы говорим: это пыль, а не я, – и трах по пыли. А пыль уже наших ударов не боится.
(Псс—2, 300)
Хармс в прямом смысле слова пожирает мир, «овнутривает» и переваривает его. На смену пассивному вслушиванию приходит активное овладение миром, вплоть до его полного упразднения. Хармс действует как радикальный авангардист, «оральная агрессивность» которого побуждает его, по замечанию И. П. Смирнова,
видеть в речевой деятельности средство, с помощью которого мог бы быть побежден и упразднен мир референтов (хлебниковское «слово как таковое»); фактический универсум потерял в поэзии футуризма (Константин Олимпов, Шершеневич и многие другие) свое отличие от языкового универсума [418]418
Смирнов И. П. Психодиахронологика. С. 206.
[Закрыть].
При этом деструктивность авангарда подчас находила свое выражение в откровенном насилии, направленном часто, особенно у Крученых, на чужой текст, которому приписывалось совершенно не свойственное ему сексуальное содержание: Смирнов говорит в этой связи о настоящем, в почти уголовном смысле слова, изнасиловании претекста [419]419
Там же. С. 186.
[Закрыть]. В сущности, вся «сдвигология» Крученых есть не что иное, как система агрессивного овладения не только чужим текстом, но и соотнесенным с ним предметным миром, причем конечной целью этого овладения было, без сомнения, разрушение чужого текста и чужого мира.
По Смирнову, оральная агрессивность авангарда является одним из проявлений распада симбиотического союза матери и ребенка.
Агрессивность ребенка, сопровождающая оральную стадию его психического становления, объясняется тем, – пишет исследователь, – что деструктивные действия (кусание материнской груди и т. п.) выступают для него адекватными его представлению о разрушившемся объекте. <…> Возвращение субъектом себе объекта, ставшего непригодным, означает причинение ему страдания, боли – активное участие субъекта в процессе деформации внешнего мира [420]420
Там же. С. 193.
[Закрыть].
К тому же восстановление ослабевшей связи проявляется как желание «поглотить, интроецировать объект и тем самым гарантировать себе в дальнейшем – надежнейшим из всех способов – неотчуждаемость от объекта» [421]421
Там же. С. 195.
[Закрыть].
В этой перспективе небезынтересно представление чинарей о том, что «поедание и половое соединение – два следствия одного и того же принципа» ( Чинари—1,244). Сущность этого принципа – в разрушении структуры. Недоверием и страхом, внушаемым полноценным половым актом, который напоминает пожирание мужчины женщиной, можно объяснить и некоторые особенности хармсовской сексуальной жизни, в особенности то место, которое занимает в ней оральная эротика. Суть ее заключается именно в ее неполноценности, в ее недоведенности до конца, она как бы является суррогатом нормального совокупления. С другой стороны, возможно и несколько иное объяснение, основывающееся на исследованиях Фрейдом детской сексуальности, самый первый этап которой, относящийся к прегенитальной сексуальной организации, находит свое выражение в преобладании оральности. Принимая во внимание тезис Фрейда об инфантильном характере перверсий, данную особенность половой жизни Хармса можно было бы истолковать как бессознательное желание вновь вернуться в состояние покоя и защищенности, которое предшествует расщеплению сознания на «я» и «не-я» [422]422
По мысли Ш. Ференци, сексуальность всегда выражает тенденцию к возвращению в материнское лоно и характеризуется переходом от оральной стадии к стадиям анальной и мастурбаторной, в течение которых «индивидуум ищет в своем собственном теле фантазматический субститут утерянного объекта»; но только на генитальном уровне может иметь место реальная попытка воплотить это стремление, сначала по отношению к матери, а затем и остальным женщинам (Ferenczi S. Thalassa: Psychanalyse des origines de la vie sexuelle. Paris: Payot, 1966. P. 52). Иллюстрацией этого тезиса могут служить отношения Моллоя с Руфь и Мэлона с Молль. Что касается отношений между рассказчиком и Пимом в «Как есть», то они имеют скрытую гомосексуальную природу и могут быть интерпретированы в качестве «инфантильной регрессии на анальную стадию» (Simon А. Samuel Beckett. Paris: Belfond, 1983. P. 246).
[Закрыть]. Однако нельзя забывать и о том, что согласно хармсовским представлениям о сущности поэтического творчества, погружение в бессознательное должно привести не к растворению в нем, а к расширению сознательного эго, за счет элементов бессознательного, до сверхсознательной самости; на онтологическом уровне данному процессу соответствует воссоздание конкретного и реального мира, в котором муже-женская энергия выступает как нерасчленимая целостность [423]423
Вспомним, что в стихотворении «Жене» работа по «сплетению смыслов» начинается только после того, как поэт освобождается от власти женщины.
[Закрыть].
Характерно, что неспособность поэта преодолеть родовую стихию проявляется в том, что он вынужден отказаться от своего амбициозного проекта: так возникает проза, удовлетворяющаяся фиксированием каждодневной действительности. Но и над этими текстами писатель не способен осуществлять полный контроль, что проявляется в невозможности закончить текст, который становится аморфным, нескончаемым. Безличность такого текста убивает личность автора. Именно поэтому для второго, прозаического периода творчества Хармса особое значение приобретает именно агрессивная природа оральности, ее направленность на поглощение объекта. Если нормальный половой акт представляется Хармсу неким поглощением, поеданием [424]424
С этим связаны архетипические представления о vagina dentata, зубастой вагине.
[Закрыть]женщиной мужской индивидуальности, следствием чего является разрушение структуры сознания и растворение в родовой стихии, то направленность этого поглощения будет прямо противоположной при вышеуказанной перверсии (в том ее варианте, когда активную роль играет мужчина): теперь уже мужчина поглощает женщину, а не наоборот. Каннибалистское поедание женщины превращается в символический акт не только поедания мира как такового, но и текста, который, не в силах преодолеть притяжение материального, является его отражением. Попытки оборвать текст, остановить его поступательное движение, свойственные прозаическому творчеству Хармса, выступают как реализация этой агрессивности, направленной на достижение добытийственной пустоты. Так притяжение абсолютного ничто вытесняет то настойчивое стремление преобразить мир, основой которого была сублимация сексуальной энергии в энергию творческую.
Нужно отметить, что уничтожение референциального мира, к которому стремится авангард, не означает уничтожения текста; напротив, текст приобретает значение единственно существующей объективной реальности. Даже минимализация текста, характерная для авангардной поэзии, означает лишь приближение к нулю, но не сам ноль, поскольку произведение, состоит ли оно из точки или из чистого листа с одним названием (такова «Поэма конца» Василиска Гнедова), воспринимается как артефакт; отсутствие самого поэтического текста выступает здесь, если воспользоваться выражением Ю. Орлицкого [425]425
Орлицкий Ю. Minimum minimorum: Отсутствие текста как тип текста // Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 270.
[Закрыть], как тип текста.
С. Бирюков связывает появление минималистской техники с выделением мельчайшей языковой единицы – фонемы; «Дыр бул щыл» Крученых исследователь считает одним из первых минималистских произведений [426]426
Бирюков С. О максимально минимальном в авангардной и поставангардной поэзии // Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 290.
[Закрыть]. С этим, однако, трудно согласиться: как раз распадение слов на морфемы и фонемы ведет к потенциальной максимализации текста; в сущности, стихотворение Крученых можно продолжать сколько угодно, оно потенциально бесконечно. Предлагая в другом месте называть лилию «эуы», Крученых демонстрирует, что не интересуется лилией как таковой, его интересует даже не слово, не смысл его, а то, как можно разложить его звуковую форму. На деле, разрывая связь между лилией-предметом и лилией-словом во имя нового мироощущения, Крученых, следуя своему тезису о том, что «новая словесная форма создает новое содержание», волей-неволей пытается трансформировать сам предмет, поскольку новое содержание не может не повлиять и на его внешний облик. Старый предмет, в результате подобной радикальной деформации, исчезает полностью, но не возникает и новый предмет, поскольку абсолютно новая звуковая форма слова (эуы) не имеет соответствующего денотата в мире объектов. Заявление, что беспредметность есть вполне «реальная образность с натуры» [427]427
Туфанов А. Декларация // Туфанов А. Ушкуйники: (Фрагменты поэмы). Л., 1927. Б.п.
[Закрыть], остается, таким образом, лишь благим пожеланием; на самом же деле словесная стихия становится единственной реальностью, замещающей собой реальность объективного мира. При этом слова, теряя свои конкретные очертания, превращаются в однородную массу, текучую и аморфную. Поэзия А. Туфанова, выдвигая принцип «текучести» в качестве основы поэтического творчества, лишь доводит до логического завершения то, что было реальностью уже первых заумных текстов.
Поэт-заумник оказывается заложником своего собственного стремления поглотить референциальный мир и заменить его миром, созданным им самим, над которым он имел бы полный контроль: уничтожая предмет и радикально деформируя слово, которое ему соответствует, он попадает в зависимость от своего же собственного заумного текста, ибо его потенциальная бесконечность ставит под сомнение саму возможность прекратить его.
В «Лапе» дан пример того, как нормальная речь превращается в заумную; в ответ на вполне разумную реплику Николая Ивановича о том, что для приготовления супа нужно положить в воду мясо или рыбу, покойник говорит:
Ылы ф зуб фоложить мроковь. Ылы спржу. Ылы букварь. Ылы дрыдноут.
(Псс—1, 134)
Покойник как будто пережевывает данные предметы; отсюда неразборчивость его речи, граничащая с нечленораздельностью. Продукт этого пережевывания и переваривания и будет тем материалом, из которого будет создаваться новый, абсолютно послушный воле манипулятора мир [428]428
Неудивительно, что в небесном птичнике «очень воняет», а Николая Ивановича, одного из персонажей «Лапы», особенно занимает вопрос, что находится у ибиса под хвостом. См. также рассуждения ангела Копусты (он же Компуста, Пантоста, Хартраста, Холбаста) о том, какой навоз лучше на вкус.
[Закрыть]. Оральная агрессивность авангарда явным образом сочетается здесь с его анальной фиксацией. «Овнутривание» внешнего, характерное для садистски-орального типа поведения, неизбежно влечет за собой стремление к «овнешниванию» внутреннего, к извержению скрытого [429]429
См.: Смирнов И. П. Психодиахронологика. С. 209. Смирнов обращает внимание на тот факт (С. 196), что интерес детей к рассматриванию экскрементов и к игре с ними был проанализирован Эрнестом Джоунсом еще в 1919 году. См. в этой связи эпизод № 13 из «Голубой тетради», который служит отличной иллюстрацией положения о том, что интерес к продуктам пищеварения носит садистский характер. Кстати, три девочки из этого эпизода говорят на заумном языке.
[Закрыть]. Извержение из себя переваренного продукта предстает как разверзаниетела, как радикальное нарушение его границ, размыканиеего контура. Не случайно мотив дефекации непосредственно связывается и у Хармса и у Беккета с мотивом разложения, смерти, распада (вспомним, что у обоих авторов рождение, эта «смерть-в-мир», происходит через зад, который Беккет называет «истинным порталом нашего существа»).
Я уже упоминал о садистски-анальном мотиве в романе Беккета «Как есть». Погружая открывалку в зад Пима, безымянный рассказчик как бы вскрывает его тело, делает его проницаемым для той вселенской грязи, по которой они медленно ползут. Тело растворяется в океане грязи, его гуморальные соки смешиваются с соками земли. Беккет постоянно акцентирует внимание на различных телесных выделениях: поте, сперме, моче (кстати, у многих его героев трудности с мочеиспусканием). Их глубинный смысл – в обнаружении скрытого, внутреннего; это, как говорит С. Зенкин, анализируя значение телесных субстанций у Жоржа Батая,
самоотдача, выброс себя вовне, бурное разрушение своей самости, сравнимое со смертью и часто идущее с ней рядом, ибо при таком акте тело обнаруживаетсвою внутреннюю бесформенность, вырывается наружу в виде неоформленных субстанций [430]430
Зенкин С. Н. Блудопоклонническая проза Жоржа Батая // Батай Ж. Ненависть к поэзии. С. 26.
[Закрыть].
Внутренняя бесформенность тела находит свое соответствие во внутренней бесформенности, аморфности мира, которая скрыта от «подонков», но открывается как неопровержимая реальность Антуану Рокантену.
Телесные выделения живо интересуют также и Хармса: особенно характерен в этом отношении рассказ «Реабилитация» (1941), герой которого, совершивший ряд страшных преступлений, садится и испражняется на свои жертвы. Непосредственно перед этим он вытаскивает из чрева Елизаветы Антоновны еще не родившегося ребенка: так вскрытиечужого тела предваряет прорыв своего собственного тела, прорыв, символической реализацией которого служит акт дефекации.
Разумеется, подобного рода детали не могут не вызвать у читателя ничего, кроме отвращения; чтобы защититься от надвигающегося хаоса, он скорее всего предпочтет отнестись к прочитанному как к некоему конструкту, реализованному в соответствии с рецептами создания «абсурдных» текстов, пронизанных «черным юмором». Хармс, несомненно, вписывается в эту традицию. В то же время смысл данного текста не исчерпывается нарочитым эпатированием читателя, тем более что Хармс писал его, не рассчитывая на публикацию. На самом деле, насилие, которое составляет его основу, связано не только со свойственными лично Хармсу страхами и фобиями (отвращение к деторождению, стремление к умалению женского тела), но и с уже знакомым нам ощущением размытости границ человеческого и мирового тела. Более того, вскрытиетела выступает в качестве метафоры письма как препарированияреальности. Во второй главе я процитировал Михаила Золотоносова, который отметил, что в хармсовском стихотворении «Жене» перо уподобляется фаллосу, а бумага – женскому половому органу. Учитывая, какую роль играет у Хармса сексуальное насилие («—Да, – сказал Козлов…», «Лидочка сидела на корточках…», та же «Реабилитация»), можно продолжить данный ряд, введя в него еще один член – нож.
У Хармса связь между письмом, изнасилованием и вспарываниемтела прослеживается лишь имплицитно [431]431
См., например, сцену битвы в пьесе «Елизавета Вам», в которой «папаша» уподобляет перо холодному оружию: «Хвала железу! Песнь битве! / Она разбойника волнует, / младенца в юноши выносит, / терзает до смерти врага! / О песнь битве! Слава перьям! / Они по воздуху летают, / глаза неверным заполняют, / терзают до смерти врага!» ( Псс—2,264).
[Закрыть], поэтому позволю себе проиллюстрировать данное положение эпизодом из романа Питера Акройда «Дэн Лино и лаймхаусский Голем» (1994). Джон Кри, а точнее его жена Элизабет, переодетая в мужское платье, описывает в дневнике совершенное им/ею убийство проститутки:
Помню, как школьником я печалился, когда первая выведенная чернилами строчка губила чистоту новой тетради, – теперь мне вновь предстояло начертать мое имя, правда иным инструментом. Она шевельнулась лишь после того, как я извлек кусочек кишки и нежно на него подул; она издала звук, похожий на стон или вздох, – впрочем, сейчас, восстанавливая сцену перед мысленным взором, я думаю, что это могла быть ее душа, оставляющая земные пределы. Она открыла глаза, и мне пришлось вынуть их ножом из страха, что мой облик выжжен теперь на них навеки. Я окунул ладони в ночной горшок и смыл ее кровь ее же джином; потом в приступе буйной радости я сел на горшок и облегчился. Дело было кончено. Я изверг ее из мира, затем изверг из себя кал. Мы оба стали порожними сосудами, ожидающими Господа [432]432
В русском переводе роман опубликован под заглавием «Процесс Элизабет Кри» (М., 1999. С. 31).
[Закрыть].
У Акройда сведены воедино все элементы, которые у Хармса разбросаны по разным текстам: андрогинность персонажа, ослепление, вспарывание тела, служащее аналогом полового акта, опорожнение, ожидание Бога. Кстати, эти же элементы играют значительную роль и у Беккета. Рука писателя, водящего пером по бумаге, уподобляется, таким образом, руке насильника, вспарывающего тело другого для того, чтобы обнаружить под его непрочной оболочкой иное, конвульсивное, нечеловеческое тело. Раскрытиедругого будет одновременно и самораскрытием,«самоотдачей», как говорит С. Зенкин, бурным и неостановимым выбросом себя вовне.