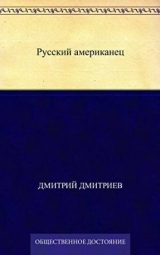
Текст книги "Русский американец"
Автор книги: Дмитрий Дмитриев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– Неужели вы и зимой живете здесь, в усадьбе? – спросил Горин. – Ведь вы должны скучать!
– Страшно... Летом в деревне – рай, зато зимою и осенью – скука смертная...
– В Москве почаще бывайте, Москва отсюда недалеко.
– Осень и зиму я совсем желала бы жить в городе.
– За чем же дело стало, сударыня?
– За немногим: у меня есть муж, и я нахожусь в зависимости от него.
– Вот что?.. Я не имею чести знать вашего супруга...
– Приезжайте, познакомитесь с ним и, может быть, поймете, как я живу здесь, как время провожу... Да вот и муж... легок на помине, – с неудовольствием проговорила Надежда Васильевна, показывая Горину на шедшего к ним навстречу Смельцова.
– Надя, разве можно так, одной выходить на прогулку в лес? Я сколько раз говорил тебе брать с собою лакеев или дворовых девок! – с упреком проговорил жене Викентий Михайлович, не обращая внимания на сопровождавшего ее красивого, статного офицера.
Смельцов был высокого роста, сутуловат, с обрюзглым лицом, всегда гладко выбритым; он носил парик, так как своих волос у него почти не осталось. Одет он был по-домашнему, но с претензией. Он был хорошо образован: большую часть жизни провел за границей, преимущественно в Париже, направо и налево соря русским золотом. Вернулся он в Россию тогда, когда приближавшаяся старость стала давать знать себя: его здоровье было расшатано от праздной, беспорядочной жизни, ему был нужен продолжительный отдых, вот он и приехал отдыхать в свою подмосковную усадьбу. Отделав дом на заграничный лад, он зажил в нем безвыездно, женившись на Надежде Васильевне.
Свою жену он любил как красивую и редкую вещь, как занятную игрушку, был нежен с нею, предупредителен, окружил ее роскошью, рассчитывая, что она будет счастлива с ним. Увы! Он жестоко ошибался: Надежда Васильевна изнывала от такой жизни.
Горин, почтительно раскланиваясь с Викентием Михайловичем, проговорил:
– Я давно выжидал случая представиться вам, познакомиться. Я – ваш ближайший сосед.
– Очень рад, – как-то сквозь зубы ответил ему Смельцов, протягивая руку.
– Я уже имел счастье познакомиться с вашей супругой, Викентий Михайлович.
– Это – ваше дело. Надя, ты куда же?
– Я иду гулять, – не останавливаясь, ответила Надежда Васильевна, идя вперед по лесной дороге.
– Не довольно ли гулять, милая? Становится свежо.
– Хорошо, если вы находите, что мне гулять довольно, я, пожалуй, вернусь.
– Да, да, становится сыро, и я боюсь за твое здоровье.
Надежда Васильевна повернула обратно к парку и, поравнявшись с Гориным, сказала ему:
– До свидания, Виктор Федорович. Я не говорю вам "прощайте" в надежде скоро вас увидать.
Смельцов обошелся с Гориным более чем холодно и не пригласил его к себе. Но это нисколько не помешало молодому офицеру на другой день приехать в его усадьбу с визитом. Викентий Михайлович принужден был принять его, соблюдая вежливость и приличия. Он не был ласков с нежеланным гостем, зато его молодая жена говорила без умолку, стараясь, чтобы красавец офицер не скучал у них.
После того Виктор Горин стал часто бывать в усадьбе Смельцова: его тянули туда красота хозяйки, ее милое и ласковое обращение.
Надежда Васильевна и Виктор Горин начали с дружбы, но скоро, как-то не отдавая себе отчета, страстно полюбили друг друга.
Эти их отношения были замечены Смельцовым. Его беспредельный гнев обрушился на молодую жену и ее возлюбленного. Следствием была дуэль между Гориным и Смельцовым, окончившаяся роковым исходом для молодого офицера: он был убит.
Дуэль состоялась почти без свидетелей, и, как говорили, Викентий Михайлович поступил бесчестно: выстрелил в Горина первым, тогда как по жребию ему надо было стрелять вторым. Хотя благодаря связям и деньгам он сумел замять это дело, но народная молва заклеймила его страшным прозвищем "убийца".
Надежда Васильевна при известии о том, что Горин убит ее мужем на дуэли, упала без чувств и долго лежала без памяти. Пришлось даже посылать в город за докторами, которые нашли у нее нервную горячку. Несколько недель молодая женщина находилась между жизнью и смертью. Наконец ее молодой организм победил недуг.
Смерть Горина навсегда отдалила Надежду Васильевну от мужа. Он и прежде был ей немил, а после смерти любимого человека она без отвращения не могла смотреть на Викентия Михайловича. В конце концов она стала требовать развода.
– Какой еще вам развод? Мы и то давно уже чужие друг другу, – сказал ей муж.
– Этого мало! Я не могу с вами жить в одном доме, не могу дышать с вами одним воздухом, отпустите меня, не томите! Я найду себе место, стану жить с отцом.
– Это никак невозможно! Для света, для общества мы должны быть мужем и женой.
– Если вы не отпустите меня, я убегу, – пригрозила мужу Надежда Васильевна.
– Не убежите! Вас будут стеречь.
И верно, после такого разговора за Надеждой Васильевной стали зорко следить. Из усадьбы она никак не могла выйти: ворота день и ночь были заперты, равно как и садовая калитка, которая вела из сада в парк, а там и в лес. Дальше сада бедной молодой женщине никуда не было выхода. Волей-неволей она была принуждена покориться своей печальной участи.
Со смертью Горина и ее жизнь была разбита. Надежда Васильевна теперь не жила; она по целым дням не видала старика Смельцова и не выходила из своей комнаты; она проклинала свою любовь к Виктору Горину, считая себя виновницей его смерти. Подчас раскаяние мучило молодую женщину, и тогда она стала думать о том, что виновата перед мужем. Ей все чаще и чаще приходила мысль о монастыре.
Надежда Васильевна сказала мужу о своем желании поступить в монастырь, но он злобно засмеялся и воскликнул:
– Выкиньте несбыточные мысли из головы! Это невозможно. Что заговорят в нашем кругу, когда вы туда отправитесь? И без того сплетен и пересудов немало. Я не хочу служить мишенью для разных двусмысленностей и насмешек... А что касается спасения вашей души, то вы и живя здесь можете спастись... К тому же на днях я уезжаю за границу, и вам одной спасаться будет много свободнее.
– Вы... вы хотите, чтобы я здесь, в доме, вела затворническую жизнь?
– Я только говорю, что и дома можно спастись.
– Да, да, можно... только не здесь... здесь так много разных воспоминаний...
– В Москве, на Остоженке, у меня есть дом... Так изберите его местом для спасения своей души!
Злая ирония слышалась в словах Смельцова, безжалостного к своей жене.
– Мне хочется, чтобы никто-никто не знал о моем существовании на свете... Я желала бы, чтобы все считали меня умершей, – задумчиво произнесла Надежда Васильевна.
– Но как же ваш отец?
– Пусть и он думает, что я умерла... Пускай все так думают – вот чего жаждет моя больная душа. Сделайте это, Викентий Михайлович, и я стану молиться за вас, вечно благословлять буду! – воскликнула Надежда Васильевна.
– Хорошо, я подумаю, – ответил Смельцов.
Вскоре после этого разговора Викентий Михайлович уехал с женою в Петербург. Через два-три месяца оттуда пришло известие, что Надежда Васильевна сильно простудилась и скончалась.
Смерть "доброй барыни" крестьяне и дворовые оплакивали непритворными слезами и заказывали по ее душеньке панихиды; но не все дворовые верили в кончину барыни. Правда, с течением времени дворовые, находившиеся в подмосковной усадьбе Смельцова, а также и крестьяне-крепостные стали мало-помалу забывать свою благодетельницу; однако из ряда вон выходящее происшествие, случившееся в усадьбе, опять отчасти напомнило им о Надежде Васильевне.
XVII
Это происшествие состояло в следующем: дворовая девица Лукерья, бывшая любимая горничная Надежды Васильевны, пошла собирать в лес грибы, но домой не вернулась, и, как ее ни искали, не нашли. Дворовые знали, что Лушка пользовалась особым расположением Надежды Васильевны, и те, которые не поверили в смерть последней, считали исчезновение Лушки прямым следствием «кончины доброй барыни».
За пять лет до момента, о котором повествует наш рассказ, осенней ночью к воротам дома Викентия Михайловича Смельцова в Москве подъехала дорожная карета. В то время дом пустовал. В нем, кроме древнего старика сторожа, никого не было. Однако ворота без всякого спроса были отперты, и дорожная карета тихо въехала во двор.
Из нее вышли молодая стройная женщина, одетая подорожному, и две служанки: одна была тоже молодая и красивая, а другая – старая, с уродливым, изрытым оспою лицом.
Это были Надежда Васильевна Смельцова, ее горничная Лукерья и старая стряпуха Фекла. В обязанности последней входило приготовление для барыни еды, но вместе с тем она получила от Викентия Михайловича тайное приказание следить за Надеждой Васильевной и двери, ведущие в мезонин, всегда держать на запоре.
Карета тотчас же съехала со двора, как только Надежда Васильевна со своими служанками вышли из нее. Сторож торопливо запер опять ворота и пошел в свою хибарку, а Надежда Васильевна отправилась в мезонин, который скоро был приведен служанками в порядок.
Обстановка в мезонине была более чем приличная, а комната, предназначенная для Надежды Васильевны, была отделана даже изысканно; остальные две комнаты были меблированы проще. Кроме барских комнат, там находились еще комната для прислуги и кухня.
Из мезонина шли две лестницы: одна в коридор, другая прямо на двор; кроме этих двух дверей, из мезонина в коридор выходила еще одна, потайная. О ее существовании Тольский ничего не знал, так искусно она была сделана. Эта дверь вела из сеней.
Викентий Михайлович, в бытность свою в Москве, сам распоряжался отделкою для молодой женщины мезонина, который должен был стать ей тюрьмою.
Впрочем, Надежда Васильевна сама обрекла себя на такую странную, затворническую жизнь. Ее нервы были настолько расшатаны, что она искала полнейшего уединения и забвения.
На другой день после приезда Надежды Васильевны старик сторож был сменен дворовым Василием и дворецким Иваном Ивановичем, но ни один из них не знал, что в мезонине находится Надежда Васильевна с двумя служанками.
Смельцов, несмотря на свое богатство, приказал дворецкому сдавать дом жильцам, так как старался увеличить свой и без того огромный доход. Он был в полной уверенности, что жильцы не могут помешать его опальной жене, находившейся в заключении в мезонине; а для большей безопасности – чтобы никто не проник в коридор – он приказал устроить другую дверь и обить ее железом. Пол в мезонине был покрыт войлоком и коврами, заглушавшими шаги.
Викентий Михайлович, распустив слух, что его жена умерла, не особенно заботился о том, что этому могут и не поверить.
"Для меня это безразлично: хотят – верят, хотят – нет... Я знаю, что для меня моя жена умерла: для меня ее более не существует... Если она нарушит свое обещание и выйдет из мезонина, то и об этом беспокоиться не стану... Я очень умело распространил слух о ее кончине, а лично о том никому не говорил", – так рассуждал Смельцов, обрекая свою красавицу жену на затворничество...
Такую жизнь и повела Надежда Васильевна. За пять лет она только и выходила в ближайшую церковь к заутрене, в такое время, когда все еще спали и на улице никто ей не попадался.
Старуха Фекла всегда сопровождала свою молодую госпожу, куда бы она ни пошла.
Иногда в летнюю пору, и то ночью, Надежда Васильевна покидала на самое короткое время мезонин и выбиралась в небольшой садик, находившийся при доме, подышать свежим воздухом. Но это бывало очень редко.
Старухе Фекле не нравились эти ночные прогулки; она любила поспать, а тут ей приходилось следовать за своей барыней: горничной Луше она не доверяла.
Провизию и все нужное для стола стряпуха сама покупала на базаре, причем ходила туда всегда ранним утром и старалась вернуться домой, пока еще не вставали ни сторож, ни дворецкий; ключ от замка запертой калитки всегда находился у Феклы, она зорко охраняла его и никак не соглашалась отдать Лукерье. Той надоело сидеть взаперти, она не раз чуть не со слезами просила у Феклы выпустить ее "на волю, хоть на полчаса", но старуха грубо отвечала ей:
– Ни на одну минуту не выпущу.
– Что же мне, задыхаться здесь?
– Не задохнешься небось! Коли душно, ночью окно открой.
– Ведь теперь лето, народ на полях да на лугах... А я вот сиди здесь взаперти да изнывай в неволе.
– Не ты одна! Барыня и я тоже ведем такую жизнь; чай, мы не хуже тебя-то.
– Ты хоть на рынок ходишь, а я сиднем сижу дома: никуда выхода нет.
– На то господская воля... Жди, может, барин и сменит тебя.
– Как же, сменит!.. Видно, так и пройдет моя молодость в четырех стенах... Оторвали меня от семьи, увезли с родимой сторонушки и заперли в неволю. Вот уже пятый год я жду, когда меня выпустят. Убегу я...
– Не убежишь.
– Убегу... Думаешь, тебя побоюсь? – задорно проговорила Луша.
Она не любила ворчливой Феклы и называла ее за глаза не иначе как ведьмой; свою подневольную, затворническую жизнь она ставила в вину Фекле, но старуха была ни при чем. Если кто и был виноват, то сама барыня Надежда Васильевна: она любила Лукерью, и, когда Викентий Михайлович предложил выбрать для услуг какую-нибудь дворовую девку, ее выбор остановился на Лукерье.
Последняя, любя свою барыню, покорилась горькой участи и волей-неволей стала привыкать к затворничеству.
Был осенний ненастный вечер. Мелкий и частый дождик хлестал в окна мезонина. Как-то мрачно было даже в уютной комнате Надежды Васильевны. Она сидела, печальная, задумчивая, в кресле, около круглого стола. На коленях лежала раскрытая книга, но молодая женщина не читала ее: она была погружена в свои грустные мысли.
Из нижнего жилья доносились веселые звуки музыки, оживленный говор, смех: только что переехавший в дом богатый помещик справлял новоселье.
Это было в первый год затворничества жены Смельцова.
– Скучно, Луша, скучно, – проговорила она, обращаясь к сидевшей рядом с нею на узкой скамейке горничной. – А там, внизу, веселье... И от этого веселья у меня на сердце еще печальнее, еще мрачнее.
– Новоселье справляют... Я, барыня милая, в окно украдкой подсмотрела, как переезжали... Жильцы, видно, богатые, потому мебель хорошая, дорогая, – промолвила вошедшая в горницу стряпуха Фекла.
– И зачем барин пустил жильцов, зачем приказал сдавать дом... Неужели ему мало дохода? – промолвила Надежда Васильевна. – Без жильцов как было тихо, спокойно... А теперь вот и сиди ночь без сна.
– Можно, барыня милая, отбить у жильцов охоту снимать дом, – после некоторой задумчивости проговорила Фекла.
– Как так? – с удивлением поднимая на старуху взор, спросила Надежда Васильевна.
– Прежде времени ничего я вам не скажу, а только так сделаю, что жильцы скоро съедут.
В словах старухи слышалась уверенность.
– Хвастаешь, тетка Фекла! Ну где тебе это сделать? – возразила горничная Лукерья. – Как ты заставишь жильцов сменить эту квартиру, если они только что переехали?
– И заставлю... Недели не дам им здесь прожить..
– Опять хвалишься! Ну как же ты это сумеешь?
– Уж это мое будет дело, а не твое... Ты еще молоденькая, чтобы все знать... Сударыня-барыня, дозволь мне, старухе, малость позабавиться! И с моей этой забавы жильцы здесь не станут жить! – обратилась старуха к Надежде Васильевне.
– Делай, что хочешь, забавляйся, как знаешь! Мне теперь все равно... Нет у меня жизни, отняли ее у меня, – с глубоким вздохом произнесла молодая женщина и махнула рукой, чтобы ее оставили.
Фекла и Лукерья тихо вышли.
На следующую же ночь в доме Смельцова стали совершаться необычайные явления: слышались сильный грохот и шум в коридоре, там кто-то ходил, стуча о пол палкою.
Стук разбудил спавших квартирантов; они вышли в коридор и с ужасом увидали там какую-то старую женщину или привидение, закутанное во что-то белое, с фонарем в руках. "Смельчаки" чуть не умерли от страха.
На другую и на третью ночь повторилось то же, так что квартирант был принужден искать себе новое помещение и выехать из дома Смельцова.
Заняли его другие жильцы. Но и им пришлось пожить на новой квартире недолго – их тоже выгнала нечистая сила.
По Москве стали ходить слухи о таинственном доме Смельцова, в котором каждую ночь появляются привидения и безобразничают: сбрасывают с окон цветы, передвигают мебель и прочее. Квартиранты стали избегать снимать этот неблагополучный дом, и он пустовал по целым месяцам.
Дворецкий Иван Иванович и сторож Василий пробовали кропить комнаты святой водой, приглашали приходского священника служить в доме молебен, окуривали углы ладаном, спасаясь от нечистой силы, но ничего не помогало: нечистая сила бушевала вовсю, не давая никому покоя.
Дворецкий и Василий потеряли голову и не знали, на что решиться. Они и вообразить не могли, что в мезонине живет барыня Надежда Васильевна с двумя служанками; им сказали, что в мезонине находится барское добро, что они ни в коем случае не должны заходить туда и что ключ от дверей мезонина хранится у самого Викентия Михайловича. Поэтому оба старика были твердо уверены в том, что в мезонине сидит нечистая сила, пугающая жильцов, и только по прошествии долгого времени, как мы видели, дворецкий и сторож перестали живых людей принимать за привидения.
XVIII
Вернемся теперь к Феде Тольскому и посмотрим, что с ним случилось в Петербурге, куда он, благополучно выбравшись из тюрьмы, поскакал с преданным ему камердинером Иваном Кудряшом.
Тольский торопился; он приказывал кучеру гнать лошадей и останавливался только на ночлег, но не на станциях и постоялых дворах, а в какой-нибудь первой попавшейся крестьянской избенке: он боялся погони.
"Только бы мне добраться до Петербурга, а там я найду такое укромное местечко, что ищи меня хоть год, так и то не найдут. К тому же в Питере у меня есть заступники, в обиду там меня не дадут", – думал он.
По прошествии четырех дней, когда Тольский уже подъезжал к северной столице, он вдруг заметил, что позади его возка едут сани с верхом, запряженные в две лошади. Ими управлял какой-то плюгавый мужичонка, а внутри сидел закутанный в лисий тулуп человек с гладко выбритым лицом; на голове у него был большой бархатный картуз с наушниками.
– Что это за обезьяна бритая за нами тащится? – подозрительно посматривая на путника, ехавшего позади, промолвил Тольский, обращаясь к Ивану Кудряшу.
– По лицу-то, сударь, он похож на чиновника.
– А также и на дворового лакея.
– Совершенно верно, сударь, по обличию он походит и на лакея.
– А что, Ванька, если эта обезьяна – сыщик?..
– Не может быть, сударь! Он на сыщика не походит. Да и зачем сыщик поедет в Питер?
– Ты говоришь, зачем поедет? А за нами...
– За нами? – испуганно воскликнул Кудряш.
– Ну что ты кричишь? Струсил, вижу... Эх, Ванька!.. Всем ты – парень, а робостью ни дать ни взять – баба.
– Помилуйте, да кто же не испугается сыщика?
– Трусы боятся; а по мне будь сыщиков хоть целая дюжина, и то не испугаюсь...
– Вы, сударь, статья особая... Таких людей, как вы, смею доложить, немного.
– Было время, Ванька, да прошло... Был конь, да уездился... Не то стало... Стареть я начинаю, что ли, только не тот я теперь... А все же эта бритая рожа из ума у меня не выходит. Замечаю я, что он с самого утра тащится за нами и не отстает, каналья! А впрочем, я сейчас узнаю, что это за птица, – добавил Тольский и приказал своему кучеру попридержать лошадей, а когда сани поравнялись с ним, громко произнес, обращаясь к человеку в лисьем тулупе: – Добрый путь!
– Покорнейше благодарю вас! – И бритый человек, пристав в санях, вежливо поклонился Тольскому.
– В Питер едете? – спросил у него Тольский.
– Так точно. И вы, сударь, туда же?
– Да, туда же... А вы из Москвы, да? По делам, что ли?
– Так точно, по делам. И вы тоже по делам изволите ехать в северную столицу? Если дозволите, поедемте рядом.
– Что же, поезжайте! Места хватит, дорога широкая.
Сани незнакомца поехали рядом с возком Тольского.
Последнему хотелось дознаться, кто такой этот незнакомец и по какому делу едет он в Петербург, поскольку человек сей с бритым, сухим лицом казался ему подозрительным. Поэтому он спросил его:
– Скажите только правду, что вы за человек? Наверное, служите в каком-нибудь правительственном месте?
– Отгадали, сударь. Я в суде служу, – как-то уклончиво ответил незнакомец.
– Это и видно... Лицо у вас такое судейское... Недаром говорят, что лицо – зеркало души.
– Не всегда, сударь мой, бывает правдива эта поговорка: понять душу человеческую по лицу довольно трудно...
Так незаметно в разговоре они стали подъезжать к заставе.
– Вот и Питер, – промолвил Тольский, приотворяя немного дверцу возка и глядя на видневшийся город.
– Вы вот, сударь, не знаете, кто я и что я, а я знаю, кто вы и что, – с какой-то загадочной улыбкой тихо проговорил незнакомец, выходя из саней и приближаясь к возку Тольского. – Да мало того, я знаю всю вашу жизнь как свои пять пальцев.
– Вот как?.. Да кто же вы такой? Может, колдун или волшебник?.. Ну, говорите, кто я и что?
– Вы – дворянин Федор Тольский, и в Москве бежали из тюрьмы.
Эти слова невольно заставили побледнеть Тольского.
– Проклятье! Кто же вы?..
– Кто я, сейчас узнаете. Гей, арестовать этого человека и проводить в тюрьму! – обратился незнакомец к унтер-офицеру и солдатам, находившимся на заставе. – Вот и приказ об аресте, – добавил он, показывая унтер-офицеру бумагу.
Произошло это так неожиданно, что Тольский опомнился только в караулке; обезумевшего от страха Кудряша привели туда же.
– Теперь я могу сказать вам, кто я, – с насмешливой улыбкой произнес бритый человек, обращаясь к Тольскому.
– Зачем теперь говорить? Я и так знаю, что дал провести себя сыщику... Я очень сожалею, что не отправил тебя на тот свет...
– Я не сыщик, а начальник сыщиков. Мне пришлось загнать не одну смену коней, пока я настиг тебя верст за сто от Питера... Хитер ты, а я, видно, похитрее... Нелегко было мне за тобою гнаться да расспрашивать о тебе дорогою... Ну да мой труд не пропал даром.
Тольского в его же возке, окруженном солдатами, повезли в тюрьму. Впереди ехал начальник московской сыскной полиции, который, спустя несколько часов после побега из тюрьмы Тольского, поскакал за ним по большой петербургской дороге, при помощи расспросов и описания примет самого Тольского и его возка выясняя его путь, после чего приказал арестовать, так и не дав ему въехать в столицу.
Тольский был обескуражен этой неудачей.
– Ну, Ванька, теперь пиши пропало... Всему конец, и песня моя спета, – подавив в себе вздох, сказал он, обращаясь к Кудряшу.
– Неужели мы не вывернемся из рук питерской полиции, как вывернулись у московской?
– Говорю – всему конец... Посадят меня в крепость, в каземат... Оттуда уже не убежишь...
– И меня тоже посадят? – с глубоким вздохом спросил Кудряш.
– Не помилуют и тебя, Ванька. Правда, я надеюсь, это все еще может измениться. В Петербурге у меня есть немало благожелателей. Надо бы как-нибудь послать им весточку, да Аракчеева попросить, он заступится.
– Это, сударь, можно... Только бы были деньги...
– Деньги, Ванька, есть; их еще у меня не отняли, а как в тюрьму посадят, так и деньги отнимут.
– А вы их спрячьте куда-нибудь подальше! – посоветовал верный слуга.
Начальник сыскной полиции привез Тольского и его слугу на тюремный двор, с рук на руки сдал смотрителю, а сам поехал к петербургскому губернатору с донесением об аресте важного преступника.
Но уже очень скоро Тольскому, благодаря припрятанным деньгам, удалось послать из тюрьмы друзьям весточку о своем далеко не завидном положении. В записке он просил их выручить его из большой беды и спасти от суда, наказания и позора.
Среди благожелателей Тольского были люди, занимавшие видные посты в государстве, и между ними первое место принадлежало графу Алексею Андреевичу Аракчееву, любимцу императора Александра Павловича.
Аракчеев в былые времена служил вместе с отцом Тольского и вел даже с ним самую тесную дружбу. Когда старик Тольский умер, Аракчеев стал оказывать благодеяния и его сыну Федору, но услыхав, что тот ведет праздную жизнь, предается кутежам и картежной игре, отступился от него и прекратил с ним переписку. Однако Тольский теперь, находясь в критическом положении, обратился к нему со слезной просьбой о помощи.
Аракчееву, не имевшему, кажется, ни к кому жалости, стало жаль сына своего закадычного приятеля и сослуживца, и он решил заступиться за московского вертопраха, как называл он сам Федю Тольского. Однако, несмотря на все свое огромное влияние на государя, ему не удалось совсем освободить Тольского от ответственности.
Император Александр Павлович не мог простить Тольскому убийство на дуэли молодого офицера Нарышкина; кроме того, до государя дошло немало жалоб на него, а потому он Аракчееву, просившему за Тольского, дал такой ответ:
– Федор Тольский за свои беззаконные деяния должен быть наказан непременно; он подлежит ссылке в Сибирь, но я, по вашей просьбе, смягчаю это наказание и назначаю его в кругосветное плавание. Корабль на днях отправляется. Два-три года, проведенные на нем, может, образумят Тольского и остепенят его.
Таким образом, судьба Тольского была решена.
Аракчеев сам захотел объявить вертопраху волю государя и потребовал, чтобы его привели к нему из тюрьмы.
Тольский, всегда смелый, ничего не боявшийся, на этот раз не без робости переступил порог кабинета Аракчеева, который в то время занимал важный пост военного министра. Он уже несколько лет не видал Аракчеева и теперь со страхом и любопытством смотрел на его сухое, гладко выбритое лицо, на злые, безучастные глаза, на высокий морщинистый лоб, длинную шею и голову, часть которой скрывалась высоким воротником генеральского сюртука.
Граф, вроде бы не замечая Тольского, продолжал читать какую-то бумагу. Но вот он бросил документ на стол, устремил свой ледяной взгляд на стоявшего у двери Тольского и отрывисто, как-то в нос сказал ему:
– Подойди!
Тольский сделал два-три шага к столу.
– Ближе, не укушу.
– Я... я не сомневаюсь, ваше сиятельство, – почти смело произнес Федя Тольский; он был самолюбив, и такой прием обидел его.
– Ты что такое сказал? – переспросил Аракчеев.
– Я сказал, не сомневаюсь, что вы не укусите меня, ваше сиятельство.
– А если укушу?
– Пожалеете, ваше сиятельство.
– Напрасно так думаешь: к московскому вертопраху у меня жалости нет. Хотя ты и сын моего старого приятеля, даже искреннего друга, память которого я свято чту, а все же теперь я не чувствую к тебе ни жалости, ни участия.
– Спасибо за откровенность, ваше сиятельство! – с улыбкой проговорил Тольский.
– Я с тобой буду еще откровеннее и скажу, какому наказанию ты подвергаешься.
– Нельзя ли, ваше сиятельство, обойтись без наказания?
– Советую тебе, сударь, не говорить со мною таким тоном, иначе я могу забыть, что передо мною стоит сын моего покойного друга. Даю добрый совет держать язык свой на привязи: не в меру он болтлив. Ведь это в Москве тебе попустительствовали, а здесь не Москва, сумеют заставить молчать; не таких, как ты, укрощали. Приготавливайся в дорогу.
– В ссылку меня, ваше сиятельство, в Сибирь?
– Подальше Сибири!.. Государь проветриться посылает тебя. Ты пойдешь на корабле вокруг света.
– Возможно ли, ваше сиятельство? – воскликнул Тольский, изменившись в лице. – Ведь я и на лодке не люблю плавать.
– Зато на корабле полюбишь. А проветриться тебе, право, не помешает. Морской воздух подействует на тебя благотворно и охладит твои порывы, которые многим бывают неприятны.
– На такое дальнее путешествие у меня нет денег, ваше сиятельство.
– Об этом не беспокойся: на корабле ты будешь на казенном содержании...
– Но мне нужны же деньги, ваше сиятельство, хотя бы на карманные расходы.
– На корабле никаких расходов у тебя не будет.
– Я просил бы, ваше сиятельство, другого наказания...
– Ты говоришь глупости!.. Это наказание... воля его величества, а долг всякого – повиноваться священной воле монарха, – произнес Аракчеев и махнул рукой, давая тем знак, чтобы вертопрах оставил его.
Тольский вышел, понуря голову; он никак не ждал себе такого наказания.
На другой день его из тюрьмы перевели в Адмиралтейство, а потом – в Кронштадт. Отсюда через несколько дней должен был уйти в дальнее плавание военный корабль под названием "Витязь", на котором приказано было находиться и Тольскому.
Молодого дворового Ивана Кудряша ему разрешили взять с собою. Кудряш был рад, что так дешево отделался; он ожидал себе более строгого наказания.
– Ты скажи, Ванька, может, тебе не хочется путешествовать по морю; я буду за тебя просить, и тебя оставят, – сказал ему Тольский за день до своего отъезда.
– Обижать меня изволите, сударь! Куда вы, туда и я... Хоть на край света белого, мне все едино.
– И ты не боишься моря? Ведь ты свою жизнь подвергаешь большой опасности...
– А разве вы, сударь, не подвергаете?
– Я по необходимости. По своей воле разве я поехал бы?
– А у меня и подавно своей воли нет, и никогда ее не бывало... Я – человек подневольный.
– Да ведь тебя не неволят ехать со мной.
– Действительно не неволят, а все же от вас я не отстану... Одна только смерть разлучит меня с вами.
Эти простые, задушевные слова верного слуги тронули Тольского так, что на глазах его навернулись слезы.
Но вот настал день, когда корабль «Витязь», хорошо вооруженный, с бравыми и ловкими матросами и с умным и дельным капитаном, должен был выйти в море.
Тольский с самого раннего утра находился на корабле; однако за ним строго следили, так что о побеге и думать было нечего. Волей-неволей он был принужден покориться своей участи и против своего желания совершить прогулку по океану. Доброжелатели снабдили его в дальнюю дорогу всем необходимым, в том числе и деньгами.
Капитана "Витязя" звали Иваном Ивановичем Львовым; это был плотный, мускулистый мужчина лет сорока, с умным, энергичным лицом; он обладал покладистым характером, добрым сердцем, но по временам был вспыльчив. На службе он был исполнителен, строг и требователен, не допуская со стороны подчиненных никаких упущений.
Такому пассажиру, как Тольский, капитан не был рад. Он хорошо знал, кто и что такое Тольский, и предвидел уже кучу хлопот и неприятностей.





