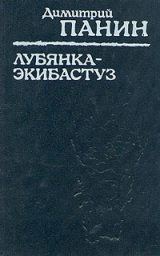
Текст книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Автор книги: Дмитрий Панин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
Глава 5
Вятлаг первого года войны (Продолжение)
Как оделось население вокруг лагерейВ лагере было много латышей. С нашим этапом прибыли еще новые, главным образом, высокопоставленные. Это был цвет латышской нации – как по положению и образованию, так и по знанию своей жизни. Основная масса была завезена в лагерь без тюрьмы и следствия, поэтому им удалось захватить полные чемоданы одежды, сала, папирос… Первое время нарядчики их не трогали, так как им было чем откупиться. За лагерным обедом они пока еще не ходили и проводили время, куря длинные папиросы и беседуя друг с другом.
Когда сало кончилось, нарядчики, косясь на их чемоданы, стали вызывать на работу. Тогда в ход были пущены костюмы, пальто, шубы невиданной заграничной выделки и качества. Часть имущества пошла нарядчикам для откупа от работ, а большая – на покупку жира и хлеба. Скоро жители кайских и окрестных деревень оделись – за кусочки сала, простой черный хлеб – в невероятно роскошные одежды.
Но вот, чемоданы опустели, табак выкурен, запасы давно съедены. Нарядчики, уже без улыбок, зашли в барак, поигрывая «дрыном», и объявили выход на работу. Бедные, не имевшие понятия о голоде, латыши узнали впервые в жизни, что такое норма выработки, пайка, баланда, а вскоре познакомились и со штрафным котлом, ударами палкой, – когда не было сил выйти на развод, а нарядчик считал симулянтом. Уже с ноября страшно было смотреть на синие лица этих живых трупов, когда проходили вереницы латышских доходяг, одетых в когда-то роскошные, в нашем советском понимании, одежды. Пройдя через вахту, они не шли, а брели в лес. Скоро они стали пополнять бараки смертников, где умирали истощенные и обессиленные от голода. Сам дьявол отмерял дозу для медленной мучительной голодной смерти. Это была паечка хлеба в 375 граммов, когда припек достигал 60–62 %, превращая этот кусок в влажную глину. Кроме того, при выпечке к зернам ржи и ячменя подмешивали какие-то суррогаты, ошмётки, шелуху, понижающие и без того низкую калорийность так называемого хлеба.
Громадный, могучего сложения латыш Турманис, ростом около двух метров, в прошлом солдат французского или испанского иностранного легиона, лежал уже почти без движения, слегка оживляясь, когда ему приносили паечку. Откусив ее несколько раз и покончив с ней, он погружался снова в небытие. Неудивительно, что в этих истребляющих условиях от этапа в сто зэков через год оставалось в живых два-три человека.
Немалое число латышей попало в лагерные тюрьмы. Дело в том, что они привыкли к европейскому обмену мнений, и стукачи, навербованные из их же среды, сажали наиболее говорливых и откровенных, часто самых лучших, тех, кто выражал резче и безбоязненнее возмущение и гнев.
А из изолятора в первый год войны была одна дорога: ногами вперед. Дизентерия, цынга, пеллагра косили несчастных не менее тщательно, чем на лагпункте.
Зэка Маслов, выдержавший там полгода в начале сорок второго, рассказывал, что блатари, которых время от времени бросали в изолятор за их разбой на лагпункте, мучаясь от голода, иногда ночью душили на нижних нарах какого-нибудь обессиленного латыша только для того, чтобы, приподняв его и придав ему сидячее положение, получить на него крохотную пайку. Порой для этой цели труп держали на нарах два-три дня, так как разложение, протекающее у истощенных замедленно, допускало такое хранение. Когда же больше терпеть было нельзя, они кричали надзирателю: «Эй, начальник, убирай падаль!»
Слава финнам!На наших глазах погибло множество латышей, цвет нации. Их бесславный конец казался чем-то придуманным и ненужным. По моему тогда уже глубокому убеждению, люди гибнут потому, что не умеют, верней, не хотят друг другу помогать. Поэтому я стал развивать – сначала лениво, а потом с увлечением – тему о том, как следовало вести себя латышам, эстонцам, литовцам во время финской войны.
В 1939 году финны восхитили мир своим героизмом, покрыли себя неувядаемой славой. Барон Маннергейм и руководимый им трехмиллионный народ противостоял Сталину с его двухсотмиллионным населением.
Я удивляюсь, как раньше успевали слагать баллады об одиноком Шильонском узнике, когда на всю Европу был десяток поэтов. Теперь же их тысячи, но до сих пор не создана поэма мирового значения, воспевающая подвиги этого изумительного народа. Финны сражались, как спартанцы при Фермопилах, за свою свободу. Потомки должны знать: о линию Маннергейма разбивались волны бездарных атак; хуторяне и охотники, вооруженные винтовкой, лыжами и зорким зрением, отстояли границу протяженностью более тысячи километров; привязывали себя к вершинам деревьев и вели оттуда прицельный огонь; раненые, попавшие в плен, срывали с себя повязки… Войну вели простые рядовые люди, проникнутые подлинным доверием к своим военным и политическим руководителям. Они сражались за независимость, за свой народ, против навязываемого им рабства и истребления. Их поведение должно быть изучено и во многом взято за образец.
Три маленькие прибалтийские страны должны были выступить на стороне Финляндии против явной агрессии сталинизма. Ибо после очередного раздела Польши в 1939 году участь прибалтов была решена. Когда кончилась война с Финляндией, Сталин ввел войска к прибалтам. Крупные страны в своей взаимной борьбе бросаются судьбами малых народностей, как разменной монетой.
Мыслящим современникам было ясно, что одновременно с разделом Польши был произведен раздел влияний между обоими агрессорами. Правительствам прибалтов это должно было стать известным вскоре после этого события, поэтому с иллюзиями следовало расстаться сразу, как только Сталин напал на Финляндию. Понимая и зная свою бесповоротную, в случае выжидания, судьбу, им следовало объявить объединенный протест Сталину о прекращении нападения на Финляндию и провести одновременно всеобщую мобилизацию. Сталин, конечно, двинул бы на них войска, но он это все равно сделал спустя несколько месяцев. Прояви они свою инициативу не дожидаясь решений обоих агрессоров, не было бы тотального погрома этих наций. Они могли бы отстоять свою независимость, уж не говоря о славе и об истинном величии, которыми покрыли бы себя. Их решение имело бы огромный моральный эффект.
Перспектива отстоять свою самостоятельность открылась бы благодаря упорной одновременной борьбе финнов и прибалтов в их лесах с красными оккупантами. Требование Гитлера Сталину, положившее конец финской войне, распространилось бы и на прибалтов. Слов нет, Сталин при этом, может быть, оттяпал бы себе половину их территорий, но то была бы временная потеря. Более того, есть много оснований думать, что лесная полупартизанская война дала бы толчок к созреванию идеи использования заключенных сталинских лагерей. Финны и прибалты в 1939 году не сумели бы подойти к осуществлению этого замысла. Для этого у них не было ни средств, ни сил. Самое большее, что могли бы сделать финны с помощью прибалтов, при некоторой поддержке со стороны союзников, которые помогли бы им слегка отдышаться, это произвести по заданию англо-французских штабов пробный рейд в один из лагерей вдоль финской границы. В тех условиях призыв заключенных к восстанию был бы убийственной ошибкой, так как Сталин после такой несомненно удачной пробы немедленно уничтожил бы половину заключенных. Ставка на заключенных была действенна только в условиях войны между Гитлером и Сталиным и при условии предварительной координации и осторожности.
Один день бригады, имевшей шансы выдержать зимуНа нашем комендантском лагпункте зимой сорок первого года, кроме упомянутой мехмастерской, были еще две относительно благополучные бригады: паровозников и, отчасти, вагонного депо. Здесь теплилась жизнь, у находившихся в них была надежда перезимовать.
Нормальный день бригады мехмастерской начинался в четыре часа утра. Подъем возвещали ударами об обломок рельса, подвешенный на столбе. Из семидесяти человек треть выходила в поход за хлебом. Пользуясь преимуществом своего положения, мы сколотили прочный ящик с запирающейся на замок крышкой, к которому были, как к носилкам, приделаны ручки. Пока выдавали хлеб из хлеборезки, восемь человек окружали ящик, затем несли его в барак, а остальные пятнадцать с «дрынами» в руках охраняли его от нападений блатарей. Закон блатарей – «умри ты сегодня, а я умру завтра» – был в свирепом действии. Эта поговорка стала основным смыслом существования каждого блатного. Работать они не хотели и не умели; посылки были отменены с самого начала войны и «обжимать» было некого; кухня, ввиду отсутствия продуктов, подкармливала лишь главарей и их ближайших приспешников, а основная масса «доходила» и «доплывала» на общих основаниях. Наша бригада, благодаря своей некоторой незаменимости для лагеря, а также организованности и неплохому внутреннему руководству, питалась лучше других и представляла собой очаг жизни, на который, как мотыльки на огонь, налетали блатари в неистребимом стремлении выжить за счёт других. Наш «мозговой трест» немедленно вырабатывал ответные действия. Так, после первого нападения на наших хлебоносов был сбит ящик с замком и выделен посменный эскорт в 20–25 человек. После этого случая остальные нападения впавших в отчаяние блатарей были безо всякого для нас урона отбиты, тогда как одновременно производимые ими налеты на бригады лесоповальщиков часто оканчивались их победой. Начальство не реагировало на жалобы и лишь разводило руками, но через своих агентов пустило слух, что с ворами должны расправляться сами пострадавшие зэки. Продиктовано это было исключительно необходимостью выполнять план лесосдачи. Каждое такое удачное для блатарей нападение подрывало силы пострадавших, и соответственно уменьшался срок их работы в лесу. А одними своими средствами комендатура не была в состоянии противостоять натиску голодных блатарей.
Когда у работяги отнимали «кровную пайку», то есть кусок хлеба, заработанный сверхизнурительным трудом в страшных условиях, он зверел, зверели и его товарищи. Почти одновременно на лагпункте вспыхнули суды Линча или, вернее, упрощенные русские самосуды. Застигнутого на месте преступления вора подымали на высоту вытянутых рук и грохали три-четыре раза спиной об пол. Отбив почки, выкидывали, как падаль, из барака.
Ребята из нашего «мозгового треста» еще в конце сентября 1941 года дали установку работягам не оставлять хлеба в бараке, съедать его либо сразу, либо брать остаток на работу, и таким образом мы избавили себя от свар, склок и самосудов.
Но однажды в декабре, в самое голодное время, почувствовав боль в животе, я совершил недопустимую ошибку, оставив половину пайки в бараке. Придя на работу, я вскоре абсолютно стал уверен, что мой хлеб будет похищен, и целый день сознание вины не покидало меня. Я утешал себя лишь тем, что хлеб мог взять один из дневальных, и тогда мне достаточно было бы промолчать, чтобы не наказывать за свою ошибку другого. Вечером, на обратном пути, я встал в голове колонны заключенных, чтобы одним из первых вбежать в барак. Там довольные собой дневальные показали мне сразу пленника, которого они загнали в простенок между печкой. Это был воришка лет четырнадцати, маленького росточка. Его полные смертельного ужаса глазенки бегали по сторонам. Он прекрасно знал, что его ожидает… Если бы это был взрослый, то мое вмешательство не могло бы помешать самосуду, так как ненависть к блатарям достигла своего апогея. Дневальные подтверждали кражу из чувства самосохранения, так как обвинение легко могло пасть и на них. Их свидетельство заранее решило бы участь мальчишки, но увидев его, я, тоном, не допускающим возражений, заявил, что детей мы судить не станем, достаточно надавать ему по шее. Меня послушались, и напуганный зверёныш, ликуя в душе, что так дешево отделался, юркнул за дверь.
Вернёмся к распорядку дня бригады. Получив пайку и сбегав за баландой, каждый из нас заряжал себя энергией на предстоящие сутки. В начале шестого выгоняли на развод. На линейке мы строились побригадно, и нас поочередно выпускали из ворот возле вахты. Около шести мы были уже в мастерской, разбредались по своим участкам и приступали к работе. В первую очередь выполнялись заказы «главного удара», то есть требующие незамедлительного исполнения. Мастерская могла быть подвергнута карам при задержках, а тем более невыполнении таких работ. Все это понимали и работали с напряжением сил, с максимальным старанием и умением. Работяги тоже знали, что их жизнь зависит от нас, а наша – от выполнения главных работ.
Но зато второстепенные работы производились по мере возможностей. Как я уже объяснял, сдельщина фактически была устранена и заменена повременной работой, и лишь поэтому весь состав мастерской не был свален, с бирками на больших пальцах правых ног, в ямы, заменявшие братские могилы. Выдержать двенадцать часов без перерывов было невозможно, и руководители мастерской почти не делали замечаний работягам, обращая внимание только на главные работы. Много времени уходило у работяг на сушку «бахил» – стеганных на вате чулок, которые нам выдали в эту зиму. Вата в них, вследствие гигроскопичности, втягивала влагу, и ноги начинали замерзать.
В шесть вечера работа первой смены заканчивалась, но до нового развода, то есть до возвращения бригады назад в зону, обычно приходилось еще ждать полчаса-час, а иногда и до восьми вечера. Отбой был в десять. Намучившиеся за день люди, как только получали вечернюю баланду, стремились поскорей забраться на нары и забыться сном. Но не всегда можно было спать спокойно. Два-три раза в декаду нас среди ночи подымали, производили шмон, проверку личного состава или тащили в баню.
«Умри ты сегодня, а я умру завтра»В лагере велась вечная война «воров в законе» и «сук». Сук назначали комендантами и нарядчиками. Численно сук было немного, но они были облечены страшными полномочиями и, когда начальство уходило по домам, оставались на лагпункте единственной властью в темное время суток этой зимы. Во время нашей конструкторской работы над мельничным оборудованием начальник нашего лагпункта, ответственный за выполнение заказа, надумал, как тогда говорили, «создать условия». Нам предложили переехать из барака в «кабинку», то есть в небольшую комнату с двухэтажными койками. От комендатуры кабинка отделялась тонкой стенкой. Часов до двух заснуть было невозможно: коменданты-суки истязали своих жертв – воров.
Бить кулаками было неэффективно, ибо надо расходоваться на силу удара, да и кулаков жалко. И главный палач, дядя Саша, внёс усовершенствование. Он бил не кулаком, а небольшой кувалдочкой, соответственно соразмеряя силу удара. Истязание попавшихся воров начиналось иногда еще до нашего прихода из мастерской. Но чаще всего экзекуция происходила после отбоя. За стенкой раздавалось: «Дядя Саша, не буду! Дядя Саша, не знаю?» и ответное: «Говори, падло! Кто маранул? Мишанька карзубый? Говори, гад!». Затем следовал удар, и снова крик: «Ой, не бей, дядя Саша, не знаю!». Отливали водой, снова лупили, и опять доносилось: «Не знаю, дядя Саша!».
Против блатных я имел большой зуб. Много я от них видел зла. Но справедливость требует сказать, что некоторые из них в застенке дяди Саши держали себя геройски. Умирали, но не выдавали. Двух блатных так и не удалось сломить за ту неделю, которую мы сумели выдержать в кабинке. Оставшийся там дольше Жорж рассказывал еще о случаях, когда кувалдочка дяди Саши была бессильна перед упорством блатаря. Я отдаю должное этим блатным, хотя большинство их, конечно, «кололось», то есть выдавало своих сообщников.
Подавление блатарей было свирепым, но оно помогло нам почти без урону пережить эту страшную зиму. Конечно, спевшиеся друг с другом «суки» заботились лишь о спасении собственной шкуры, сводя счеты с ворами. Но не подвергай они воров столь жестокой расправе, наша самооборона сильно усложнилась бы, и многие погибли бы в открытых схватках с блатарями. За обедом пришлось бы ходить строем не меньше, чем в полбригады, и на случай нападения человек десять-пятнадцать должны бы были дежурить каждую ночь. Многочисленные и организованные блатари сумели бы запугать некоторых работяг, а кого-то из них и переловить поодиночке, так как в темноте они были бы хозяевами лагпункта.
«Дача» капитана БорисоваШтрафную «подкомандировку» шестого лагпункта зэки называли «дачей капитана Борисова». Попасть на нее в тот год означало неминуемую смерть.
Обычно, когда провинившегося зэка отправляли на штрафной лагпункт, то зачитывали приказ о его водворении туда сроком на шесть месяцев. Во время войны это была чисто символическая цифра, так как, в лучшем случае, выдержать там можно было не долее, чем на обычном лесоповале. Хозяевами положения на штрафной командировке были воры, и привезенного суку ожидала немедленная смерть.
С фраерами поступали иначе. В условиях военного времени явное противодействие установленному порядку могло расцениваться начальством как «контрреволюционный саботаж» (58–14), караемый десятью годами, а иногда и «вышкой». Поэтому воры «в законе», не считающие себя обязанными работать, внешне изменили тактику поведения. Теперь они по очереди выходили на объект, делали вид, что трудятся, хотя работу выполняли фраера, и записывали на себя их результаты. Поголовное истребление фраеров было не в их интересах, и работяга сколько-то времени мог всё же продержаться. Но когда он сваливался и попадал в барак смертников, то тут уж его лишали пайки безо всякого стеснения.
Жуткий голод и озверение заставляли воров и в других случаях отнимать у фраеров хлеб, и это приводило к тому, что обессиленных от работы и бескормицы добивали как симулянтов. Ряды работяг таяли. Тогда ввели правило выдавать хлеб каждому на разводе при выходе из ворот. На время как-то задержали катастрофический падёж. Но ворам отнюдь не улыбалось каждый день выходить в лес, и они сумели поломать и это нововведение.
Зэки – бывшие члены партииСреди нас были зэки посадки 1937-38 годов. Каждая истребительная кампания имеет всегда главное назначение. За первые годы советской власти уничтожались офицеры, дворяне, рабочие, крестьяне, духовенство, казаки, купцы, заводчики, домовладельцы, чиновники. В годы коллективизации снова взялись за крестьян, духовенство, торговцев, нанесли удар инженерам. Позже перекинулись на партийных работников.
Когда говорят о посадках 1937-38 годов, имеют в виду, главным образом, партийных бонз и всяких чиновников, проводивших до этого «генеральную линию» партии во всех областях жизни. Но сажали в то время по спискам, состоявшим из сорока восьми пунктов, и перечислены там были все недобитые, начиная от служащих царской охранки и членов белых правительств… Поэтому наш брат, простой смертный, во множестве попал и в эту истребиловку. Беспартийные Жорж и Василий из нашей пятерки были посажены именно в эти годы. Первый был блестящим инженером-авиационником, коллегой авиаконструктора Туполева, второй – первоклассным техником по холодной обработке металлов с ведущего харьковского завода. Эти прекрасные люди были лишены каких бы то ни было иллюзий в отношении советской действительности.
Но немало лагерников урожая тех лет, посаженных за партийную принадлежность, оставались верными, как они говорили, своим идеям. Беспартийных они презирали и ненавидели. Жили они в атмосфере предательства, созданной ими самими. Разговаривать с ними было опасно; большинство было тесно связано с оперуполномоченными. Каждый из них считал себя невиновным, жертвой ситуации. Они уверяли, что все закономерно, партия не ошибается, лес рубят – щепки летят… Если вызвали бы любого из них и сказали: «Произошла ошибка, органы разобрались, ты невиновен, будешь освобожден и восстановлен в правах, но партия требует, чтобы ты поработал следователем или шпионом», – то они согласились бы немедленно и приступили бы ретиво, с сознанием собственной правоты и отдавая себе полностью во всем отчет, к осуществлению этого предложения.
Я вовсе не хочу сказать, что все посаженные партийные руководители были трусами и предателями. Но на тех из них, кто не подписывал в тюрьме следовательские выдумки и не давал «материалов», обрушивали град истязаний и пыток, а потом дырявили затылок. Поэтому в лагеря отправляли главным образом сломленных, полностью разоруженных, «искренне и чистосердечно» признавшихся в несовершенных… ими преступлениях. И эта гниль задавала в лагерях тон с 1937 по 1941 год. По приезде в лагерь мы с этим столкнулись. Но картина начала меняться с первых же месяцев войны, так как происходил подвоз новых контингентов из армии и вымирание старых.
Заключенные, объединенные своей принадлежностью к партии, делились на две группы. Еще в этапных камерах Бутырок в Москве мимо нас за четыре месяца прошла значительная вереница бывших коммунистов. Большинство вызывало симпатию, немногие – резкое отвращение. Первые проклинали Сталина, а немногие из них признавали даже свою вину перед народом. Вторые изображали из себя сталинистов и плели омерзительную ложь.
Первые почти не уцелели: в лагерях я встретил всего несколько человек этого типа. Все остальные бывшие партийные работники принадлежали ко второму разряду. Пережившим первый год лагеря стало ясно, что легко быть хорошим за чайным столом, но очень трудно сохранить человеческое достоинство в условиях, где все направлено на твое попрание и уничтожение. И испытание доктрин, определяющих отношение человека к миру, происходит именно и только в страшных, а не в благополучных условиях. Доктрина коммунизма удобна для подавления, угнетения и уничтожения простых людей, но одновременно она превращает многих своих последователей в предателей, стукачей, рабов отживших формул, лжецов, трясущихся над своей шкурой, неспособных к протесту и объединению…








