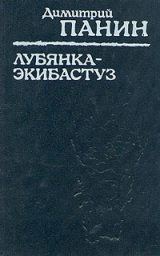
Текст книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Автор книги: Дмитрий Панин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
Несколько жен декабристов поехали в сибирские остроги, где отбывали наказание их мужья, в крытых возках под защитой верных слуг, титулов, денег. Восхищение общества и симпатии местных властей облегчали их невзгоды.
В сталинской деспотии женам осуждённых по пятьдесят восьмой свидания категорически были запрещены. Крайне редкие исключения были связаны с опасностями и тяжёлыми последствиями. Я и зэк Булгаков за составление справочника технических норм получили от управления лагеря через министерство внутренних дел разрешения на свидания с женами. В той мере, в какой это зависело от меня, а не от внешних обстоятельств, я не хотел сам способствовать развалу души моей избранницы и выслал вызов. Коль скоро она сама ко мне стремилась, мне не хотелось её отталкивать. Тогда она меня еще очень любила, мрачные стороны жизни как-то ее обходили, не затрагивали чистую натуру, в современном мире она плохо и наивно разбиралась. Я никогда не делился с ней своими мыслями. Мне казалось, что должно соблюдаться резкое разделение между мужчиной и женщиной: первый должен решать суровые задачи жизни, для второй – очаг, дети, искусство, религия. На склоне лет я вижу, что был прав – так должно быть для женщин, созданных для материнства и семьи.
На Воркуте находилось много обрусевших немцев. Среди них были прекрасные люди, которым пришлось перемучиться немногим меньше нашего. В первый год войны всех работоспособных немцев, решительно ни в чем не виновных, посадили в лагеря, обозвав при этом трудармейцами. В одинаковых с нами условиях они работали на соседних лесоповальных лагпунктах Вятлага. Женщин с детьми отправили прямо в ссылку. К описываемому времени от немцев осталось меньше половины, мужчины зрелого и пожилого возраста почти все погибли.
Одна деталь была почти по-свифтовски гротескна: у немцев не отняли их партийные и профсоюзные книжицы, и живые скелеты за колючей проволокой обязаны были устраивать партийные и профсоюзные собрания, выступать на них, восхваляя товарища Сталина за счастливую жизнь, одобрять все действия советской власти, включая и свою посадку…
Я сумел договориться с немецкими инженерами, моими хорошими знакомыми, о комнатушке в засыпанном снегом домике, где был припасён даже с осени уголь. Мне повезло, так как хозяин-холостяк уехал как раз в это время в длительную командировку. Пропуск у меня был, но на пассажирской железнодорожной станции не должна была появляться нога заключённого, и я послал двух молодых товарищей по работе, Мишу и Петю, встретить жену. Хотя они жили в зонах для заключённых и в тех же бараках, но, по иронии сталинских порядков, пока рассматривались вольными, ибо статью и сроки еще не получили. Считалось, что они, как власовцы, проходили фильтрационную проверку. К концу года им, а также военнопленным, стали лепить по двадцать пять, реже – по десять лет.
В первые два года после войны в лагеря шли огромные пополнения, состоящие из власовцев, пленников, перемещенных лиц, легионеров, солдат эсэсовских национальных дивизий, немцев, рассматриваемых как военных преступников, бандеровцев, военных из белоэмигрантов… Кого же так называли?
Власовцы – это все русские солдаты, дравшиеся против Сталина в составе частей вермахта или особых чисто власовских соединений. Общее число их превышало миллион.
Пленники – российские военнопленные, находившиеся в Германии за колючей проволокой или на различных работах. Первые пять миллионов пленных сорок первого года видели в Гитлере освободителя, не хотели с ним воевать. Пленники последующих лет в большинстве своем сдались не по доброй воле. Власовцы комплектовались из тех и других.
Перемещенные лица – гражданское российское население, угнанное немцами, а частично добровольно уехавшее для работ в Германию.
Легионеры – солдаты особых соединений, комплектовавшихся немцами из грузин и других кавказских народностей, калмыков, казахов.
Эсэсовцы – немецкие и из национальных дивизий прибалтов.
Бандеровцы – украинские националисты, главным образом из Западной Украины, прозванные нами западниками, боровшиеся сначала против Гитлера, а потом и против Сталина.
Вряд ли можно было узнать человека лучше, чем в тюрьме, лагере, на пересылке, этапе. Десять лет можно было работать на гражданке, но узнать своих соседей по работе меньше, чем за два дня на пересылке. В рабочей обстановке, встречаясь ежедневно, человека постигали до донышка, если только не было помех в виде стукачей. Откровенностью платили за откровенность, рабство восполняли внутренней свободой, возможная завтрашняя гибель располагала к исповеди или излияниям. Пленников я изучил в Вятлаге, власовцев – на Воркуте. В моем рабочем звене из пяти человек двое были власовцы.
Власовца следует сравнивать и сопоставлять не с мобилизованным в Красную армию, а с добровольцем, причем с таким, кто остался до конца идеалистом-патриотом. Власовцы своим умом дошли или согласились с необходимостью страшной войны на два фронта, с двумя тиранами. Они решили уничтожить сталинскую деспотию, тогда как остальные её поддерживали. Семьи власовцев были заложниками, семьи идеалистов получали по аттестатам денежные пособия. Мы оказались бы народом рабов для мира и для себя, если после всего пережитого за 25 лет не появились бы власовцы. Не случайно продажные перья советских интеллигентов оклеветали и очернили этих рядовых героев. Но следует помнить, что великим людям огромные ошибки легко сходят с рук, а когда судят рядовых тружеников, то забывают об истинных виновниках, создавших гибельную ситуацию:
– Страну превратили в концлагерь, население истребляли, как скот, а от людей требовали поддержки ненавистного режима, чекистов, колхозов, коммунизма.
– Коммунисты в 1917 году продали Россию. т Когда же россияне дождались, наконец, войны и взялись за оружие с целью свержения позорней– шей в мире сталинской деспотии, их шельмовали изменниками.
– У рабов и жертв террора свои оценки и законное чувство мести.
Работа наша шла успешно. Я смог на три дня распустить своё звено на отдых, а на последующее время дал задания. В течение недели я не намеревался показываться на заводе, полагая, что разрешение на свидание даёт мне такое право. Вопрос с жильем и топливом был решён с помощью добрых людей, с питанием предстояло выкручиваться с ловкостью, давно уже присущей советским людям. В стране был местами голод, в основном, зверские недостачи и неизбежные карточки. В таком положении была и Москва, поэтому жена могла привезти самую малость. Когда Генрих приносил в особых трехэтажных судках пайку хлеба и мой обед, она что-то туда добавляла, превращала его из лагерного в домашний, да вдобавок приготовленный на двоих. Вторую пайку я обеспечил себе без труда за деньги, так как хлеб в это время в лагере был довольно дешев. По вечерам к нам заходили друзья – Петрович, Генрих и несколько других близких нам ребят из пропускников. Жена угощала домашними лакомствами, варила напиток, который должен был напоминать кофе… Все были очень довольны. Я строго-настрого запретил любые разговоры на политические темы, и мы вполне обошлись без них. Выручал Петрович: мирное успокоительное содержание его повестей из мещанского быта было новым, интересным, даже романтичным для моей фантазёрки. Она согласилась на обратном пути заехать к матери Петровича в город Киров, бывшую Вятку, и они часами обсуждали, что она должна рассказать о сыночке-профессоре. Один вечер Генрих посвятил своей любимой исторической гипотезе о соединении Германии и России в одну страну во времена Бисмарка и раскрывал преимущества, перспективы, возможности, мощь… Раскрасневшийся «чугунный Генрих», как мы его частенько называли, блестя небольшими голубыми глазками, сыпал доводами и доказательствами. И ведь, действительно, всё могло получиться замечательно… Петрович кое о чем спорил, но Генрих разбивал его возражения, а я лежал и думал, что не разум управляет человеческим обществом, и воистину полезные идеи приходят в голову простым маленьким людям, а великие мира сего чаще осчастливливают страны истребительными войнами, а в двадцатом веке – еще и организованным людоедством. Моя хозяюшка украдкой позёвывала, все это её не интересовало. Когда Генрих выдохся, я попросил Петровича, чтобы её немного развлечь, рассказать, каким образом 12 сентября 1946 года мы с ним на спор бросили курить. Опасность рецидива была вполне реальна, так как к тому времени прошло всего полгода. Умудренный собственным опытом, я предложил письменные условия, в случае нарушения которых уплачивается сумма трехмесячного вознаграждения за арестантскую работу – в переводе на сахар она равнялась трем килограммам в месяц – и требовалось публичное признание своей неполноценности. Документ, кроме нас, был скреплен еще подписями двух секундантов. С тех пор мы не сделали ни одной затяжки. К рассказу Петрович прибавил еще ряд выдуманных подробностей. Мы веселились. Генрих был в ударе и переключился с Бисмарка на проделку с одним хиромантом. Это был неплохо говоривший по-русски эстонский паренек, работавший у нас чертёжником. Молодость любит шутить. Мы решили выдать его за крупного хироманта и разыграть наших титулованных вале? и костей. Первой жертвой пала заводская подружка Вера, в ту пору лагерная жена главного врача больницы нашего лагпункта. Как-то она проговорилась Петровичу, что ее врач – импотент. Длинный язык Петровича принёс нам эту тайну и, взяв с него клятву молчать, мы вооружили этим фактом нашего хироманта. Как бы невзначай мы разожгли любопытство Веры и кончилось тем, что хироманта пригласили к богатой чете. Парень своими предсказаниями произвел сильное впечатление, но вскоре они что-то сообразили. Мы посмеялись, Вера же обиделась, но через месяца два всё пошло по-старому.
Смех не далёк от слез. На следующий день разразилась беда. Хоть мы всё тщательно скрывали, но слухи просочились, кто-то стукнул, и машина лагерного режима захватила нас своими зубьями. Утром я пошел на лагпункт, чтобы показаться и принести хлеб. Вернулся в пустой дом: печь погасла, светлоокий ангел улетел. От соседки узнал что два солдата увели её с собой. Я бросился на завод, к друзьям. Хорошо, что нас не застали вдвоём: теперь меня могли забрать на работе, а не в недозволенном месте. Мишу и Петю я послал в мой отдел управления, просил их обо всём там доложить и быть в распоряжении пленницы. Минут через тридцать-сорок пришли два оперативника и повели меня в штаб вооруженной охраны лагеря.
Туда попадали только за крупные провинности, и нарушителя отсылали на шесть месяцев на известковый завод – штрафной лагпункт. Это была не дача капитана Борисова, срок был реальный, вынести его было можно, люди возвращались, правда, до крайности измотанные. В штабе меня сразу к начальству не провели, что было хорошим признаком, конвоир даже предложил закурить: значит, из отдела уже позвонили, объяснили, уговорили. Я решил, что, так как штабу главное – не уронить престиж, у меня отберут пропуск и этим ограничатся. Поэтому я спокойно объяснил, что всё делалось официально, разрешение дано Москвой. Но оказалось, что я виноват, так как не предупредил штаб. «Образованные, а не знаете! Сдать пропуск.». Сказано это было без крика, видно, для проформы. «Отправить на лагпункт!» От сердца отлегло, душа ликовала: если бы я совершил такую глупость и действительно заявил о приезде жены, то они разрешили бы двухчасовое свидание в присутствии оперативника. Ведь только сейчас они мне втолковывали, что всё в их руках. Мы вырвали у судьбы восемь суток, игра стоила свеч. Люди мы были закаленные, привыкшие к невзгодам. Жена не потеряла присутствия духа, разговаривала спокойно и, имея разрешение, требовала, чтобы её соединили с отделом управления по телефону. Ей приказали немедленно уехать. Ребята пошли за билетом, но поезд был только через два дня, и ей пришлось остаться в обществе моих друзей. В день отъезда мы решили попрощаться на заводе. В десять утра её привел Генрих, пропуск он выписал через своих зэков. Атмосфера была тревожная. Мы встретились в отделении помещения лаборатории при литейном цехе, нервничали, быстро попрощались, и Генрих увел её обратно. Я шел за ними до заводской вахты, взгрустнулось. Задумавшись, я тихонечко пошел к кузнечному цеху. Мимо меня пробежали рысью к правлению завода трое оперативников. Я понял причину беспокойства. Видимо, когда Генрих предъявил пропуск на её имя, предупрежденный вахтер тотчас позвонил в штаб. Там решили нас наказать по-настоящему за явное и наглое, по их понятиям, нарушение. Слава Богу, все обошлось благополучно. Мои ребятки вскоре посадили путешественницу в поезд. Пропуск недели через две мне вернули, правда, сильно ограничив радиус хождения. Я частенько проходил мимо домика, где мы провели восемь дней, и сердце сжималось от грусти.
РобингудыСреди прибывших в два послевоенных года заключенных были партизаны – бандеровцы и литовцы, – боровшиеся у себя на родине с оккупантами-коммунистами. Они любили рассказывать о своей лесной жизни, лихих нападениях, облавах, стычках, актах террора против чекистов. Лишившись пропуска, я проводил вечера в одиночестве и думал о методах такой борьбы. В оценках помогали мне разобраться ранние воспоминания.
Детьми, мы с удовольствием слушали, не больно-то вникая в тонкости, рассказы очевидцев о партизанской войне батьки Махно на Украине, об Антоновском восстании тамбовских крестьян, о мужицких «зеленых» дружинах, уходивших в леса. Наши детские души были целиком на стороне бедных людей, вынужденных отстаивать жизнь близких от непрерывных насилий, надругательств над религией, бандитских выходок, хорошо нам известных и по городской жизни.
От домашнего воспитания многое зависит. Мне посчастливилось прочесть книги, воспевающие рыцарство, верность, подвиги, доблести. И в дальнейшем это помогало мне правильно ориентироваться и понимать меру своего отступления от образцов. Нам с детства внушали правила честной борьбы, недопустимость пускать в ход запретные приемы и бить лежачего… До 1917 года этому еще учили в нормальных российских семьях.
Действия русских партизан против Наполеона в Отечественную войну 1812 года я воспринимал как личную обиду, и мне больно было от лютой партизанской войны испанцев с французской армией, которая велась в ту же эпоху. Как же так? Ведь сходятся геройские армии, принадлежащие христианским народам, и вдруг, наряду с открытой борьбой регулярных обученных воинских соединений, под покровом ночи, из-за угла, происходит подлый разбой людей, воспитанных не в духе воинской славы и посему способных на любую жестокость и низость.
И вот теперь, в зрелом возрасте жизнь заставила меня понять, что террористические акты и народная партизанская война допустимы только как ответ власти, которая вонзает в население зубья организованного террора и производит его истребление; ниспровергает религию; производит экономическое закабаление: отнимает частную собственность, преследует личную инициативу и предприимчивость; лишает людей мирной борьбы за свои интересы; уничтожает право на гражданские свободы.
Во всех остальных случаях при поражении армий следует подписывать мирный договор, а далее придерживаться европейских традиций: если нужно, накапливать силы, формировать армию и уже открыто вступать в новую войну.
Терроризм и партизанская война против нормального противника-победителя должны не допускаться, подвергаться всемерному осуждению и искоренению, ибо вызывают репрессии ни в чем не повинных людей, обращают жизнь в ад и, не имея истинного оправдания, являются уголовными преступлениями.
В свете этого партизанская война Махно, Антонова, «зеленых» с большевистским режимом полностью обоснована: она была ответом крестьян на террор, невиданное систематическое ограбление, лишение элементарных прав, издевательства над верой…
Вполне оправданы партизанские действия поляков, югославов, французов и др. против гитлеризма; партизанская война и террор украинцев-бандеровцев против гитлеризма и сталинизма; борьба прибалтов с советскими оккупантами за свою независимость.
Но невозможно согласиться с партизанскими войнами в России и Испании против войск Наполеона, хотя среди партизанских отрядов, особенно в Испании, преобладали народные дружины. И уж полного осуждения требуют современные, так называемые партизанские войны, разжигаемые тоталитарными режимами. За малым исключением их ведут отряды, состоящие из простых людей, действующих по приказу власти, коммунисты, выполняющие партийные директивы, и солдаты регулярных частей. Такие «партизаны» не выражают интересы народа, терроризируют его и навязывают ему свою волю.
Заповеди зэкаУ нашего дорогого профессора, прекрасного работника, часто возникали конфликты с заключенными. Как начальник технического отдела завода, он был слишком требователен для лагеря; по его мнению, обязанности выполнялись не так быстро, как ему хотелось. Однажды нам с Генрихом на лету удалось предупредить его желание посадить провинившегося зэка на пару суток в изолятор. Сначала мы пригрозили ему полным разрывом, а потом постарались доказать, учитывая, что он молодой лагерник, недопустимость такого поступка. В ходе разговора я понял, что Петрович – частично, под прессом советской действительности – выработал жестокое, бездушное отношение к рядовому человеку. Оно было в резком противоречии с его идеалами, и под конец он вынужден был с нами согласиться.
Это было наше единственное острое столкновение, но я убедился, что мои требования к поведению в условиях заключения, сложившиеся в страшной обстановке военных лет, представляют собой ценность не только для новичков, но полезны и старым лагерникам, поскольку нравы блатного мира и внушения чекистов все время действуют на людей разлагающим образом. Я хорошо обдумал свой опыт и извлек из него правила, которыми давно руководствовался. В краткой форме заповеди зэка звучат так:
1. Смерть стукачам.
2. Удар за удар.
3. Помогай достойному.
4. Не суй нос в котелок соседа.
5. Не задирайся.
6. «Кровный костыль» – тебе одному.
7. Мораль рабов – чекистам.
8. Друзья – твое семейство.
9. Раб снаружи – внутри воин.
10. Спасешь душу – сохранишь тело.
В тех условиях заповеди укрепляли человеческое достоинство. Желание Петровича посадить заключенного разбивалось о некоторые из них:
– седьмую, так как он хотел действовать, исходя не из нашей, зэковской, морали, а с позиций чекистов;
– четвертую, ибо столь грубое вмешательство во внутренний мир зэка, тем более методами чекистов, было совершенно недопустимо. Приказать и напомнить зэку обязывала деловая необходимость. Можно было «оттянуть», отругать, накричать, желательно один на один или тщательно выбирая угрозы на людях. В условиях завода этих средств было достаточно, люди дорожили своим местом;
– пятую, несколько Петрович при этом бросал вызов обществу и сам себя превращал в предмет широкого обсуждения, осуждения и презрения. К тому же, это правило в скрытом виде говорит: будь готов дать отчет в своем поведении на пересылке. За такую выходку его могли убить.
Глава 15. Дорогой в Москву
Расстрел блатарейВ начале сентября сорок седьмого года мне было объявлено, что я должен распрощаться с Воркутой. Это – большое событие в жизни каждого заключенного, и, естественно, я бросился выяснять, куда идет этап. Поскольку я работал в управлении, удалось узнать, что отправляют в Москву, видимо, в распоряжение четвертого главного управления министерства внутренних дел, которое ведало специальными работами инженеров в закрытых конструкторских бюро, получивших позднее название шарашек. Уезжать мне не очень хотелось, я даже предпринимал некоторые шаги, чтобы остаться. Но потом решил, что надо испытать судьбу, и перестал упираться.
Из Воркуты этапируют всех с одного пересыльного лагпункта, куда я и еще двое заключенных прибыли с утра. Накануне убили там пять блатарей, хотя в мае этого года Сталиным был издан указ об отмене смертной казни и замене ее двадцатипятилетним сроком тюремного или лагерного заключения. Весть о расстреле без суда взбудоражила всех нас. Заключенные, обслуживавшие лагпункт, ничего не скрывали, и мы выяснили, что это были «воры в законе». За лагерные преступления они должны были быть отправлены на штрафной лагпункт, так называемый известковый завод, который находился в руках «сук», их непримиримых врагов. Многие происходившие события становились известными остальным заключенным, поэтому не могло быть сомнений, и воры это знали наперед, что если они туда попадут, их ожидает мучительная и немедленная смерть. Естественно, они отказались ехать, тем более, что смертная казнь им теперь не угрожала, и забрались в пустой барак, где разворотили кирпичную печь. Когда их нашли и хотели уже «брать», они начали бросать кирпичи в надзирателей, и в перепалке ушибли одного или двух. Тогда их заперли в этом бараке. Начальство обратилось в управление Воркутлагеря, оттуда по радио снеслись с министерством в Москве, где приказали произвести расстрел блатарей. Это была не официальная казнь, а мера пресечения вооруженного сопротивления властям. Но существенно ли для убитых, как в них выстрелили – в затылок или в висок? Вызванная опергруппа была вооружена огнестрельным оружием. А что можно сделать кирпичом, когда в тебя стреляют из автоматов? И, конечно, всех застрелили. Мы имели возможность видеть этот барак, когда его еще не привели в порядок: печь была разворочена, оставались следы крови, но трупы были уже вынесены.
Для меня был ясен ход мыслей блатарей, перед кровью которых я все же снял шапку. Они думали так: мы кидаем, в нас стреляют, кого-то убьют наповал, большую часть только ранят. Раненых, как «друзей народа», отвезут в больницу. Пройдет время, и, глядишь, решение об отправке забудется. Расчет вполне реальный именно для воров, то есть для социально близких режиму, для его «друзей». Если бы такое сопротивление оказали мы, контрики, то нас тут же добили бы из пистолетов и не подумали бы испрашивать разрешения.
Это кровавое событие мы восприняли, в общем, как рядовое явление. Нельзя сказать, чтобы оно нас слишком омрачило. К этому времени мы уже достаточно огрубели. Нравы были кругом жестокие; жизнь человеческая ни в грош не ценилась. Поэтому каждый из нас только усмехнулся лишний раз насчет «законности» этой системы. Мы знали, что они делают все, что им нужно, и так, как им хочется. Советские путаные, противоречивые законы и нарушающие их указы – лишь «руководство к действию», простор для произвола и должностных преступлений. В них заглядывают только для оформления «дел» и для того, чтобы оградить себя от происков со стороны своих же «товарищей» по «органам», партии, надзору… Способность пожирать друг друга, как это делают крысы в железной клетке, и создавала видимость наличия каких-то действующих юридических норм. Впрочем, сказанное относится к бытовым и уголовным преступлениям. В делах же политических царил голый произвол, так как знаменитая пятьдесят восьмая статья давала следствию возможность возводить любую нелепость в обвинение, что и было продемонстрировано созданием нескольких десятков миллионов выдуманных дел.








