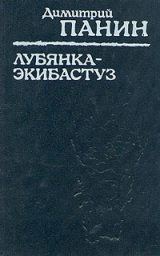
Текст книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Автор книги: Дмитрий Панин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Мы предстали перед начальником. Вид у нас был растерзанный и жалкий. Очень уж страшно выглядела моя окровавленная рубашка и другие разлохмаченные товарищи по этапу. Не пострадавший Ручкин и представительный, в уцелевшей еще роскошной одежде, Борис стали врать без зазрения совести, объяснять, какие мы крупные, незаменимые специалисты, вызванные для пуска завода, показывали, до какого состояния меня избили, кричали, что этого никто из нас так не оставит. Рассвирепевший начальник потребовал старосту камеры. Вышедший блатарь был необыкновенно живописен: рожа красная, распаренная, рубаха на груди расстегнута, на шее красный рубиновый, снятый с кого-то крест, на лице полнейшие преданность и старательность. Начальник заорал: «…расстреляю без суда и следствия. Вы что мне здесь разбой устраиваете?» Блатарь ел его глазами и успевал выкрикивать в тот момент, когда тот забирал в легкие воздух: «Гражданин начальник, всё без меня, мы в бане были, я их гадов…» Вранье, конечно. Курочить начали сразу, как они появились, но начальник смягчился: «Бытовик?» – «Конечно», – преданно ответил староста. Последовала команда: «Вывести всех и обыскать камеру!» Мы старались не пропустить вещи, которые урки могли уже на себя напялить, и тут же их снимали. Затем нас запустили в камеру, и мы нашли всё наше имущество. Только блатари рассыпали по полу мешочек с горохом Бориса, почуяв недоброе, с тем, чтобы потом собрать по горошине и съесть. Победа была одержана, нас отвели в действительно спокойную камеру, где преобладали калеки войны, с палочками и костылями. Мы почувствовали себя как в раю – ни разбоя, ни драк, ни шума. Расположились и заснули.
Остальные дни, проведенные в пересылке, были скрашены рассказами Льва. Как зачарованные, слушали мы часа по четыре подряд его поставленный красивый профессорский голос. В его изложении Дюма приобретал глубину и христианский смысл; из беспутных драчунов незаметно получались светлые герои, преодолевавшие темные силы злодейства. Лев всегда сидел на верхних нарах на неизменном одеяле, скрестив ноги и не меняя позы в течение всего своего повествования. Позднее я понял, что ему, как йогу[24]24
О его иоговском купании в снегу, когда он был зимой сорок третьего – сорок четвёртого года в изоляторе, рассказывается в главе десятой.
[Закрыть], была необходима для медитаций такая поза лотоса.
Вездесущий Ручкин узнал у надзирателя, что мы обязаны были Савке упорному стремлению загнать наш этап в камеры, «где вечно пляшут и поют», как романтично сами себя рекламировали блатарики. Во время нашего первого стояния в коридоре он шепнул знакомому тюремщику, что Борис – богатый «бобёр», то есть обладатель ценной одежды, не только надетой, но и спрятанной в его «сидоре». На этот раз полный мести и ненависти философ и поэт Борис стал неузнаваем. Случай свести счёты представился всем нам в день отъезда. Савка спрятался и не откликался; на Воркуту он ехать с нами не хотел. Решили проверить по формулярам камеры, в которые он мог попасть с этапа. Времени до отправки оставалось мало и начальник, когда мы стояли уже в коридоре, готовые к этапу, вспомнив об оказанной им помощи, обратился к Борису, которого запомнил. К моему удивлению, тот согласился немедленно, и они вместе с Ручкиньш стали у двери, через которую по одному выпускали всех заключенных. Как и следовало ожидать. Савка оказался в камере, где разыгралось наше сражение, был обнаружен Борисом, и его присоединили к нашему этапу. Мы крепко его обругали и даже попытались что-то ему объяснить, но тщетно: такие изверги, если уж когда-нибудь исправляются, то только с помощью Церкви.
Общий смех и издевки вызвало появление двух бытовиков, которых легально начал курочить Савка еще в нашем присутствии. После пребывания в камере со своим «другом» они оказались без «сидоров» и одетыми в рубища вместо справной теплой одежды, которая была на них поначалу. «Ну, как, и дальше будете держаться блатных?» – спросили мы, но ответа не получили.
Вернувшиеся с Воркуты заключенные рассказали нам перед самым отъездом, что железная дорога доведена уже до самого города, следовательно, мы ехали не на её строительство. Наш малюсенький этап разместили в пассажирском, а не в телячьем вагоне, что при нашей худой одежонке имело огромное значение. Мы вздохнули полной грудью, и я как-то всем существом понял, что эра ужасов закончилась, впереди ничто уже не могло испугать и, по сравнению с пережитым, всё должно было вызывать лишь усмешку.
Реальные политики на пересылке[25]25Это было написано до путешествия Никсона и Киссинджера в Москву и Пекин.
[Закрыть]
В девятнадцатом и в начале двадцатого веков руководители государств еще имели дело с людьми, схожими с ними по воспитанию и уровню развития. Поэтому они понимали друг друга и примерно одними глазами смотрели на жизнь. Положение резко изменилось, когда появились деспотии двадцатого века. Западные деятели, окончившие Оксфорд, Гарвард, Итон и им подобные заведения, отлично понимали друг друга и воображали, что их коммунистические партнеры имеют тот же круг понятий, оценок и установок. Причина колоссальных провалов Запада во время второй мировой войны в том, что, доверившись обещаниям Сталина, ему отдали пол-Европы и весь Китай. Меньшие ошибки продолжаются и поныне, но в атомную эпоху, когда агрессорам делают хоть какие-либо уступки, они становятся более опасными.
Всего за бытность свою в заключении я прошел через одиннадцать пересыльных тюрем, но уже после первой из них у меня появилось вспомогательное средство оценки людей: поведение человека на пересылке. Заключенным это нравилось и часто такой способ превращался в игру, особенно когда фактического материала для суждений не хватало. Тогда выбранное жюри решало, чья версия более правильна.
В 1972 году на Западе я убедился, что демократическая свобода допускает насмешки над государственными деятелями, исключая, кажется, коронованных особ, охраняемых добрыми историческими традициями. Это справедливо, так как избранник народа не должен мешать остроумным его представителям выражать свое мнение.
Я тоже позволю себе пошутить над сильными мира сего, так как, чтобы вести правильную политику, надо понимать психологию тех, с кем ведут переговоры. В первую очередь следует ознакомиться с мышлением руководителей деспотий, а также и других стран свободного третьего мира, которые далеко не всё понимают так, как принято в ведущих западных странах. Поэтому неплохо тем, от кого зависят судьбы мира, пройти необходимую стажировку в пересылочной тюрьме с настоящими блатарями и только проследить, чтобы, кроме пары синяков, иных увечим нанесено не было. Но так как такое условие невыполнимо, придется ограничиться актерами, хорошо изучившими нравы и взгляды настоящего блатного мира, скажем, из Голливуда, благо там собрались отовсюду и говорят на любых языках. Однако руководители должны быть готовы к худшему и знать, что они в любой момент могут попасть в руки настоящих блатарей.
Я думаю, что легче всего пришлось бы президенту Никсону и его помощникам. Они подошли бы к вопросу прагматически – ознакомились, подготовились, оценили реальные наблюдения и выводы. Возможен был бы такой разговор:
– Послушай, Дик, надо вызвать ученых-советологов и кремлеведов. Они нам смогут помочь.
– Хорошая идея, но сейчас нам полезнее парни, которые сами поездили по сталинским пересылкам.
– Что ж, поищем. А тем временем разучим несколько приемов дзюу-до, да займемся с тренерами бокса.
Вполне подготовившись, компания из четырех-пяти министров в своей одежде, захватив вещи и продукты в рюкзаки, отдает себя в руки надзирателей пересылки. Камера набита зэками смешанного состава. Какое-то время стажеры присматриваются. Но вот, на середину сцены выходит явный блатарь, одетый согласно идеалам сталинской эпохи: сапоги с загнутыми ниже колен голенищами, свешивающиеся на них широченные шаровары с непременным напуском, цветастая рубашка, поверх которой напялен жилет; во рту на левом клыке блестит обязательно золотая коронка. Это, конечно, высший чин – «фиксатый»; обычно к титулу добавляют имя вора: «Юрóк фиксатый» или «Митянька фиксатый»… Его наряд – идеал каждого блатаря, но так щегольнуть редко кому удается, да и то на короткое время, так как очень быстро шикарная уворованная сбруя проигрывается в карты и исчезает из камеры в обмен на табак, а иногда и на водку. Потоптавшись на середине камеры, блатарь запевает: «Разменяйте мине сорок миллионов» или «На Молдаванке музыка играет, а бикса в доску пьяная лежит…» На родные звуки из углов и с нар слетаются экстравагантные фигуры воров. Это давно сорганизованные блатари, подчиняющиеся кровавой дисциплине воровского закона и своему «пахану» – особая каста со своим языком, проверенной тактикой разъединения, а затем подавления по одиночке. Самые шустрые из них лезут вперед, всё выясняют, оценивают. Задача американцев пока наблюдать и ни во что не вмешиваться. Разыгрываются типичные сценки. «Фраера» и «сидоры поликарповичи» сидят на своих мешках, лишь кое-где они сбились в кучку по два-три человека. Начинается процедура раскурочивания. Наши стажеры видят, как одних «оказачивают», то есть отбирают всё, других только «половинят». Вид у бедняг испуганный. Их много, вместе они могли бы смять и задавить несколько блатарей, но они безропотно отдают свои пожитки. Рядом с хорошо одетым старичком на большом мешке подле стажёров примостился парень, и они мирно разговаривают. Уже несколько раз мимо них проходят блатари. Один из них, наконец, как бы невзначай натыкается на мешок и сбивает его ногой, другой толкает первого на старика, парень его отбрасывает, и в это время выдергивают шмотки. Парень стремительно кидается на помощь, трое блатарей начинают его лупить, а в это время торба исчезает. Вокруг никто с места не сдвинулся и не пришел на помощь. К парню, которому крепко досталось, подходит «пахан» и менторским тоном говорит: «Тебя не трогают, и ты не дрыгай ногами». Этот основной закон пересыльных тюрем блатари внушают своим жертвам, а тоталитаристы – всему миру.
Дик: «Знаете, ребята, мне не по себе. Паршиво как-то. Несколько человек избивают одного, а мы сидим и смотрим».
Генри: «Что говорить, это против наших традиций».
Вильям: «Я вцепился в локоть Агню, иначе он бросился бы в свалку, но больше этого делать не стану…»
Обмен мнениями прерван появлением блатного пацана лет четырнадцати, который, ни слова не говоря, пытается утянуть рюкзак Вильяма; тот как раз его снял, так как уже всем захотелось есть. Генри ближе всех и пинает мальчишку ногой, не больно, а так, чтобы тот не приставал. Появляется громадный, мрачного вида верзила: «Ты что, падло, маленьких обижаешь?» и хочет приблизиться вплотную.
Дик. «Вдарь ему как следует».
Крепким мастерским ударом в челюсть верзила отброшен на сидящих рядом фраеров. Блатные застыли от неожиданности. Уркач, кряхтя, подымается. Явное замешательство, ретируются. Через полчаса появляется «пахан» со своей свитой и они запросто подсаживаются к стажерам. «Вы что ж, мужики, маранули нашего? Он даже ходить не может… давайте по-хорошему! Сами отдайте ему „шкары“, „бобочку“, „колеса“. У вас в „сидорах“ полно и давайте закурим».
Стажёры рады представившемуся случаю и стараются втолковать, внушить свою западную точку зрения. «Пахан» разъяснений не слушает, это ему ни к чему, но закуривает американские сигареты и, ничего не добившись, уходит.
Ночь. Утомленные стажёры засыпают, но вдруг их будят крики. Всем скопом блатари наскочили на группку фраеров человек в шесть, которые накануне ни во что не вмешивались, но к себе не подпускали. Один из них нарочно не спал и охранял справные шмотки и сидора, которыми можно было поживиться. Но хотя нападение не было неожиданным, на стороне блатарей было явное преимущество. Из речей стажеров пахан усвоил, что они не намерены больше сидеть сложа руки, если около них начнут избивать людей. Поэтому они рассчитывали во время свалки стащить пару американских рюкзаков и молниеносно передать их за дверь надзору, с которым они были в доле. И действительно, стажеры бросились на помощь фраерам; блатные не выдерживают их натиска, отступают. Правда, на окне не без потерь, и один рюкзак ушел за дверь. «Поликарповичи» не реагируют, лишь подымают голову, вроде их это не касается. Стажёрам жаль мешка, но они компенсированы. Происходит консолидация сил: возле них располагаются те, кому они только что помогли, – избитый утром парень и еще десяток крепких ребят из разных углов камеры. Рабская зависимость от блатарей давно опротивела, и преподанный им урок понравился. Многие из них только ждали случая объединиться, но не знали, как это сделать. Теперь у стажёров целая армия, и перевес над блатарями несомненен. Дик посылает ультиматум с Вильямом: немедленно отдать всё награбленное накануне, или заберем силой. Такой язык блатарям понятен. Они сносят вещи, которые раздаются хозяевам, а сами расползаются до того времени, когда появятся шансы на успех. Дик подводит итог: мир – громадная пересылка. Позор тем, кто трусливо ждет своей очереди. Мы окажем помощь всем, кто достоин ее своей ответной борьбой.
Остальные стажёры, а с ними и все подлинные американцы – с ним согласны.
Новогодний тостВ столыпинском вагоне было тепло. Этой же зимой прибывали целые составы товарных вагонов, холодных, так как нехватало топлива. Там плохо одетые замерзали насмерть, и после такого привоза трупы складывали штабелями; у многих же мороз надолго оставлял тяжелые воспоминания. У одного зэка, кроме щек и носа, пострадал во сне даже глаз, так как в вагоне он лежал у стенки, куда задувал ветер.
Мы наслаждались неслыханными в то время и в нашем положении удобствами: верхние полки купе были уже заняты и люди с них не слезали, но внизу нас было только восемь человек, так что днем мы сидели на скамьях, а ночью лежали впритык на них и на вещах. Конвой тоже попался не очень вредный. Мы «катились» по его вине всего двое суток без хлеба. Этап продолжался две недели. Хотя была самая темная часть года, свет проникал из коридора и обстановка располагала к беседам, рассказам и размышлениям.
Лев теперь молчал, реванш взял Борис. Три дня подряд мы слушали, затаив дыхание, изумительно интересный приключенческий роман о девушке Сузи, которая в самых невероятных положениях не потеряла невинности. Я уверен, что автор книги Сесиль Барт не додумалась до многих подробностей, которыми Борис украсил свое повествование. Отдавая дань составу слушателей, он добавлял крепко просоленные подробности, а когда становилось ясно, что на этот раз Сузи уже несдобровать, заканчивал торжественно неизменной сентенцией, которую мы, подражая его интонации, повторяли хором за ним: «Но Сузи знала, что мораль есть узенькая балочка и, сорвавшись, обратно не подымешься».
В перерывах между слушанием «романа» и другими разговорами я стремился подвести итоги своему пребыванию в Вятлаге. Больше всего я думал о своих, оставшихся там, друзьях. Наш наставник и добрый гений на первых порах столь трудной лагерной жизни Жорж Лаймер скончался в конце сорок второго от воспаления легких, которое схватил, когда ехал на паровозе и продрог. Вопреки этой версии, я убежден, что это было самоубийством. Мне два раза приходилось совершать такое путешествие, и я всё время находился снаружи на боковой площадке и лишь когда сильно стыло лицо, заходил в будку погреться. По сравнению с остальными, Жорж питался калорийной здоровой пищей, был в хорошем меховом полушубке, валенках… Заболеть можно было только сознательно, распахнувшись и простояв на ветру до окоченения. В год после нашего отъезда на управленческий лагпункт Жорж чувствовал себя очень одиноко, и мы говорили с ним об этом во время редких встреч. Жорж острее нас чуял и понимал угрожавший нам арест, и ему, как и нам, было ясно, что на следствии его постарались бы сделать вождем. Страшные условия лагерной тюрьмы ему были известны лучше, чем нам. Общее разочарование в Гитлере он переживал особенно сильно и дальнейшая перспектива рисовалась в безнадежных тонах. Кроме того, он был крайне расстроен своей ссорой с Юрием, жаловался на это, и, беспристрастно, истина была на его стороне. Юрий, невзирая на все достоинства и талант, обладал одной страшной чертой – умел создать отрицательное мнение о человеке. А именно ему следовало быть особенно благодарным Жоржу, без которого он едва ли пережил бы первую зиму: срок у него был восемь лет, место конструктора было занято стукачом, и без таланта Жоржа не видать ему мастерской как своих ушей. Юрий не обладал глубиной мышления, а качества ума всегда совершенствуются профессией человека. Он был первоклассным конструктором и рассказывал, как еще в 1930 году, с помощью имевшего тогда хождение одного только технического справочника Хютте, изобрел телевизор с механической разверткой, а в дальнейшие годы конструировал самые разнообразные машины и механизмы. Так как моя судьба сложилась позже схожим образом, мне хорошо известно, что такая работа не способствует оттачиванию мысли. Вникнуть как следует в тонкости никогда нет времени, всегда надо срочно делать заказ, и сразу по его выполнении переключаться на другой. Иное бывает, когда конструктор всю жизнь посвящает одной проблеме, тогда даже при отсутствии таких природных качеств они в какой-то степени появляются в процессе работы. В силу этих причин Юрий не додумал линию своего поведения. Надо было нырнуть в норку, вроде моего электроцеха, чтобы тихо и по возможности без приключений пережить свой срок. Но Юрий хотел быть конструктором, то есть одной из центральных фигур мастерской, и одновременно отключиться от всех разговоров, представляющих опасность. Стремясь его уважить, мы обычно при нем замолкали. Но он требовал большего – прекратить вообще между собой разговоры, поскольку они могли закончиться для него критически. Этот каприз исполнить, конечно, было невозможно, и позднее его гнев обрушился на нас. Он недопонял, верней, упустил из виду, что половина наших однодельцев не вела никаких опасных разговоров, и все же угодила вместе с нами и сердиться следовало на эпоху, чекистов, но не на нас. Обида его на Жоржа была такого же сорта.
Прискорбно всё это вспоминать, но крайне важен вопрос взаимоотношений хороших людей, а в дальнейшем – и борцов за правое дело. Доморощенные установки не устраняют вспышек злобы, зависть, соперничество, выдуманные обиды…
Современные диссиденты должны устанавливать свои отношения и правила поведения по уставам современных рыцарских братств. Тот, кто вступает на путь борьбы с тоталитаризмом, должен победить в себе жалость к самым близким людям и свыкнуться с тем, что мученики на земле увеличивают сонм святых на небесах.
Сионист Борис Р. остался в моей памяти высоким блондином с мефистофельскими чертами лица. Он ошибался меньше всех и обладал удивительной целенаправленностью мысли. В разгроме Германии он был убежден и еще в Бутырках до начала войны доказывал это сравнительными цифрами, отражающими экономические возможности намечающихся коалиций. Никакие успехи германского оружия не могли сбить Бориса с его позиций. Более того, он ошибся лишь на год, предсказав поражение Германии. Испытывая фанатическую ярость к Гитлеру, он считал при этом, что его людоедские акции в отношении евреев объективно помогают скорейшему образованию жизнеспособного еврейского государства, и полагал, что это произойдет сразу же после конца войны. Он уверенно, спокойно ждал своего часа, о побегах и бунтах даже слышать не хотел.
В шутку он благодарил «товарища» Сталина за посадку, но был в претензии, что ему дали три, а не пять лет, ибо тогда он подоспел бы прямо к победе.
Четвертым был мой любимец Василий. Политика его абсолютно не интересовала. Он был от природы человеком действия. Ему бы быть солдатом, путешественником, авантюристом, золотоискателем, конквистадором, охотником… Как запорожец, он считал дом и оседлую жизнь местом отдыха и выполнения скучнейших обязанностей. Но в советской системе вольный орел был обречен. Его не только в общей сложности на пятнадцать лет посадили на цепь за решетку, колючую проволоку, на прикол в ссылке, но и всю остальную жизнь он был привязан паспортным режимом к определенному городу, который мог покидать только на время отпуска. Судьба Василия не единична. Такова трагедия всех сильных, энергичных и, главное, предприимчивых россиян за истекшие пятьдесят лет. Ученый и инженер еще могли частично укрываться от тошнотворной действительности, но люди, в груди которых горел огонь личной инициативы, подверглись массовому уничтожению. Оставшиеся чудом в живых были обращены в рабов, привязанных к одному и тому же месту, и необходимая для них деятельность была заменена нудной работой на государство, телевизором и водкой. Чудовищное распространение пьянства в этой деспотии объясняется пребыванием в рабстве мужчин, созданных для свободной деятельности.
Мои размышления были прерваны, так как постановили, что каждый по очереди должен рассказать что-либо смешное и обязательно из своего личного опыта. Пальма первенства на этот раз досталась не нашим менестрелям Льву и Борису, а милым рабочим ребятам. На той же пересылке они сумели подметить ужимки блатарей, которые имели наибольший успех, а теперь изобразили смешные сценки. Пришла моя очередь – от рассказов никого не освобождали. Обобщать не стоит, но часто восприятие жизни у более мыслящих проходило в то время через призму трагизма. Я поведал, как хорошо одетый человек лет пятидесяти, стоявший во главе отдела снабжения Вятлага, бывший начальник крупной тюрьмы, стоял возле своего дома, в сумерках. Он до смерти боялся темноты, и мог так ждать несколько часов, но в помещение не войти. Ледяное молчание было мне ответом. Меня заставили выступить на «бис» и, порывшись в памяти, найти все-таки что-либо смешное. Тогда я вспомнил, как к нашему инженерному бараку, где были только люди с высшим образованием, «культурно-воспитательная часть» (КВЧ) прикрепила воспитателя из ссученных воров, окончившего два класса, и он по вечерам проводил с нами политбеседы. Теперь я уже с полным правом потребовал, чтобы засмеялись. Ведь какой-нибудь новый Рабле заставил бы потешаться весь мир, располагая таким фактом. Хотя – вряд ли. Трагизм и ужас действительности не позволили бы даже великому сатирику вызвать смех, скорей появилась бы саркастическая усмешка, но, несомненно, вся прогнившая система с её «единственно научным мировоззрением» была бы им пригвождена к позорному столбу.
Все же меня оставили в покое, поскольку успеха рассказы мои не имели, и я снова погрузился в думы о Вятлаге. О двух наиболее ярких зэках той поры мне хочется поведать и западному читателю.
Летом сорок второго в нашей мастерской появился молодой человек лет тридцати пяти, бытовик в чине снабженца, с пропуском. Макс Бородянский. Он был веселым, очень общительным одесситом. Как бытовику, ему следовало бы держаться от нас подальше, но его тянуло к разговорам, к обмену мнениями. А кроме нас, поговорить так, как ему хотелось, было не с кем. По своей должности ему много приходилось разъезжать и встречаться с разными людьми. Из поездок он всегда привозил какое-нибудь наблюдение над чудовищной, а по сути идиотской, действительностью. Комментировать свои сообщения ему, бытовику, не полагалось, и это мы уж взяли на себя. Он же голосом, преисполненным ядовитой насмешки, произносил неизменно в конце одну-единственную фразу: «Все нормально!». Интонация при этом была такой, что часто не надо было больше ничего прибавлять к его рассказу, оставалось лишь дружно рассмеяться.
Он был финансовым гением, и я уверен, что на Западе создал бы крупный банк. В сталинской деспотии он проворачивал какие-то головокружительные денежные операции, вполне, как он говорил, законные, и создал себе подпольное состояние. Может быть, его бы и не загребли, если бы он вел себя поскромнее. Но общительный нрав его погубил. Он сорил деньгами, обедал каждый день с семьей в одном из лучших московских ресторанов, где его знали, и метрдотель брал всегда его дочурку на руки, поднося к вазе с фруктами или конфетами. Рестораны кишат сексотами и первый вопрос был, откуда у него деньги, не шпион ли. Осудили его по бытовой статье, так как в Советском Союзе преследуется любая частная инициатива; в декабре сорок второго сактировали по болезни, которая к тому времени уже обнаружилась.
Второй зэк был первоклассный инженер-инструментальщик Линдберг, немедленно получивший прозвище «Чарльз», благодаря своему тезке – знаменитому авиатору. Он был немец или швед, член партии, директор крупного военного завода, выпускающего снаряды. О его талантливости можно было судить по тому, как на пустом месте, в тайге, без специальной литературы, он наладил производство всего необходимого нам инструмента. Прочел он тогда и несколько лекций, одна из которых была о процессе затылования фрез на токарном станке, обнаружив выдающиеся знания и великолепную память. Инженерам свободного мира ясно, что такой специалист мог бы занять блестящее положение в солидной фирме или создать крупное дело. В сталинской деспотии он пал жертвой неизбежных склок и попал на восемь лет в лагерь по указу сорокового года «О нарушении качества выпускаемой продукции». Да и то такой маленький срок он получил лишь потому, что благодаря блестящей инженерной интуиции и глубокому знанию дела смог отпарировать возведенную на него напраслину и умело использовать любые промахи экспертизы и свидетелей. Если бы ему было предъявлено обвинение во вредительстве, то он получил бы «вышку» или двадцать лет. Линдберг был нашим товарищем, вел себя с этой стороны безупречно, и тем досаднее, что для меня он остался ярким образцом коллаборациониста. Он приносил ежедневно с немецкой старательностью талант и даже свою личность в жертву режиму в оплату за партийный билет. Весь этот строй, к сожалению, держится на таких людях, у которых в главных жизненных вопросах нет ни гордости, ни человеческого достоинства. В угоду партийным директивам, подгоняемые злобными газетными окриками, они поддерживали любые требования, указы, и старательно внедряли их на своих участках.
Вот, наконец, и Воркута. Нас отправили на громадный лагпункт, тысяч на семь-восемь заключенных, принадлежащий угольной шахте «Капитальная». Нам повезло. Комбинат «Воркутуголь» был индустриальным предприятием с целой серией шахт, механическим заводом (ВМЗ), двумя крупными мастерскими и большим промышленным и гражданским строительством. В таком лагере на большинстве лагпунктов инженеры занимали главенствующее положение. Нам это сразу стало ясно, и вся наша компания находилась в веселом расположении духа, ибо и рабочим хорошо там, где хорошо инженерам.
Лучший лагпункт Вятлага был нищей дырой по сравнению с новым местом, как нам показалось по прибытии. Несмотря на карантинное положение в этапном бараке, кормили нас достаточно. Мы сложили вещички на одних нарах и оставили Льва их сторожить. Продукты были только у Бориса, и он обещал вечером приготовить пиршество – отпраздновать наступающий сорок пятый. Вскоре мы вернулись. У Льва был расстроенный вид: его разыграли воры. Они уселись через пару вагонок от него и закурили, а Лев стал на них с жадностью поглядывать. Тогда один из них крикнул: «Эй, старик, докурить хочешь?» Забыв осторожность. Лев кинулся к блатарям, но следовало обождать, пока последний по очереди передаст ему окурок. Воры специально устроились так, что Льву пришлось сесть спиной к нашим вещам, и один из них по-пластунски подполз под нижними щитами, освободил мешок Бориса, а затем таким же способом достиг двери и скрылся за ней. Пьяный от нескольких затяжек[26]26
Непостижимым для меня остается, каким образом курение сочеталось у него с почти несомненной принадлежностью к йогам.
[Закрыть], Лев вернулся к вещам, проверил, всё ли в них цело, но воров уж и след простыл. Он был так расстроен, что мы кинулись его утешать.
Вечером пошли по зоне. Приближалась полночь, встретить Новый год было нечем. Зашли в чужой барак, где у вездесущего Ручкина был знакомый, но его не оказалось – ушел на встречу Нового года к друзьям. Тогда мы сели за стол неподалеку от выхода, и Ручкин объяснил дневальному, что будем дожидаться. В бараке все спали. Мы наполнили кружки настоем хвои из бачка, и, когда стрелка часов подошла к двенадцати. Лев провозгласил тост:
– Выпьем, чтобы из объектов истории превратиться в ее субъектов.








