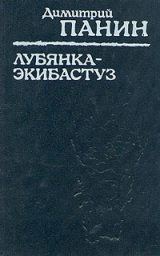
Текст книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Автор книги: Дмитрий Панин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Среди нас был двадцатидвухлетний американец – мулат, рожденный от брака еврея и негритянки. В Москве он что-то делал в американском посольстве, успел жениться, начал, кажется, предпринимать шаги для перемены гражданства, но в это время его «запутали» и дали двадцать пять лет. Специальности у него не было и держали его в отделе оформления, где он что-то научился клеить. Лицо у Мориса было темноватое, волосы курчавые, черные, под ногтями была заметна синева. О последней особенности мы до этого только читали, и нам было интересно увидеть это воочию.
С двадцатых годов нам вколачивали в головы, что негры в Америке существуют для того, чтобы их линчевали; потом оказалось, что этим занимаются только в южных штатах, а в лагере удалось познакомиться со статистикой, по которой в СССР количество блатных самосудов и убийств «проигранных в карты», за один месяц превышало жертвы Ку-клукс-клана за десять лет. Так или иначе, но все сходились на том, что негры еще не пользуются полностью свободами и правами американских граждан. Таким образом, сочувствие Морису было обеспечено, и тем не менее, он его как-то нарушал своим поведением и выходками, несколько выделяясь из нашей среды: например, нам казалось, что он слишком развязно и шумно вёл себя за обеденным столом.
Прославился он на всю шарашку, когда подал начальнику тюрьмы заявление в стихах с просьбой о новой паре ботинок. Замысел Мориса был приведён в исполнение Львом: в издевательском тоне презренный зэк Морис писал, что ему нужны не простые ботинки, а лишь такие, которые он не сумеет износить за свой пустяковый срок в двадцать пять лет. Он надеялся, что его сыновья и внуки тоже поносят эти замечательные ботинки. Даже на шарашке пары ботинок едва хватало на год, на общих работах срок носки исчислялся неделями – гротескность ситуации была вызывающей. Поэма заканчивалась так: «подписался удручённый, Морис Гершман – заключённый». Недели две Морис был героем дня, вызывал улыбки и как-то это сошло ему с рук.
В следующий раз своё свободолюбие он выразил совершенно невероятным образом. На ужин нам дали подгоревшую кашу. Я даже не обратил на это внимания, съел запросто полагающуюся порцию; зэки побогаче молча отодвинули еду. Морис схватил тарелку и пустил её вдоль пола по коридору между столами в сторону шедшего навстречу офицера надзора. В колледжах США, возможно, это было бы в порядке вещей, но на первом лагпункте МГБ, как именовалась наша шара-га, такая шуточка была равносильна брошенной бомбе. Опешивший чин хотел сделать какое-то замечание, но Морис его опередил и накричал на него первый. Смысл сказанного сводился к тому, что он – не свинья, жрать всякие отбросы не обязан, жить в этой стране не желает и требует, чтобы его выслали в Штаты… Эффект был необычен:
чин старался его успокоить и прекратить крик. Любого из нас тотчас посадили бы в комендатуру и увезли бы в Бутырки, хорошо, если просто в карцер, а не на переследствие… Но с Морисом все произошло иначе: его вызвали, пообещали отправить в лагерь, он ещё раз надерзил и когда, наконец, его увезли, часть зэков решила, что это – на пересуд, с целью отправить в Америку. Если прогноз оправдался, то посылаю ему запоздалое, но горячее поздравление старого зэка.
С сотрудником Резерфорда профессором Свет-ницким я встретился три раза. В сорок первом он провёл недели две в этапной бутырской камере. Тогда он был крепким здоровым мужчиной лет шестидесяти. Я думаю, что этот крупный учёный оставил бы по себе заметный след, если бы не его опрометчивое возвращение в тридцать седьмом «на родину». Кроме физики и химии, он был великолепным знатоком персидских поэтов и, по нашей просьбе, читал наизусть Сзади, Фирдоуси… Он охотно рассказывал также о своих путешествиях и жизни на Западе. К тому времени мы слышали уже много блестящих повествований и были достаточно избалованными, но внимали его описаниям с большим интересом и без тени скуки.
В сорок восьмом профессор появился на шарашке в качестве вольнонаемного в одной из секретных лабораторий. Он обрюзг, черты лица его деформировались, зубы выпали. Меня он не узнал, и я, чтобы его не смутить, тоже не подал виду. Однажды я отважился спросить у него, каково его мнение о принципе Ле Шателье, о котором я читал в учебнике физической химии в тридцать пятом. Он отреагировал немедленно: «Правило считается теперь устаревшим, и я не советую вам им пользоваться».
Через несколько месяцев профессора снова арестовали и его фотографию сняли с доски почета, на которой теперь зияло пустое место, об этом тоже рассказывает Солженицын в «Круге». Весть разнеслась немедленно среди заключенных и проклятия посыпались в адрес мучителей, взявшихся за новые истязания семидесятилетнего маститого ученого.
В третий раз наша встреча произошла заочно. Мой хороший знакомый, бывший зэк с Колымы, сидевший с ним в одной камере в пятидесятые годы во время переследствия, побывал у него в конце шестидесятых в гостях в Москве. Девяностолетний старец сохранил живость ума и прочел ему свой стишок: «И голод, и холод – я все пережил, но я еще молод и… на них положил».
Афанасьев был ни юн, ни стар, а в расцвете сил. Он был самородок: обладал изумительной одаренностью и богатейшими способностями в различных областях, но не имел законченного высшего образования. Все горело в его руках, и он становился профессионалом в любой области. На шарашке он занимался телевидением и в сорок девятом построил телевизор с самым крупным тогда в СССР экраном (600X600 мм). Афанасьев обладал также музыкальной одаренностью и играл на скрипке. Он был хорошим христианином, но нрава гордого, независимого и, обладая высоким чувством собственного достоинства, не признавал пятую заповедь зэка: «не задирайся!», что приносило ему много неприятностей в заключении. На следствии он вел себя тоже страшно вызывающе, отказывался давать показания, запирался, обличал следователей в преступной фабрикации дел. Своим характером он восстановил против себя многих, и чекисты постарались заставить однодельцев наговорить на него как можно больше. Факт непризнания не играл тогда существенного значения, следователи его перекрыли массой враждебных показаний, и суд вынес высшую меру наказания. Кассационную жалобу он писать не стал, но в этот период расстрелами не увлекались, так как нужна была даровая рабочая сила, и юрист при тюрьме написал ее за него. В час казни его вызвали из камеры смертников с вещами, и «комендант смерти», как тогда в политических тюрьмах величали палачей, приказал ему заложить руки назад и, наставив на него сзади пистолет, повел его по коридорам, залам, лестницам огромного подземелья. Хождение окончилось у первой двери, где ему дали расписаться под заменой смертной казни десятью годами заключения. Произведенная операция была актом бессильной адской злобы чекистов, так как в советской тюрьме установилось правило – давать бумагу о помиловании смертнику сразу после выхода из камеры. Экзекуция оставила на затылке Афанасьева две проплешинки сантиметра полтора в диаметре, так как в ожидании смерти в его сознании протекали нервные процессы, запечатлевшие картину неминуемых двух чекистских выстрелов в затылок. Особенно резко проплешинки бросились в глаза, когда его вернули на шарашку после пятисуточного карцера, где его остригли наголо. Кстати, в карцер он попал тоже за то, что крепко надерзил высшему начальнику: другого списали бы с шарашки, но его, как прекрасного работника, подвергли лишь наказанию.
Я к нему питал живейшую симпатию, и мы два раза в общей компании праздновали Рождество и Пасху, хотя по натуре он был одиночкой и друзей у него не было. В день отъезда я зашел попрощаться в его лабораторию, благо она не считалась секретной, и провел несколько минут с ним и с хорошенькой вольнонаемной сотрудницей отдела. Я подумал, что не миновать Афанасьеву вскоре очередного карцера за эту неположенную связь, так как, видимо, сам того не желая, этот великолепный человек вызвал в ней сильное чувство.
Фауст двадцатого векаПочти все персонажи романа Солженицына имеют своих прототипов. Нержин, Рубин, Кондрашов, Прянишников, Спиридонов списаны как бы с натуры. Агния, Бобынин, Иннокентий слеплены из разных людей. Яконов, Ройтман, Шикин, Герасимович, Абакумов, Сталин и другие подверглись творческой обработке автора. С одним из персонажей – художником Кондрашовым – я много встречался в московский период, с 1959 по 1967 годы, вплоть до момента нашей ссоры.
Кондрашов был далек от политических и общественных интересов, влюблен в свое искусство. По образованию математик, он был знатоком изящной словесности, любителем античной и классической западной философии. Бога он не отрицал, но относился к Нему как к некой надмирной величине, не обязывающей его к конфессиональным проявлениям. В московской жизни, где многие книги были недоступны, необходим был – гораздо больше, чем на Западе – активный обмен мнениями, без которого жизнь для меня теряет смысл. Я в нем видел не только одного из художников, к которым меня всегда тянуло, а серьезного человека, с которым можно поспорить. Полагаю, что меня он воспринимал также не как критика искусства. Я обычно воздерживался от обсуждения его картин, но однажды посчитал для себя невозможным не вникнуть в его творчество.
Он принадлежал скорей к художникам-реалистам девятнадцатого века: люди были похожи на людей, чашка чая была объемной и реальной, дерево было деревом, а не схемой. Но иногда он мог сделать ухо несоразмерной с лицом длины, когда лепил из пластилина голову человека. Ему была свойственна яркость красок, которые он мастерски умел применять. Следовало бы отбирать у него картины, так как он никогда не мог успокоиться и большинство из них портил бесконечными подрисовками и усовершенствованиями. Десять лет писал он картину «Отелло, Дездемона, Яго». Начал он, как всегда, с головы, и в пятьдесят девятом, то есть через два года, картина, на мой взгляд, была окончена. Дездемона стояла у балюстрады лестницы, как бы предчувствуя нависшую угрозу смерти: лицо было пепельно-бледным, глаза опущены. На ступеньку выше стоял Отелло, склонив к ней массивную голову. Крупные черты, искаженные ненавистью и мукой, были схвачены прекрасно, волосы казались глыбами камней. Видно было, как гнев борется с любовью, подозрение с надеждой… Краски одеяния гармонировали со смятенным состоянием души, багрово-красный плащ напоминал откинутое крыло… Мне хотелось убрать только Яго с авансцены, а в остальном картина была полностью закончена. Кондрашов придерживался иного мнения и считал, что сделанное – лишь промежуточная ступень.
Он работал еще восемь лет, ревниво охранял свое детище и решил показать мне его только после окончательной доработки. Наконец, летом шестьдесят седьмого наступил этот день. Перед моим изумленным взором предстояло нечто чудовищное: шея Отелло удлинилась и напоминала тело крупного питона, зато голова уменьшилась в размерах и стала как бы змеиной, веки напоминали чешую аллигатора. Дездемона превратилась в самодовольную дьяволицу, лукаво из-под приспущенных век поглядывающую в сторону Яго, довольную, что сумела вызвать ревность Отелло. На первой картине Яго был искусным интриганом, на второй – демоном, носителем лукавства, развала, мстительности… Я остолбенел: это было какое-то наваждение. Я потребовал первый вариант и после сравнения убедился в характере искажений. Тогда я обратился к художнику со следующими словами:
– Вы отдали душу черту. Вы – Фауст двадцатого века. Но старый Фауст совершил сделку сознательно и на определенных условиях, вы же бессознательно попали в когтистые лапы. Вы – бескорыстный, чистый человек, и потому ваш опыт имеет огромное, потрясающее значение. Ваше окончательное произведение – расплата за недомыслие и небрежность в религиозных вопросах. Вы загасили свое стремление ввысь, к Богу. Отделяя и тем самым уничтожая форму, вы убили содержание. Ваш высокий замысел о рыцарях, охраняющих чашу святого Грааля, все время откладывается, и наверное картина никогда не будет написана. Для этого нужен особый строй души, который вы не просто утеряли. Вы до него не доросли. Недостойным интеллигентским словоблудием вы оправдали свой отход от Церкви, забывая, что жизнь наша – сплошной капкан, в котором мы запутаны и завязаны. Вы превратились в инструмент, воспринимающий дьявольские инспирации, и картина служит тому ярким доказательством.
Кондрашов обиделся, и наши отношения с тех пор резко охладились. На прощание я попросил его не уничтожать оба варианта – сохранить их для современников и потомства.
Глава 18. На каторге (1950–1953)
Сталинская каторгаВ 1943 году Сталин перешел к наступлению на фронтах и ознаменовал его двумя новшествами:
– введением смертной казни через повешение для особо провинившихся, оставляя, естественно, в силе при этом расстрелы для остальных;
– открытием каторги.
Генералиссимус Сталин нацепил на плечи военнослужащих Красной армии старые императорские погоны. Тот же ход мысли подсказал гениальному стратегу и полководцу обратиться к царским архивам и извлечь оттуда сведения о содержании каторжан в царское время. Режим в смысле строгостей не смог удовлетворить лучшего друга чекистов. Царская каторга была малиной: норм выработки, конечно, не было, в девятисотые годы каторжные работы становились тоже не обязательными. Самое возмутительное было с кормежкой. У лучшего друга всех родов советских войск так не кормили даже старших офицеров: хлеб от пуза, то есть вволю, к нему гречневая каша с пережаренными свиными шкварка-мм и отдельно к этому рациону выдавался на палочке с весов ровно фунт мяса.
Универсальный гений Сталина в заимствованную идею внес, как всегда, безапелляционные коррективы. Каторжан ставили на исключительно тяжелые работы; для них были выделены отдельные лагпункты, где бараки запирали на ночь; на лагерную одежду нашили по четыре номера – на шапке, спине, груди, над коленом. Десятники, особенно в первое время, беспощадно вычеркивали туфту из нарядов. В столовую каторжников вводили строем побригадно, за малейшую провинность сажали в карцер, на работах не смешивали с обычными заключенными. Чекистами были пущены слухи, что в число каторжан попадают только самые матерые изменники, гестаповцы, палачи.
Однажды, когда я еще работал на заводе, меня послали на один из каторжных объектов, существовавших на Воркуте параллельно с обычными, к каторжнику Боброву, гениальному инженеру, которого, нарушая инструкцию, использовали в качестве консультанта по самым сложным вопросам. На объекте его изымали из остальной массы каторжан, и он работал в отдельном помещении конторского типа с несколькими вольнонаемными. На меня он произвел огромное впечатление. Он был рослый, спокойный, с правильным, но грубо вычерченным профилем. Сразу бросалась в глаза его огромная сила ума и воли. У немцев он работал главным инженером на одном из заводов Мессершмидта и рассказывал мне о стычке с маршалом Герингом, из которой вышел победителем. Инженер Бобынин на шарашке «Круга» не имел прототипа, и Солженицын создал этот образ в какой-то мере увлекшись моими воспоминаниями об этом прекрасном человеке. Инженер Бобров иронически усмехнулся, когда однажды я спросил, кто остальные каторжники, и дал мне понять, что, в основном, это безвредные украинские крестьяне, посаженные по доносам. Позже, в спецлагах, мы убедились в справедливости такой оценки: опасных и крупных военных преступников, пойманных на оккупированных территориях, посылали на виселицу или расстреливали, а мелочь кидали на каторгу.
Встречи в путиВ последние дни нашего заточения в Бутырках к нам привезли с шарашки Руську. Тот, кто прочел роман Солженицына «В круге первом», наверняка запомнил необычайно предприимчивого, изобретательного и смелого юношу, влюбленного в Клару. Его отправили на Воркуту, и мы с Саней жалели, что наши пути с ним разошлись.
Куйбышевская пересылка, куда мы попали, по сравнению с другими, была домом отдыха. Кормили лучше, чем в других местах. Находились мы в бывших конюшнях, и хотя народу было много, но проходы между нарами оставались свободными, так что вполне можно было прогуливаться.
Однажды, когда уже смеркалось, в нашу камеру впустили людей с нового московского этапа. В первых рядах был рослый викинг в военной форме иностранного покроя без знаков различия. У него было открытое лицо, пепельные вьющиеся волосы, смелые голубые глаза. Он с интересом осматривал все вокруг себя. При знакомстве выяснилось, что это был Арвид Андерсон, шведский граф и сын миллионера. Он добровольно вступил в трудное для Англии время в ее армию и воевал до конца войны, в частности, участвовал в рукопашном бою с немецкой дивизией «СС» в Арденнах. После войны он окончил академию генерального штаба в Стокгольме и находился в составе миссии в Западном Берлине. В послевоенные годы попал под влияние марксистской идеологии и написал пару статеек, используя ее фразеологию. В сорок седьмом в составе делегации шведского генштаба он был в Москве, где его охаживали, как могли, и даже возили в подмосковное правительственное «княжество», упрятанное за высокими заборами, где разве птичьего молока не хватало. В восточном Берлине, когда он заехал к знакомой певичке, его выследили советские чекисты, схватили и отвезли в Москву. Там он был под своего рода домашним арестом на отдельной загородной даче, охраняемой автоматчиками. Ему послали учителей, обучавших русскому языку и политграмоте. От него потребовали написать статью с проклятьями капитализму и восхвалением сталинской системы и предлагали за это работу в советском генеральном штабе и все необходимое. Он с презрением и негодованием от всего отказался. Одно дело – легкий флирт с марксизмом на страницах журнала, другое – измена своим принципам. Он считал, что фельдмаршалу Паулюсу «европейское дворянство никогда не простит измены», и к себе прилагал те же императивы.
После многочисленных уговоров наступила очередь угроз. Его перевели в знаменитую московскую Лубянку, во внутреннюю тюрьму, правда, в отдельную шикарно обставленную камеру на верхнем этаже. С ним разговаривали министр иностранных дел Вышинский и главный чин государственной безопасности Абакумов. Арвид угрожал, требовал освобождения, кричал на Вышинского так, что тот был бледен, как полотно. Но Абакумов хладнокровно и мирно объяснил положение: «Раз отказались выполнить наши предложения, придется сидеть в тюрьме» и предложил расписаться под идиотской формулировкой срока в двадцать лет. При этом, ввиду исключительного положения, предоставлялись льготы: разрешалось не стричь волосы наголо и десять рублей в месяц на теперешние советские деньги. На дорогу пока что денег не дали, и мы делились с ним по-братски теми грошами, которые у нас остались от шарашки. Этапировали его в отдельном купе и, несмотря на тесноту в других клетках, не нарушали его одиночество. На пересылке произошел временный затор тюремной машины: то ли не было одиночки, то ли в сопроводительной бумаге упустили отметить недопустимость его соприкосновения с простыми смертными. И Арвид попал на две недели в общий поток заключенных.
К тому времени я встречал на пересылках уже многих русских и других аристократов, но Арвид выделялся королевским достоинством и уверенностью в своих силах. Незадолго до моего отъезда на Запад сын одного профессора рассказал мне, что его отец в 1956 году сидел в Красно-уральской тюрьме с Арвидом, который продолжал незыблемо стоять на своих исходных позициях. Уже на Западе я пытался навести справки через шведское посольство, но мне сказали, что о пропаже такого человека ничего не известно. Мой долг сообщить шведам, желающим восстановить истину, засевшую в мозгу подробность, достаточную для продолжения поисков: его мать была англичанкой и близкой родственницей, а может быть и сестрой, начальника английского штаба. В СССР с Арвидом были знакомы лично несколько десятков человек, а слышали о нем сотни. Шведы должны знать своих героических сынов.
На этой же пересылке я и Саня подружились с Павликом. Он был украинец и попал в заключение как бандеровец. Внешне он ассоциировался у меня с древнеримским легионером: грудная клетка и бока были как будто отлиты из меди, соразмерные руки и ноги оплетены железными мускулами, широкие плечи привлекали к себе внимание. Но овал лица, нос с горбинкой, выдающийся вперед подбородок напоминали греческие античные скульптуры, обрамленные черными гладкими волосами. По живости и внутренней энергии он был похож на мушкетера-гасконца, воспетого Дюма. Среди моих друзей было немало смелых людей, но Павлику была присуща львиная отвага. Первый раз я увидел его в действии, когда блатные обозвали Володю Гершуни «господином фашистом». Слабенький, худенький мальчик задрожал от такого оскорбления и ринулся в рукопашную, не зная еще от нас о пятой заповеди зэка: «не задирайся». На взаимные обзывания реагировать было необязательным, ругань была в норме, оскорбление как понятие не существовало, только насилие считалось достойным отпора. Появившийся вовремя Павлик подоспел на помощь и без труда раскидал напахавших. Блатари выхватили ножи, но Павлик успел схватить за кисть ближайшего из них, резко скрутил ему руки и поднял выпавший нож. Вооружившись, он ощетинился. На обладателя ножа блатари, конечно, не полезли; победа была одержана. За нами, в который раз, закрепилась кличка «злых фраеров».
Павлик легко попадал под влияние других. В компании бандеровцев был бандеровцем, с Саней и другими бывшими офицерами – бывшим лейтенантом советской армии. Со мной держался как сын всадника из «волчьей сотни» генерала Шкуро времен гражданской войны. При этом каждый раз он был искренен и на всю железку входил в роль.
Володя Гершуни был племянником эсера террориста Гершуни. Он с маниакальной настойчивостью постоянно доказывал, что все евреи – смелые и отважные люди, и считал своим долгом в данной обстановке это делать. Так как он входил в нашу компанию, мы несколько раз вынуждены были расхлебывать заваренную им кашу. В спецлаге, сразу же по приезде, верный себе Володя на разводе завелся и обозвал начальника конвоя фашистом и гадом. Тот рассвирепел, сбил его ударом с ног и стал топтать… Мало того, Володе выписали десять суток карцера. Это произошло в самые первые дни приезда на каторгу, когда мы еще не освоились и не осмотрелись. О происшествии нам рассказывали очевидцы. Вскоре с группой больных Володю отправили в Карагандинские лагеря, посчитав его невменяемым.
Володя никогда не был мрачным ипохондриком. В подземной камере знаменитой Омской тюрьмы мы устроили вечер шуток, чтобы развеселить многих новичков с Западной Украины, влившихся в нашу этапную группу после Куйбышевской и Челябинской пересылок. Тон задал Саня, но сразу же отошел. Он не любил терять зря времени. Уже в то время он сосредоточенно накапливал материалы для будущих книг и размышлял над ними. Вечер продолжили мастера клоунады и юмористических рассказов. Петя Пигалов брал мимикой и невообразимыми телодвижениями. Володя Гершуни без тени улыбки, следуя заветам всемирно известного комика Бастера Китона, смешил нас короткими рассказами Зощенко и В. Шкловского, и за ним прочно укрепилась репутация компанейского малого.
С Павликом я сошелся близко и поделился с ним своими установками. Я не терял времени, старался подготовить ехавшую с нами молодежь к тому, с чем ей придется встретиться, и, руководствуясь первой, девятой и десятой заповедями зэков, сформировать воинов, сплоченных и не поддающихся на провокации чекистов. В лагере я продолжал ту же линию, и, благодаря пройденной школе, многие оказались способными принять участие в ряде грозных событий, участниками которых мы оказались впоследствии. У нас – заправил – преобладало отличное настроение. Приятно было находиться среди обстрелянных вояк – людей, посаженных не за выдуманные с помощью следователя преступления, а за действительно осязаемую борьбу. Нынешние зэки были способны нанести удар, рожденный в их недрах.
Основная масса зэков предвоенных лет была тоже здоровой, неразложившейся и при определенных условиях готовой к действию, хотя партийная слякоть тридцать седьмого года провалила бы любое начинание и продала бы их. В тех условиях толчком для них могла явиться только война.








