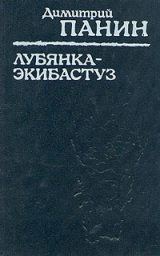
Текст книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Автор книги: Дмитрий Панин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Мои отказы отвечать на допросах привели к серии очных ставок, на которых подобия людей, доведенные почти до состояния невменяемости, изобличали меня в выдуманных чекистами преступлениях. Я чувствовал себя на спектакле китайских силуэтов: тени людей, тени преступлений. Но, так или иначе, на бумаге обвиняемый оказывался опутанным какой-то паутиной, невзирая на несогласие. Стряпня выглядела неубедительной и жалкой, но в тридцать седьмом такого материала хватило бы для расстрела целого лагпункта, а в первый год войны такая участь постигла бы всех двадцать восемь человек.
На наше счастье, с расстрелами за последние полгода полегчало: на разводах давно уже не зачитывали списки приговоренных к «вышке». Но ведь война продолжалась, у следователей же было явное намерение на нас заработать. На следствии я не скрывал свои взгляды. Я знал, что если расстрел наш состоится, то я умру с сознанием, что хоть жизнь моя и прошла бездарно, полная ошибок и спадов, но, возможно, будущий историк скажет спасибо, когда в ворохе лжи и глупых выдумок наткнется на искреннее мнение человека той эпохи. Если же подписанные материалы на расстрел не «потянут», то мои убеждения едва ли повлияют на приговор.
В ходе очных ставок в порядке самозащиты я пробовал сослаться на свое намерение совершить побег. Эту единственную реальную деталь следователь оставлял без внимания. Их интересовали не факты, не улики, а только взаимные наветы людей. Но заключенные были народ «битый» и, невзирая на старания чекистов и помогавших их усилиям «романистов», показаний, требуемых для осмысленного описания организации повстанцев, не давали. Всё было шито белыми нитками, грубо и глупо. Позже выяснилось, что по этим материалам «особое совещание» дало нам всем только по пяти лет. Следователи восприняли такой маленький срок как личную обиду и провели подобие пересмотра дела, о котором многие из нас даже и не догадались, так как допросов больше не снимали, а усилия сосредоточили на получении дополнительных показаний романистов. В результате мы все получили окончательные десятилетние сроки. Пять лет получили только Юрий и Борис, которые даже к разговорам никакого отношения не имели, пара «работяг», да романист Владимир.
Если бы можно было судить за стремление осмыслить создавшееся положение и найти из него выход, то в первую очередь следовало осудить меня.
Если бы можно было судить за слова, произносимые вполголоса избранному числу лиц, то из двадцати восьми можно было бы осудить человек пять, и, в том числе, в первую очередь Салмина и меня.
Если бы можно было судить за мечты или желание вырваться из оков рабства и избежать направленных на нас средств уничтожения, то, за исключением стукачей и особо зловредных представителей набора тридцать седьмого года, следовало осудить подряд всех заключенных.
Дьявольское искушениеЗа несколько дней перед голодной смертью желание есть исчезает. Эту особенность я наблюдал неоднократно. Когда происходит непрерывное истощение человека, то чувство голода сначала усиливается, достигает наивысшей точки, а потом несколько ослабляется. Пусть судят физиологи, мои ли это только личные ощущения или они имеют под собой реальную почву. Голод особенно усилился к осени, то был почти шестой месяц моего сидения в изоляторе. Дело дошло до того, что я нарушил железное правило – недопустимо растравливать себя мечтами о еде. Я сделал хуже – за час до раздачи баланды начал грызть кость, которую специально для этого хранил. Вскоре я сломал два здоровых коренных зуба, так как от потери жизненной энергии они стали необыкновенно хрупкими.
Одновременно меня начал преследовать какой-то гнусный кошмар: прошу бумагу и пишу заявление чекистам, где сообщаю, что человек-волк, о котором я уже рассказывал выше, готовится к побегу, а мне известно выбранное им направление, и в награду получаю полный котелок густой баланды с пайкой хлеба, которых мне невмоготу было в тот день дождаться. Конечно, это был больной бред, но в том состоянии голод был сильнее меня, и я поддавался соблазну, рисуя картину насыщения… Характерно, что в состоянии сильного истощения человек мечтает не о каких-то роскошных блюдах, даже не о куске хлеба с салом и чесноком, а только о той жратве, которой тебя сейчас кормят, верней, медленно убивают. Наваждение мне удалось прекратить усиленной сосредоточенной молитвой, и я выбросил кость. Этот месяц был необыкновенно трудным, я изнемогал от преследующего меня голода. Дальше стало легче. Отчетливо помню, что на десятом месяце я был озабочен не густотой баланды, а ее температурой, так как исхудавшее тело требовало тепла.
Как-то в большой камере, из которой вынесли нары по случаю переоборудования тюрьмы, крепко поругались два зэка. Вдруг один из них, наш одноделец, малый с образованием, на четвереньках, как собака, проворно подбежал к обидчику, укусил его за ногу и тем же способом быстро юркнул на свое место. Все. в том числе и пострадавший, были настолько поражены этой выходкой, что разразились хохотом только тогда, когда пантомима окончилась…
В той мрачной полосе жизни, на краю гибели, когда смерть заползает в клетки тела, нечто в тебе спеленутое и побежденное вдруг властно заявляет о своем существовании, хватает за горло и требует осуществления какого-то чудовищно-иррационального действия.
Открытие ПрохорычаМне посчастливилось: в 1928 году в нашей школе был прекрасный преподаватель литературы Ф. Бережков – знаток Гончарова и Достоевского. Последним он просто бредил. Достоевский в то время, кажется, был уже давно исключен из учебных программ, но с Бережковым мы проходили его полгода и неоднократно к нему возвращались. Однако до сих пор для меня окутана тайной громадная сила Достоевского как психолога, ясновидца и пророка русской революции.
Достоевский для меня подобен высокой горе. Я вижу доступные мне подножие и примыкающие к нему склоны. Вершина – в облаках; лишь иногда вырисовываются неясные контуры, отдельные детали, намеки на целое, лежащее в области неведомого.
Но гениальность не гарантирует от ошибок. Достоевский был четыре года на каторге, служил в армии в нижних чинах и поэтому не мог не знать худших представителей крестьянского мира. Это не помешало ему поддерживать миф о народе-богоносце[16]16
Так называли русский народ славянофилы и даже Достоевский. Их ошибка заключалась в том, что прекрасные душевные качества незначительного слоя крестьян они переносили на все население.
[Закрыть]. Увы, слой самых лучших, набожных, благообразных добрых крестьян с длинными окладистыми бородами оказался очень тонким, и в годины испытаний не он определил поведение крестьянства.
Лев Толстой, проведший почти всю жизнь с крестьянами, в свою очередь, оказался не свободным от их идеализации. Его Платон Каратаев, вероятно, появился в результате наблюдений за юродствовавшим или за понявшим, как угодить барину, мужичком.
В начале войны теперь известный всему миру Солженицын попал в обоз, где его матюгали, высмеивали, на него орали… Позже, когда он дослужился до лейтенанта, солдаты-артиллеристы относились к нему вежливо, обходительно. Сила Солженицына в том, что он был красноармейцем, курсантом, офицером, после войны отбыл восемь лет в заключении, три года в ссылке, затем учительствовал в. глухой российской деревушке и в городской средней школе. Он – кость от костей труженицких, и этого заряда ему хватит на всю жизнь.
В романе «В круге первом» Солженицын тоже описывает крестьянина. Но Спиридон не Каратаев. Как бы выкованный из железа, он убеждает, удивляет, страшит… Со Спиридоном я был знаком на шарашке, брал у него правленую пилу, иногда с ним переругивался. На моем пути попадались и другие спиридоны, судьбы которых подтверждают глубокую правду, извлеченную Солженицыным из нашего дворника.
Один из таких Спиридонов, бывший солдат первой мировой войны, не такой оборотень, как солженицынский герой, был мне гораздо милее. За свою жизнь я встречал многих бывших солдат, участников той войны. Большинство из них после революции было разагитировано, поэтому они не хотели воевать, участвовали в так называемых братаниях, оставляли без боя позиции, открывали фронт, дезертировали, убивали своих офицеров… Наверно, вследствие позорности и глупости поведения, так редки и скупы были их рассказы.
В большой камере изолятора где меня держали первые полгода и через которую прошло много уркаганов, бытовиков, беглецов, встречались и осужденные по пятьдесят восьмой. Одним из них был мой Спиридон, мужик лет пятидесяти пяти, прошедший германскую и дослужившийся до унтера. По всему было видно, что он был бравым воякой. Достаточно умный, он стал страшно подозрительным за годы советской власти, – видно, били его достаточно, – но природная разговорчивость часто брала верх, и трубный голос его постоянно гремел в камере. Во всех его сообщениях чувствовался скрытый подтекст, хотя прицепиться сексоту к ним было трудно. Я задавал нужные мне вопросы по возможности наедине, на оправке, либо на прогулке, и часто подходил к нему, меряя шагами камеру, когда он садился на нижние нары. Из его, в общем-то, мало откровенных и порой путаных ответов, благо времени было хоть отбавляй, я установил все же следующие положения:
– не было у него никаких сомнений в преимуществах для крестьян жизни в условиях царской России. Семья его пользовалась благами столыпинской реформы. Под конец, почувствовав ко мне некоторое доверие, он стал отзываться о царской России, как о чем-то сказочно хорошем, навсегда ушедшем… «Кто не пьянствовал и не бездельничал, мог себе добыть всё, что нужно. А государь был простой, народ жалел»…;
– не сомневался он и в необходимости победы России над Германией в ту войну. Он участвовал со своей батареей и в широком прорыве ударных частей летом 1917 года, когда, как известно, они вынуждены были откатиться назад, не получив поддержки митинговавших частей. Не было бы черной измены – июньским наступлением могла бы закончиться война. Он гудел от возмущения, когда рассказывал об этом в темноте под нарами, забывая, что минуту назад говорил шёпотом.
Сведения его о периоде гражданской войны были отрывочны и противоречивы. Я так и не смог добиться, был ли он у белых или у зеленых, одно ясно, что не у красных. Судя по всему, конечно, у белых, ибо своим разумом он хорошо понял с самого начала нутро антинародной власти и вряд ли бессмысленно отсиживался в лесу с зелеными. Кроме того, последующие его действия изобличали в нем человека, извлекшего урок из грабежа зажиточных крестьян, продразверсток, «самообложений», комбедов, продотрядов с их шомполами и расстрелами.
Он понял ярую противокрестьянскую основу этой власти, и первым его поступком было распрощаться с хутором. Он переехал с семьей за много верст в деревню, где его никто не знал. Он помнил «военный коммунизм», был слишком грамотным, чтобы клюнуть на лозунг «обогащайтесь!», не брал ссуд и старательно содержал себя на уровне середняка. Так спас он себя и семью от раскулачивания в 1929 году, и даже проходил в «чине» председателя колхоза до прихода немцев в 1941 году, так как его деревня была недалеко от Москвы под Волоколамском. Свое участие в раскулачивании он отрицал категорически. Вероятно, это, действительно, прошло мимо него, и его выдвижение произошло после ряда неудач с другими председателями. Со своими обязанностями он как-то справлялся; колхоз был, конечно, нищим, на трудодни ничего не давали, но падежа людей он все же сумел избежать. Перед приходом немцев он раздал колхозникам запас семян. При немцах полдеревни спалили, в том числе и его дом. Когда советские вскоре отбили эту местность и его снова назначили председателем колхоза, кто-то из недовольных «стукнул», что он раздал семена, а теперь нечего сеять. Последовали немедленный арест, суд, срок.
Судьба этого человека не столь уж замечательна, и не следовало, может, уделять ей столько места, но меня потрясло сделанное им открытие. Он считал, что количество земли большее, чем то, которое может быть тщательно возделано, вредно; участок в четверть гектара в тех условиях, при ручном труде, был пределом возможностей небольшой крестьянской семьи. Все зависит от качества обработки.
Сколько писали о вечной тяге крестьянина к земле! Уж как ни натравливали крестьян на помещиков и друг на друга, ни разжигали ненависть к одним и сочувствие к другим, и оказывается, почти все это – зря. Конечно, многие несчастные люди под давлением безвыходной нужды пришли к таким же выводам. Но я впервые услышал столь продуманную и хорошо проверенную на опыте установку из уст самого председателя. Ее своевременной реализацией он объяснил малый падеж рабсилы в своем колхозе. В пору середнячества он уже понял это и проэкспериментировал свои соображения на приусадебном хозяйстве. Тот же вывод следует распространить на современные зерновые фабрики, раскинутые на огромных площадях. Определенное соотношение между интенсивностью возделывания земли и засеваемым количеством зерна верно и здесь, поэтому нельзя увеличивать площадь при невозможности сохранить требуемый уровень обработки.
Под конец совместного пребывания в камере у Прохорыча, как мы называли его по отчеству, а его имени и фамилии я так и не знал, начался понос. Его забрали из камеры вместе со многими другими «беглецами» и отправили на шестой штрафной лагпункт, где он, конечно, погиб. В изоляторе он содержался за попытку побега.
Много раз я проверял рекомендации Прохорыча на бывших крестьянах, особенно на тех, чьи отцы имели до коллективизации относительно крупные земельные участки, а потом подверглись раскулачиванию. Они насмехались над тем, как их отцы били сбрую, телеги, лошадей и изводили самих себя, кое-как распахивая чрезмерные наделы и продолжая завидущими глазами смотреть на тех, у кого земли было больше. Рассуждали они, как и мой Спиридон.
Тепло становилось на сердце от этого вывода. Значит, не завистью, не злобой решается земельный вопрос, а в первую очередь – культурой труда, профессиональными навыками, усвоением передового опыта… Так произошло, например, в Индии. Голод и вымирание от недородов были постоянными спутниками жизни. Англичане ирригационными работами заметно сократили эти бедствия. Но окончательно традиционный голод в Индии и Китае мог бы быть изжит «зеленой революцией» – изысканиями американского селекционера Балога, предложившего свой сорт риса и пшеницы[17]17
На тридцать лет раньше подобные исследования проводил академик Николай Иванович Вавилов. Режим скрыл от мира его открытие, а сам автор в 1943 году погиб от голода в Саратовской тюрьме.
[Закрыть].
Глава 9. Лом-лопата
Пугало ВятлагаПо окончании следствия создалось впечатление, что чекисты решили со мной разделаться. У них, конечно, не оставалось никаких сомнений относительно моих мнений и настроений: было ясно, что я непримирим. Поэтому, не надеясь на смертный приговор, – их стряпня была слишком бездарна, – они решили прикончить меня в стенах изолятора – лагерной тюрьмы. Я думаю, что это предположение правильно, так как именно меня держали все одиннадцать месяцев с уголовниками, причем с самой страшной их частью, – с убийцами, которых сразу же после ареста кидали в мою камеру. За это время через нее прошли самые отвратительные уркаганы – лагерные бандиты. Много было всяких встреч и тяжелых столкновений. Однажды даже в камеру втолкнули двоих, когда они еще были покрыты кровью своих жертв.
Но все это бледнеет по сравнению с Лом-Лопатой. Это был совершенно легендарный преступник. В его формуляре было записано, что он не отвечает за свои действия, и это давало ему неограниченную возможность делать все, что он хочет. Правда, каждый раз за новое убийство он получал новые десять лет, которые всегда начинались с момента его последнего преступления и, в общем, он все время находился в лагере со своим изначальным десятилетним сроком. В лагерной тюрьме он не задерживался, так как состав преступления был всегда налицо, и для окончания следствия достаточно было одного-единственного протокола. В то время Лом, будучи «сукой», то есть нарушителем воровского закона, счел для себя более удобным перезимовать в изоляторе: из-за перевеса «воров» на лагпункте он боялся за свою жизнь. С этой целью он убил какого-то заключенного, на этот раз не так явно, как обычно, и благодаря этому смог тянуть следствие, требуя психиатрической экспертизы. После первого медицинского заключения Лом-Лопату водворили в мою маленькую камеру, предназначенную для нескольких человек. Довольно долго мы лежали с ним только вдвоем на верхних нарах, где виден хоть кусочек неба и чуть больше воздуха, чем на нижних, представляющих подобие темного мешка.
С виду в нем ничего особенно зверского не было. В детстве я встречал таких ломовиков. У него было широкое твердо очерченное лицо с плотно сжатыми губами. Сытый, он мог вполне нормально разговаривать, слушать, задавать вопросы. Когда был голоден, в нем просыпались звериные качества. Видимо, на это и была ставка: чекисты рассчитывали, что мы обязательно с ним столкнемся, и не ошиблись.
В лагере он всегда жил за счет других. Политические были в то время худыми, истощенными, он же пришел в изолятор в «справной форме», в почти нормальном весе. Поэтому первые недели, хотя паек был убийственным, он не испытывал еще мук голода. Мне пришлось с ним коротать время. Я слушал о его похождениях, побегах, о жутких лагерях на Печоре в 37–38 годах. Это там производили расстрелы контриков за невыполнение норм, нарочно прекращали кипятить воду, вследствие чего зэков, вынужденных пить болотную жижу, начинала косить чудовищная дизентерия. Он напевал блатные песни, и в памяти застряло:
«Черные, как уголь, тучи летят над головой»…
Я пересказывал ему чаще всего О'Генри, чтобы не остаться в долгу. Надо сказать, что он воспринимал эти новеллы достаточно осмысленно, смеялся, где надо, и даже понимал концовки. Его никак нельзя было считать каким-то умственно отупелым существом; он был на уровне людей преступного мира и обладал соответствующим опытом.
Так, без стычек, прошел почти месяц. Затем, не подписав протокола окончания следствия, он потребовал новой экспертизы. «Органы» считали блатных социально близкими, доступными перевоспитанию, и постоянно шли им на уступки. Вот его и отправили на четвертый лагпункт, в одну из так называемых «психобольниц», где он объедал настоящих сумасшедших, то есть отнимал у них еду, обыгрывал их, обманывал и через месяца полтора – два, отъевшись, вернулся опять в мою маленькую камеру.
По окончании следствия, мы, двадцать восемь однодельцев, стали числиться за «Особым Совещанием НКВД» и абсолютной власти над нами у местных следователей уже не было. Слабость чекистов всегда во взаимном подсиживании, в боязни друг друга. Во время следствия они могут дать указание санчасти не вмешиваться и держать арестованного на общем пайке, при этом никто и не пикнет. Следователь может также посадить в карцер на триста граммов хлеба на определенное число суток, и тюрьма точно выполнит его письменное распоряжение. Но когда следствие окончено, устного распоряжения не давать такому-то больничного пайка уже недостаточно. Начальник санчасти, опасаясь очередной склоки, не хочет рисковать, предпочитает загородиться бумажкой, то есть иметь про запас произвольное распоряжение третьего отдела, а следователь, в свою очередь, боится дать письменное распоряжение.
Вот в силу таких причин, в числе остальных сильно истощенных больничный паек был получен и мною. Он отличался от общего лишними ста пятьюдесятью граммами хлеба, кусочком сахара и ошметкой требухи или селедки. Голодную фантазию Лом-Лопаты различие пайков крайне раздражало, и он начал ко мне приставать, предлагая играть с ним в карты. Я вообще их не признаю, а с ним играть было бы самоубийством. Блатные играют с фраерами только краплеными картами, то есть я наверняка отдавал бы ему свою пайку.
Я всегда категорически отказывался от такого рода предложений; поступил так и на этот раз.
Каким образом Лом-Лопате не удалось выколоть мне глазаКогда наши отношения начали портиться, а голод тем временем совершал свою разрушительную работу, в нашу камеру бросили трех бандитов, которые что-то натворили на лагпункте. До этого мы с Ломом лежали на верхних нарах, каждый в своем углу. Когда появились бандиты, я собрал пожитки и полез вниз. Общего у меня с ними ничего не было, а на нарах и четверым еле поместиться. Поэтому я не стал дожидаться приглашения спуститься, а сделал это сам. Через какой-то час раздались крики, ругань, и Лом-Лопата кубарем полетел на пол. Дело в том, что бандиты были «воры в законе», а Лом-Лопата – «сукой». Между ворами и суками идет непрерывная война; в любом случае возникает ожесточенная драка. Вот они и решили сбросить его с нар, поскольку, как сука, он не имел права находиться в их непосредственной близости. Смотрю – свешивается какая-то голова и кивает, манит, объясняет, что я должен подняться. Предложение было слишком настойчивым. Я не счел возможным упираться, ибо силы были почти на исходе, и трудно было сопротивляться. Да это были и не те события, которые, как мне казалось, непосредственно могли повлиять на жизнь, поэтому там, где было можно, я уступал. То, что я оказался наверху, в их обществе, страшно подействовало на Лома и породило злобу. Он, старый, заслуженный уркаган, находился внизу на темных нарах, его исключили из компании, а я, фраер, был наверху! Я понял по его повадкам, по некоторым словам и замечаниям, что его отношение ко мне резко изменилось. Я стал для него гораздо большим врагом, чем воры, которые его сбросили.
Обход и первая кормежка начинались часов в шесть утра. Я сидел в изоляторе уже месяцев девять, и эта минута была для меня вожделенной. Все к ней тоже готовились, ждали ее с нетерпением. Поэтому я обычно слезал с нар и прогуливался: делал три шага в одну сторону, три шага в другую, так как больше места не было. Как-то, в один из этих дней, я чувствовал себя особенно слабым, присел на нижние нары и безучастно ждал. За несколько дней перед этим у нас перегорела лампочка, которая освещала камеру и одновременно отбрасывала свет в коридор. Внизу была полная темнота, наверху чуточку посветлей: туда проникали какие-то блики из коридора. Лом-Лопата, который обычно сидел неподвижно, начал вдруг ходить и несколько раз, приближаясь почти вплотную ко мне, останавливался. Я не обращал на него никакого внимания.
Началась проверка. Обычно дверь приоткрывалась не полностью, надзиратель просовывал голову и пересчитывал заключенных. И на этот раз он проделал то же самое. Вдруг Лом, как сорвавшаяся пружина, бросился на надзирателя. В деревянную палочку для пришпиливания довесочков хлеба к пайке он сумел заправить длинную, толстую швейную иглу, которой сшивают мешки из дерюги, и вооружившись ею, в каком-то совершенно зверином, безумном порыве, – ведь в какие-то моменты он все же был невменяем, – метнул в надзирателя, заготовленную для меня лютую месть. Направленная в глаз надзирателя игла попала в его переносицу. Он отпрянул, закричал. Три бандита соскочили, схватили Лом-Лопату, начали сильно лупить, затем его увели в карцер. Совершенно ясно, что меня спасла лишь темнота. Потухшей лампочке обязан я тем, что не стал слепым или одноглазым.
Лома вернули довольно быстро. Дикое ожесточение и ненависть этого страшного убийцы вылились, по какой-то странности, на меня, а не на трех бандитов, которые его избили, помогая надзору обезоружить. Благодаря каким-то сдвигам в психике, его больное воображение изобретало врагов на ходу, и я оказался таким смертельным противником. Бандитов скоро осудили, потому что они во всём сознавались, все подписывали, стремясь вернуться на лагпункт и продолжать опять свою жизнь за счет других заключенных.








