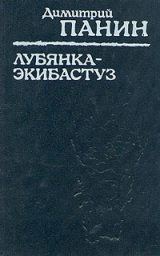
Текст книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Автор книги: Дмитрий Панин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
Дети, как и женщины в сталинских тюрьмах, были для меня живыми иллюстрациями к видениям из Апокалипсиса.
Наступило утро. Продрав глаза, осматриваюсь. В предварительной камере всех держали вместе. Под окном – человек пять блатных: молодые ребята с непримечательными лицами из породы «сталинских воров», то есть дети раскулаченных, сироты после первых посадок родителей, беспризорные военных лет. Сбоку оказался малый лет тридцати, которого я сразу не приметил, со страшно знакомой внешностью. Мы встретились глазами, и он замахал мне рукой: «Эй, начальник;» Начало ничего хорошего не обещало. На пересылках принято «права качать» и сводить личные счёты, но я за собой ничего подлого против блатных не знал, враждовал с ними всегда не из-за угла, а открыто. Поэтому следовало не уклоняться, а выяснить, в чем тебя обвиняют, идти навстречу судебному разбирательству, коль скоро оно началось. Пробравшись поближе к окну, я узнал слесаря-инструментальщика из цеха Линдберга, первостатейного профессионального вора-рецидивиста. Мы мирно начали разговаривать. Я припомнил, как ему пришло «освобождение» с зачислением в армию и он долго прятался под нарами, но всё же попал к Рокоссовскому. Он рассказал, как дезертировал, затем попал под амнистию, украл, оказался в тюрьме, бежал и теперь снова за решеткой. У «судей», приготовившихся к драке, интерес явно пропал, когда они увидели, что мы не ругаемся. Один из них спросил моего обвинителя, не обижал ли я воров, и так как тот его успокоил, то больше к этому не возвращались. В другой обстановке, при другом «составе суда», с преобладанием садистов и злобных выродков, те же самые обстоятельства могли привести к тяжелой тюремной драке и даже окончиться смертью.
Встреча с Л. КопелевымНаконец, я прибыл в Москву, в Бутырскую тюрьму. Наша камера была заполнена людьми вроде меня, приехавшими для отправки на шарашки. Народ подходящий, все больше инженеры-механики, электрики, радисты, – попадались и химики. Были и осужденные недавно, которых ждал лагерь. Прошло только дней десять, но я уже успел перебраться к окну, так как народ быстро сменялся.
И вот, глубокой ночью я вдруг просыпаюсь от какого-то шума. Вижу, стоит посреди прохода черноокий, черноволосый красивый мужчина в расцвете лет, гвардейского роста. Конечно, я имею в виду не теперешних советских гвардейцев, а представителей старой русской гвардии. Он шумел, волновался, что-то рассказывал. Я понял, что его только-только осудили и дали десять лет. Он кипятился, не признавал себя виновным, кричал, что будет добиваться освобождения. Такое возбуждение для новичка, в общем понятно. Я снова заснул, хотя он продолжал еще довольно долго разоряться. Перед самым утром меня опять разбудили: кто-то лез на меня. А так как я был сторонником свежего воздуха, кислородником, то ринулся на виновника с лагерной бранью: «дескать, что тебе здесь нужно, зачем закрывать окно».
– Да нет, я просто прикурнуть…, ответил он.
– А, – говорю, – ну, это другое дело. Давай забирайся, ложись. Только ты уж очень много орешь.
Утром, когда продрал глаза, познакомились. Это был Лев Копелев. Здесь, на нарах, завязалась наша дружба, непрерывно пресекаемая враждебными стычками и длительными «военными действиями», происходившими из-за неизменной приверженности Льва к режиму. За все годы нашего знакомства его установка сводилась к следующей формуле: «если что-то у нас сегодня плохо, значит, надо исправлять». В те годы в тюрьме и на шарашке он вообще не шел ни на какие уступки, все считал замечательным. Шарашку и наши споры описал позднее А. Солженицын в своем «В круге первом», где Лев Копелев – прототип Рубина.
Советский режим перманентно связан с голодом, он не может или не хочет накормить людей. Казалось бы, война кончилась, неужели и тут надо людей морить? Но всё равно у них то недостачи, то «узкие места», то «трудности роста»… Нам раздали наши паечки, какой-то чай. Смотрю, Лева подходит к котомке и достает целый настоящий белый батон, да к тому же еще свежий, ломает его пополам и протягивает половину мне. За эти семь лет, я не то что вкус, но даже и вид белого хлеба забыл, и меня пленило бы, если он отделил бы только маленький кусочек. А тут – целая половина батона! Его царственная щедрость произвела на меня то же впечатление, что и рассказ грузинского профессора, звучавший еще в ушах, или новеллы князя. Широта натуры и душевное благородство выделяли Льва. Я очень люблю таких людей, но по своим воззрениям мы были полной противоположностью. Лев защищал с пеной у рта всё, что делалось в этой стране. Надо сказать, что в то время такое поведение в тюрьмах было уже редким. О режиме мало кто мог сказать положительное. Было ясно, что это – логово барсуков, которые понастроили норы и живут теперь за счет других. Он считал, что я – ископаемое, чему виной – вера в Бога, мои оценки «февральской и октябрьской революций» в России и резкая критика действительности. Для меня, наоборот, он был допотопным чудищем, когда вдруг начал убеждать нас, что всё, наоборот, замечательно, а мы не понимаем, какие на воле прекрасные порядки, так как давно здесь сидим и ничего не знаем. Допустим, я семь лет сижу, но из остальных ведь многие тоже только что с воли. Мне нравится живой обмен мыслями, по натуре я спорщик, и рад был встретить подобного оппонента. Ведь я успел уже забыть, когда таких и видел. А если они и попадались, то сразу было видно, что это стукачи, которые надели на себя личину. Но сейчас передо мной был фанатичный человек, который заблуждался как-то не противно; во всяком случае, старался отстоять свои убеждения, ища доводы…
В общем, я воспринимал всё как какое-то безобидное чудачество, но за него он мог в лагере поплатиться головой. Настроение среди заключенных было очень определенным. Их состав к тому времени уже резко сменился. Это был не сороковой год, когда преобладали люди советского режима, которые пресмыкались перед оперуполномоченным и лагерным начальством. Тогда мы жили в царстве стукачей. Сейчас народ был другой: фронтовики, власовцы, настроенные очень воинственно и не считавшие себя побежденными. «Мы их с горчицей схаваем!» – кричал Лев о фронтовых победах прошлых лет. Выступления Льва в такой обстановке были не совсем безопасными. Но Лёва был молодец, он не считался ни с чем. К концу дня он предложил устроить какой-то вечер, и на нем закатил два стихотворения Пушкина: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Надо сказать, что выбор был неудачен и несвоевремен, и декламация была встречена крайне холодно.
Тем не менее, это не помешало мне, несмотря на его нарочитую приверженность к режиму, разглядеть в нем замечательного человека. Необычайно эрудированный филолог-германист, знавший уйму языков, он был всегда душой общества.
Поскольку меня уже вызывали представители четвертого главного, и было известно, что отправляют на какую-то шарагу, я сказал Льву, что приложу все старания, чтобы его туда тоже выцарапать в качестве переводчика или, скажем, библиотекаря, раз к технике он никакого отношения не имел.
Попав на шарашку, я пошел, не теряя времени, к начальнику и стал доказывать, что надо вызвать заключенного Льва Копелева. В этом деятельное участие принял Александр Солженицын, невзирая на то, что тогда ведал библиотекой и мог по приезде Лёвы потерять место.
Матрос из ОсвенцимаВ этой камере я обратил внимание на молодого человека лет тридцати с мало примечательной внешностью: нос пуговкой, белесый, крепкого телосложения. Над левым соском у него был вытатуирован шестизначный номер, который мне бросился в глаза в бане. Он объяснил, откуда такое украшение. Потом мы разговорились, и он подробней рассказал о своих приключениях. Звали его Виктор Трушляков. В начале войны из матросов с потопленных кораблей составили морскую пехоту. Ребята подобрались молодец к молодцу. К тому времени тупоумие и зверства Гитлера проявились уже в полной мере, и поэтому они крепко дрались не то под Севастополем, не то под Керчью, ходили в рост в атаку, словом, сражались по-настоящему. Его ранили, в беспамятстве он попал в плен, раза два убегал и, наконец, угодил в Освенцим, оставивший клеймо на его груди. Одним словом, хлебнул невзгод сравнимо с тем, что выпало на нашу долю зэков военных лет.
Через день-другой я мельком услышал короткую фразу из его разговора с одним химиком, когда они прогуливались по центральному проходу бутырской камеры, длиной метров в двадцать. Я в это время стоял возле нар. Мысль показалась мне очень знакомой в своей основе, но гораздо глубже и дальше разработанной, чем мои предположения и модели 1933 года. К тому времени я уже научился молниеносно соображать в критических обстоятельствах. В обычной обстановке я не люблю такую быстроту из-за грубости и однолинейности получаемых решений. Но в данном случае стремительность, с которой я выхватил центральную идею из услышанной мною фразы, объясняется тем, что, томясь в бездействии в камере, я мысленно восстанавливал в памяти свою гипотезу тридцать третьего года. В ней я рассматривал вселенную как систему сгущений различного вида частиц, а их взаимодействия – как совокупность сгущений и разрежении. Целомудренный трепет охватил меня, и я приказал себе ничего не спрашивать у Трушлякова, а дойти до всего самому, благо неожиданно я получил подтверждение справедливости своих тогдашних мыслей. С Виктором мы попали на одну шарашку. Он с самого начала понял, что ему тут делать нечего. Его голова была полна изобретений. Так, он возился с идеей управляемого по радио танка, для чего были необходимы коробки скоростей с огромными передаточными числами, и я помогал ему в подборе и расчете планетарного редуктора. У него были и другие научные идеи; я же для него сделал десяток переводов с французского и немецкого, которыми занимался в надежде как-то восстановить свою память. Отношения между нами были хорошими, однако я поставил ему условие никогда не излагать мне эту концепцию.
Я не взялся тут же за разработку своей идеи, так как чувствовал себя еще недостаточно подготовленным. Уж очень много пробелов образовалось. Поэтому незадолго до отправки Виктора из шарашки у меня состоялся с ним краткий разговор. Я просил в самых общих чертах изложить его мысли. Он говорил крайне невразумительно, может быть, сознательно темнил. Тогда я задал ему вопрос о природе силы при соударении двух тел. Ответ был идентичен евангельскому определению (Марк 5: 30). Обнаружил я это много лет позднее, так как, конечно, никакого Евангелия в ту пору у меня не было. Я предполагаю, что эти ему взгляды ему изложил перед смертью один из католических монахов или священников в Освенциме.
Глава 16. На шарашке (1947–1950)
Встреча с СолженицынымШарашка, куда поздно вечером в октябре сорок седьмого привезли меня и Трушлякова, находилась на окраине Москвы рядом с Останкинским парком в помещении бывшей духовной семинарии. Это была та самая шарашка, – один из конструкторских и научно-исследовательских объектов, использующих труд заключенных, – которой посвящен роман Солженицына «В круге первом». Ее обитатели блестяще им описаны. Когда мы приехали на шарагу, она была в стадии организации, серьезные работы еще не начинались. Режим для заключенных был сравнительно легким: подъем в семь утра, отбой в десять вечера, выходить из помещения можно было в любое время.
Умывальник временно стоял внизу у входной двери. Статный мужчина в офицерской шинели спускался по лестнице, когда на следующее утро я вытирал лицо выданным мне казенным полотенцем. Мне сразу понравилось открытое лицо, смелые голубые глаза, чудесные русые волосы, нос с горбинкой. Это был Александр Солженицын. После этапа и месяца в московской Бутырской тюрьме я изголодался по воздуху, и через несколько минут тоже выскочил за ним. Всего несколько зэков гуляли под старыми редкими липами обширного двора, заросшего травой. С меня не успели снять еще бандитские доспехи, поэтому я сразу оказался окруженным старожилами. Солженицын гулял один поодаль, но когда любопытство остальных зэков было удовлетворено, подошел ко мне и предложил пройтись вместе. Первый краткий наш разговор запомнился. «Когда я глянул вниз, спускаясь с лестницы, – сказал мне Солженицын, – в темноте площадки я увидел лик нерукотворного Спаса». Об изумительном человеке Солженицыне теперь пишут книги. Мне хочется сказать только, что Солженицын изобразил самого себя исключительно правдиво и точно в главном персонаже романа – Глебе Нержине.
Восьмая заповедь зэкаК тому времени, когда Лёва Копелев прибыл на шарашку, мы были с Саней Солженицыным уже дружеских отношениях. Лев тоже коротко сошелся с Саней, так как у них было много общего: оба воевали на одном фронте, учились в одном институте, имели ярко выраженную склонность к изящной словесности… Лев – кладезь литературной эрудиции, был необыкновенно осведомлен также в вопросах истории, политической жизни страны; их дружба вполне понятна и оправдана. Труднее объяснить, как я затесался в их компанию, тем более, что со Львом мы расходились по всем главным вопросам современности и прошлого. Я думаю, что в то время вошел в их единство как антитеза и возмущающая сила. Не в упрек автору «Круга», который вовсе не обязан был дать фотографию действительности, следует сказать, что описанные там споры Рубина и Сологдина – лишь бледная тень того, что было на самом деле. Как нападающая сторона, Сологдин вынужден был называть вещи своими именами и громить сталинский режим совершенно бескомпромиссно. Это вызывало ярость и резкие возражения Рубина, так как невозможно было защитить эту систему по существу. За любой спор один мог заработать срок в двадцать пять лет за «клевету», а другой – десять лет за недоносительство. Вряд ли следовало описывать эти споры в романе, написанном для московского журнала «Новый мир», и в «Круге» они даны в очень смягченном варианте.
Кроме того, несдержанность Льва объяснялась тем, что по сравнению со мной, старым, испытанным дуэлянтом, он спорить не умел. Впервые здесь, на шарашке, он узнал, что представляет собой обмен мнениями внутренне свободных людей. До этого в своей среде он встречался лишь с теми, кто был со всем согласен или помалкивал, поскольку откровенный разговор в партийных компаниях был чрезвычайно рискованным. Более того, я убедился, что борьба мнений, как средство отстоять истину, была незнакома Льву. Ему казалось достаточным одержать временный тактический успех, поэтому, постоянно чувствуя, как почва уходит из-под ног, он начинал горячиться, кричать и даже ругаться. Порой мне казалось, что он готов меня убить, но через день-два все входило в норму, и вскоре при первом удобном случае споры возобновлялись. Обычно наши столкновения происходили с глазу на глаз, но иногда мы прибегали к Солженицыну как к арбитру.
Первые полгода, когда работа шарашки только налаживалась, мы провели много прекрасных вечеров в помещении библиотеки. Лев рассказывал о своих фронтовых похождениях и делился богатыми наблюдениями о немцах, с которыми встречался как переводчик. До сих пор мне жаль, что только несколько вечеров были посвящены чтению стихов. Оба – Лев и Солженицын – декламировали изумительно. Однажды я упросил их почитать раннего Маяковского. Лев выбрал отрывки из поэмы «Облако в штанах», а Саня – «Флейту-позвоночник». Оба не жаловали поэта, во читали всё равно его стихи с большим пониманием. На мой взгляд, пальма первенства принадлежала Саше, так как, обладая артистическим талантом, он мимикой дополнял звучание и смысл стихов.
В двадцатые годы я не разделял переживаний моих сверстников, увлекавшихся Есениным, Маяковским, Пастернаком. Первый казался мне простоватым и непоследовательным; второй был ненавистен ярой советской политической направленностью; третий вызывал зевоту. До «Доктора Живаго» ему предстояло тогда еще повариться в советском котле лет тридцать. Однако в лагере я впервые взял как следует в руки Маяковского, и в ту веху жизни он затронул струны моей души грубой силой и наглостью, гармонируя с окружающим нас лагерным зверством. Впоследствии, в ссылке, я основательно разобрался в его творчестве и неразрывно связанной с ним личности, но на шарашке нас забавляли его ранние стихи периода увлечения футуризмом и хождения в желтой кофте.
Солженицын – человек уникальной энергии, и сама природа создала его так, что он не знал усталости. Он частенько терпел из вежливости наше общество, про себя жалея часы, пропавшие из-за такого времяпрепровождения, но зато, когда был в ударе или разрешал себе поразвлечься, – мы получали истинное наслаждение от его шуток, острот и выдумок. В таких случаях румянец Сани усиливался, нос белел и становился как бы вылепленным из алебастра. Не часто выходило наружу и другое его качество – присущий ему юмор. Он умел подметить тончайшие, ускользающие обычно от окружающих, штрихи, жесты, интонации и артистически воспроизводил их комизм, так что слушатели буквально катались от хохота. Но разрешал он себе это, увы, крайне редко, в самом узком кругу и только тогда, когда видел, что это не идет в ущерб его занятиям.
После шарашки нам пришлось просидеть в Бутырках тридцать пять дней, ожидая отправки в спецлагерь, и большую часть времени мы провели только вдвоем. По вечерам Саня по свежим следам разыгрывал импровизированные сценки, имитировал различных собеседников, чаще всего – диалоги между начальством и зэками. Коронным номером была передача телефонного разговора начальника акустической лаборатории и оперуполномоченного Шикина, и я часто упрашивал Саню повторить их беседу в его интерпретации.
В свои произведения, принадлежащие мировой литературе, Солженицын сумел вложить тонкий юмор в великолепной дозировке; как жемчуг, он рассыпан и в романе «В круге первом». В русской литературе почти отсутствует мягкий смех, так как бичующая сатира – иной природы, и для меня по этой причине Солженицын занимает, бесспорно, первое место.
Гораздо чаще организатором вечеров был Лев, и первые месяцы прошли преимущественно под его знаком. зодиака. Как-то я поведал своим литературным друзьям, что не очень люблю русские стихи, поскольку не нахожу в них призывов к рыцарству, благородству, подвигам… и привел строфу скаутского гимна: «Не страшись работы и опасности, помни, что ты молод и силен». «Это не поэзия!» – разом воскликнули они. Тогда я попросил указать мне поэта, где подобные мысли отражались бы в подлинно поэтической форме. За обветшалостью мы не стали трогать восемнадцатый век. В девятнадцатом самые известные поэты насмехались, издевались, низводили, но не воспевали рыцарства: переводные баллады Жуковского были лишены динамизма и выглядели пресными, остальных эта сторона вообще не трогала. В двадцатом веке Лев обнаружил не совсем то, что мне хотелось, но по духу близкое и созвучное: на память он читал Гумилева, которого любил и почитал. Расстрелянный Лениным в 1921 году поэт не только не был издан при советской власти, но всячески замалчивался, и для нас его стихи были очередным открытием. Саня в ту пору любил Есенина, прочел нам как-то несколько лучших его стихотворений, но поклонников в нас не нашел.
С годами я несколько изменил свою оценку: я стал считать, что удачно подобранный сборник стихов Есенина сможет возжечь любовь к земле и нормальной крестьянской доле в тех, у кого эти чувства специально вытравливались в колхозные десятилетия. Лев пробовал приучить нас к Багрицкому, но не преуспел: не пленила ни форма, ни содержание. Зато Лева покорил нас исполнением романсов Вертинского. Он не только с большим чувством воспроизводил мелодию и слова, но удачно копировал характерные жесты и глядя на него, я охотно извинял все его увлечения марксизмом-ленинизмом-сталинизмом.
Друзья всюду были моей семьей. Так было и на шарашке: восьмая заповедь зэка подтверждала свою правильность.
Язык предельной ясностиЯзык, на котором мы говорили, я прозвал птичьим. Он содержал в себе множество иностранных заимствований, непонятных или малопонятных большинству на нём говорящих, и мои обличения сопровождались восхвалением «языка предельной ясности», на котором я будто бы уже разговаривал. Реализация моей гипотезы вносила в нашу жизнь оживление, шутки, смех. Лев был великолепный филолог и лингвист. Саня уступал ему в знании иностранных языков, но по глубине понимания русского он уже тогда не имел себе равных. Поэтому мои нападки и утверждения встречали доводы блестящих оппонентов. Я приводил следующие доказательства:
– Огромное число слов в современном русском языке иностранного происхождения. Они инородны, непонятны, со славянскими корнями не связаны. Употребляя их, мы жертвуем точностью как в передаче своих, так и в восприятии чужих мыслей и создаем мираж кажущейся ясности. Поэтому нас захлёстывают волны неточности, двусмысленности, скрытой неразберихи. Наше мышление и деловой обмен мыслями напоминают телеграфную связь, которая превращает слова в точки и тире, но допускает при этом постоянные промахи. В нашем разговорном обыденном «птичьем» языке мы себя затрудняем еще менее в точности выбора слов, быстро их выговаривая и часто ошибочно вкладывая в них не совсем тот смысл, которым имеем в виду. В результате – открывается дополнительная возможность подмен, подтасовок, искажений, обманов.
– Язык «предельной ясности», по моему замыслу, должен был состоять из нескольких сот элементарных слов, ясных еще с детства. Несколько тысяч более сложных понятий возникает из них, поэтому должны быть переданы многослоговыми составными словами или целыми фразами. На первых порах понадобятся словари, но поскольку корни обжитые и знакомые, символы запомнятся быстро.
– В научной сфере язык предельной ясности незаменим, так как дает возможность наиболее точных определений применяемых понятий. Но для рабочих манипуляций и связи с другими языками он допускает и даже рекомендует международные термины, объединяющие многословные выражения.
– Такой язык создать возможно. Я, не будучи лингвистом, один, кустарным путем слепил его живую модель. Конечно, это было лишь жалким подобием настоящего языка предельной ясности, который должны были разработать знатоки и специалисты своего дела.
Много раз я предлагал Льву заняться разработкой этой проблемы, и, на мой взгляд, он напрасно отказывался. При его громадных познаниях, великолепной памяти, работоспособности, живости ума он один вчерне за несколько лет справился бы с этой задачей и на воле мог бы продолжить свои изыскания. Много людей сказали бы ему спасибо. Используя изложенные принципы, тщательно разработав свою терминологию и непрерывно ее уточняя, мне удалось приподнять завесу над загадочными величинами физического мира – пространством и временем, что нашло отражение в книге, которую я надеюсь вскоре опубликовать на Западе.
От моих предложений Лев, конечно, открещивался, поскольку они исходили от человека с чуждой ему идеологией, и напоминал мне, в этом отношении, коммунистов первых годов захвата власти. У этих темных и малоразвитых людей ничего в арсенале, кроме «классового чутья», не было: население они делили на тех, кого надо поставить к стенке немедленно, и тех, кого следует только ограбить. Естественно, к «чуждым» у них никакого доверия не было, и то, что им говорили и предлагали, рассматривалось как вражеская буржуазная вылазка. Все становилось, таким образом, предельно простым; думать не требовалось. Не мог Лев также примириться и с тем, что рекомендация исходила не от профессора или равного ему доцента, а от безвестного человека без ученой степени и звания. Кроме того, Льву, всю жизнь утопавшему в пучине кажущейся ясности, в силу направленности самой задачи, надо было бы перебороть в себе многолетние привычки и перейти к точному мышлению. Конечно, это принесло бы ему огромную пользу, но одновременно пришлось бы поступиться частичкой своем гордости и самолюбия, а главное – расстаться с грудой заблуждений относительно коммунизма и способов его достижения. Но Лев, наоборот, питал фанатическое доверие к постулатам марксизма и лишь из его цитатника ожидал направляющих идей для своих будущих работ.
Этому настроению, наверное, содействовало также бурное наступление мичуринцев на «буржуазную» генетику, открытия Лепешинской – предложение создать живые клетки из гидр, перемолотых в ступе, – объяснение происхождения мира Опариным… Марксистские открытия, которые полностью вдохновлялись цитатами из Энгельса, вызывавшими смех и издевку умных людей, оказались, как и следовало ожидать, вопиюще безграмотным шарлатанством и очковтирательством. Но тогда это еще не обнаружилось, в открытом, понятном для рядовых людей виде, и Лев, со свойственным ему увлечением, принялся разрабатывать знаменитую по своему верхоглядству мысль Энгельса, в которой утверждается, что человек произошел от обезьяны, коль скоро она начала своими лапами производить осмысленный труд. Лев схватился за это место и стал нас заранее уверять, что все языки мира произошли от слова «рука». Много смеха принесли нам его изыскания и открытия. Карманы Льва разбухли от самых разнообразных иностранных словарей, и всюду он находил подтверждение гениальной идеи Энгельса, ставшей теперь как бы его собственной. Но замыслы Льва претерпели удар судьбы. Солженицын правильно отметил в «Круге», что добрые чувства испытывали ко Льву только его идейные враги, а от единомышленников он получал лишь пинки и неприятности. Так произошло и в данном случае. Корифей наук, генералиссимус всех учений Сталин своей сверхгениальной работой в области языкознания ниспроверг учение Марра о классовой природе языков. Тем самым уничтожался и замысел Льва, поелику Марр тоже питался схожими цитатами из Энгельса и преследовал цель доказать их справедливость.
Мы были благодарны Льву за веселые минуты, которые он нам доставил своими «открытиями». Язык предельной ясности забавлял нас дольше, так как я в нем упражнялся все два с половиной года нашего совместного пребывания. Рациональное его зерно нашло применение в служебных работах того же Льва, когда в разрабатываемой им теории артикуляции появлялись обозначения новых терминов, выраженные понятными, родными словами, как например, «звуковиды», «стрежень», «видимая речь»…
В годы, когда мы ломали копья в спорах, а я из кожи лез, чтобы подтвердить важность языка предельной ясности, в Риме умирал необыкновенный поэт-мыслитель Вячеслав Иванов. По приезде на Запад я познакомился с его повестью о Светомире Царевиче и был очарован не только глубиной и силой этой вещи, но, в первую очередь, языком, каким она была написана. Это был для меня праязык предельной ясности, созданный из истоков мудрости и всеобъемлющего взгляда на жизнь. Мой язык мог бы рассматриваться как один из лучей его сияния.








