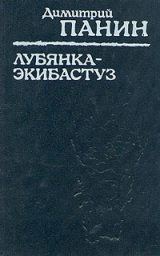
Текст книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Автор книги: Дмитрий Панин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
По дороге на каторгу наш передний вагон остановился как раз у переезда небольшой станции. Мы с Саней лежали на верхних нарах и о чем-то беседовали. На остановке посмотрели в окно. У шлагбаума стояла маленькая женщина неопределенного возраста; на вид ей было лет сорок. Скуластое сморщенное лицо, характерный косой разрез глаз указывали, что она из Мордовии или Чувашии. Одежонка на ней была бедняцкая, да, вдобавок, латаная и черного цвета. На ногах – разбитые сношенные ботинки и грубые драные носки самодельной пряжи. Под подбородком по-крестьянски был завязан выцветший старый платочек. Все укладывалось в стандарт общей нищеты населения и давно перестало вызывать у нас интерес. Но вдруг мы оба напряглись, как струна, так как заметили, что из ее глаз текут крупные слезы. Она разглядывала силуэты в глубине арестантского вагона и маленькой рукой, заскорузлой от грубых работ, крестила нас, крестила… Слезы замочили ее личико. Мы смотрели на нее, как завороженные, и не могли оторваться… Поезд тронулся, но она продолжала крестить нас вдогонку, провожая своим знамением. Через несколько секунд она исчезла из поля зрения, так как от наружных окон мы были отделены еще общим проходом.
Кто была эта бедная женщина? Сколько родственников и близких ей людей погубили чекисты? Сколько мук выпало на ее долю? Благословила нас страдалица на продолжение нелегкого пути, и мы оба унесли в своем сердце ее чудный образ в рубище.
Много раз в своей жизни получал я благословение священников. Но благословение этой маленькой замученной женщины на неизвестном затерянном полустанке сравнимо для меня по значению и силе с благословением самого папы Римского, которое снизошло на меня во время пребывания в Вечном городе.
Песчанлаг – СтеплагПодготовку к третьей мировой войне Сталин, по своему обыкновению, проводил под лозунгом «укрепления тыла». К усиленным посадкам по старым спискам прибавились массовые аресты евреев, проводимые под лозунгом борьбы с «безродным космополитизмом»; биологов, именовавшихся «вейсманистами-морганистами»; бывших зэков, которые к тому времени уже вышли из заключения; тех, кто имел хоть отдаленное отношение к оппозициям… Всех заключенных, кто мог вызывать опасения, в первую очередь бывших вояк, по замыслу параноика, боявшегося своей тени, сосредоточили в спецлагерях или, как их иначе называли, особлагах. В них проводился режим, утвержденный в сорок третьем для каторжан. Поэтому их всех передали в особлаги. Власть лишний раз доказала свое беззаконие и произвол, поскольку осужденных к содержанию в лагерях (ИТЛ) запросто перевели в разряд каторжников. Особлаги были организованы в 1948 году, и им были присвоены кодовые клички: на Воркуте – Речлаг, на Колыме – Берлаг, в Тайшете – Озерлаг, в Мордовии – Дубровлаг, в Казахстане – Песчанлаг и Степлаг. Экибастуз, куда нас привезли, входил попеременно в последние два особлага.
В конце августа 1950 года наш этап из Павлодарской тюрьмы был передан в руки конвоя Песчаного лагеря. Много конвоиров видел я до этого, но о таких бандитах приходилось только слышать. Правда, состав заключенных тоже был боевой и за ответом в карман не лезли. Среди западников, как мы называли украинцев из западных областей, многие носили кресты на шее и мы заранее договорились, как отвечать конвою. Обыскивающий меня схватился лапой за шнурок, на котором висел нательный крестик, но не рванул, а вопросительно глянул мне в глаза. Я был в его власти больше, чем кто-либо, так как он мог отобрать мои записки. Поэтому без крика, но очень твердо, я заявил, что не сдвинусь с места. Наученный прежними этапами, он не осмелился доставить себе садистского удовольствия сорвать крест.
Нас погрузили по двадцать пять человек с вещами на трехтонные грузовики, передняя часть которых была отгорожена для трех-четырех конвоиров с автоматами. Грузовики мчались по бездорожью степи. В сумерках и ночью конвой палил в небо из ракетниц. В пути нас выгрузили на оправку: представилась полная возможность разоружить конвой и на машинах доехать обратно до города. Но люди не были подготовлены к такой возможности, а те, кто верховодили, на побег ставку не делали.
Ночью добрались до Экибастуза. Вопреки нашим разъяснениям, многие надеялись, что везут не на каторгу, но убедились в своей ошибке, увидев нарядчиков и прочих придурков, украшенных номерами на всех положенных местах. Из расспросов поняли, что кормежка достаточная, доходяг нет, посылки разрешены, режим очень строгий, каторжный, гарантийная пайка – семьсот граммов хлеба, блатных почти нет, женщин, естественно, тоже, на работу по специальности с общих работ вырваться тяжело. Кроме лагерной тюрьмы, был в зоне барак с намордниками и решетками на окнах, отгороженный колючей проволокой, – бур (барак усиленного режима). Впрочем, и в остальных бараках на окнах были решетки и на ночь двери запирались. Все это не было новостью: так как об этом рассказывали привезенные на шарашку особлаговцы.
За два дня нас обмундировали, выдали тряпки, и художник каждому из нас написал краской его номера. После этого нас разбили на бригады и вывели на общие работы – рытье траншей под финские домики. Недели через две мы перешли к каменной кладке. Посылок я не получал, следовательно, расходовать энергию надо было экономно и задерживаться на общих работах было недопустимо, тем более, что по десятой заповеди я был обязан не быть никому в тягость. Я пробовал помочь бригадиру в описании нарядов и на первых порах включал все вспомогательные действительно выполненные работы, вроде переноски деталей домиков, и составлял акты на время простоя по вине производства… Вольный десятник все, что я делал, вычеркивал. Я понял, что полезным при таком отношении быть не могу и посоветовал бригадиру требовать от зэков выработки норм до момента, когда еще выдается гарантийка, и не превышать этот минимум; кажется, полагалось для этого выполнить работу на тридцать процентов. Большинство «западников» начало получать уже посылки из дома, и уменьшение пайки не страшило.
Вскоре мне и еще одному инженеру повезло – удалось устроиться на деревообделочный комбинат. Нас числили за маленькой мехмастерской, но на нас лежала задача пустить в ход установку для получения жидкого кислорода, которая в полуразрушенном состоянии стояла в наскоро слепленном вокруг нее помещении каркасного типа. До этого оборудование держали целый год под брезентом на улице. Зеркала цилиндров компрессора поржавели, приборы разворовали, ряд трубок исчез, документацию пустили на курево. Во всеоружии седьмой заповеди и вспомнив, как Тиль Уленшпигель писал портреты знатных сеньоров, я с непоколебимым апломбом заявил, что берусь наладить и пустить установку. Расчет был исключительно прост. Зная советское снабжение, не говоря уж о лагерном, я был уверен, что пока будут доставать необходимые материалы, приборы, лабораторные устройства, кончится мой срок заключения.
Не боги горшки обжигают, и месяца за три я вполне разобрался в действии этого агрегата, составил чертежи на необходимые части и написал заявку в отдел снабжения на недостающее для пуска и эксплуатации снаряжение. В тресте Иртышуглестрой поняли, что гораздо проще получить новую установку, чем достать десятую часть того, что мною было указано, и прекратили дальнейшие работы. К тому времени я уже свел знакомство с инженерами, руководившими главной механической мастерской. В особлаге переводы на другой объект не поощрялись, так же, как использование инженеров по специальности. Тогда возник план, по которому я должен был занять место переброшенного на другой участок бригадира. Пришлось согласиться и два месяца выводить бригаду на работу. Целый день был у меня совершенно свободен. По собственному почину, я выполнял работу конструктора и завоевал быстро признание со стороны вольнонаемного начальника мастерской, который сумел меня отвоевать у лагеря. На мое место бригадиром удалось поставить Солженицына, который всю осень и зиму пробыл на общих работах. Я считал себя обязанным устроить другу временную передышку, которая позволяла ему отдаться творчеству.
С наступлением тепла Солженицын начал читать наизусть свое первое произведение – поэму «Дорога». Мы собирались под вечер, рассаживались на телогрейках, на подсохшей земле и с восторгом слушали. Память у Солженицына была гигантской, так как по объему его произведение было в два с лишним раза больше «Евгения Онегина», в котором около 5400 стихотворных строчек. Чтобы не сбиться и ничего не пропустить, Саня откладывал каждый стих на четках, которые ему подарил кто-то из западных пареньков.
Лет через семь уже после ссылки, когда Саня проездом был в Москве, я спросил его о судьбе первого детища. Он ответил, что далеко ушел вперед, видит в поэме ряд недостатков, в частности растянутость, повторы, и собирается ее переделать. Я горячо уговаривал его оставить все, как есть, не трогать экибастузский вариант и создать, если у него есть потребность, другую поэму по канонам книжной поэзии пятидесятых годов нашего века. Я крайне огорчен, если он не внял моему совету и уничтожил подлинник уникального и неповторимого памятника тех каторжных лет, переливающегося для меня красками молодости, силы и душевной чистоты.
Солженицыну при жизни следовало бы поставить памятник. Изобразить его в темном бушлате и офицерской ушанке каменщиком в момент передыха на кладке стены из черного мрамора. Шея замотана вафельным полотенцем, лицо сосредоточено, взгляд устремлен вдаль, губы шепчут стихи, в руках четки. Так читал он нам каждую неделю новые строфы все возраставшей поэмы.
Потрясающим было то, что слагал он ее сразу в уме, почти никогда не прибегая к бумаге, так как риск был огромным. Однажды вечером он потерял листок, на котором все же что-то записал, и не обнаружил его в бараке. Всю ночь он проворочался на жестком ложе, с первым ударом подъема был уже у двери и, выскочив, проделал наиболее вероятный маршрут, который восстановил в памяти. О диво! Листок, исписанный его столь характерным почерком, попал в расщелину между камнями на дороге. Саня занимался творчеством в обстановке слежки и регулярного надзора и попадись этот клочок бумаги в лапы надзирателя, было бы создано лагерное дело. В это время Саня выходил еще ежедневно на работу в качестве каменщика. Мы были горды, что в нашей среде формируется писатель огромного калибра, так как это уже тогда было ясно.
Перевод целой бригады с одного объекта на другой осуществить было гораздо проще, чем перемещение из бригады в бригаду, связанное с использованием по специальности. Нам удалось заполучить в мехмастерскую три бригады с подходящим составом людей, в том числе и Павлика.
Страх и недоверие Сталина к людям достигли в то время своего апогея. Достаточно перечислить количество выслеживающих друг друга чекистских инстанций, таких как надзорсостав, оперуполномоченный министерства внутренних дел (МВД), оперуполномоченный министерства государственной безопасности (МГБ), таинственный оперуполномоченный отдела «К» или «М», который, по слухам, докладывал чинам дворцовой охраны Сталина и надзирал над всеми. Специальные помещения были отведены под штаб надзорслужбы и кабинеты оперуполномоченных.
Ограды вокруг лагеря были столь же чудовищны, как и пирамиды надзора. Колючей проволокой были опутаны зона и предзонники, надолбы из бревен с заостренными концами были врыты наклонно под углом в сорок пять градусов и направлены внутрь жилого пространства. Между двумя заборами была натянута проволока и продета в ошейники свободно бегающих специально выдрессированных овчарок. Одно из колец, опоясывающих лагерь, постоянно распахивали, дабы след беглеца мог отпечататься на свежей земле.
В самой зоне был построен каменный изолятор – лагерная тюрьма – с сырыми неотапливаемыми карцерами, и отгорожен колючей проволокой барак усиленного режима. Внешние атрибуты терроризма давили на слабые души.
БуревестникЗа малейшие провинности можно было угодить из общей зоны сразу в бур. В буревестнике, как мы его называли, содержались беглецы, молитвенники-богомольцы, отказчики от работ, на которых пришлось махнуть рукой, жертвы стукачей. До бура они отсидели положенное в изоляторе. Одним из постоянных обитателей этого невеселого места был Герой Советского Союза майор Воробьев – эталон беглецов особлага. Еще человек десять следовали его примеру и большую часть времени проводили в изоляторе. Когда из бура их выводили в каменоломни на особо тяжелые работы… беглецы действовали всегда по одной и той же схеме. С самосвала снимали шофера, приехавшего за камнями, три человека забирались в кабину, остальные желающие – в кузов, разогнав машину, таранили ворота и на предельной скорости мчались по дороге. С вышек, окружающих карьер, начинали бить из пулеметов по колесам, конвоиры с вахт строчили из автоматов и пробивали шины, а на помощь из штаба уже мчались на джипах автоматчики. Беглецов снимали с самосвала и били – не очень сильно, так как никаких особых поисков предпринять не пришлось: все разыгрывалось на глазах и без сопротивления со стороны заранее обреченных. Конвой даже радовался: представлялся случай без особых усилий получить поощрение. Беглецов снова запирали в изолятор, и цикл возобновлялся. Я пытался узнать у Воробьева о мотивах применения столь безнадежного способа. Он объяснил, что хочет добраться до Москвы и рассказать Верховному Совету о том, что здесь творится. Во мне это вызывало лишь усмешку. Я сам был неудавшимся беглецом, и ошибки других поэтому видел отчетливо. Тот, кто решился на побег с целью вырваться на волю, должен быть готов на все. Если такое состояние не обеспечено, то происходит только игра с самим собой и с лагерным начальством. Несопротивляющихся беглецов, без оружия, при поимке обязательно ловят. Когда беглецы раздобывают автомат и по их повадкам видно, что живыми они не сдадутся, у конвоя и оперативников создается иное настроение и даже лов может вестись так, чтобы оказаться безрезультатным. Многие считали героями беглецов из каменоломни, и действительно требовалось присутствие духа, чтобы совершить прогулку под дождем пуль. Поэтому для подъема самочувствия заключенных мы использовали эти факты, и свое мнение я высказывал лишь самым близким, без передачи остальным.
По мере того, как бур пополнялся людьми делового образа мыслей, формы побега менялись и становились более разумными и менее безнадежными. Громадный моряк-эстонец Тена и его маленький напарник вскоре после нашего приезда, ночью, после отбоя, удачно нырнули под проволоку, благо собак тогда еще не было, и выскочили из общей зоны. Им удалось переплыть Иртыш и проникнуть за Омск, где они пали жертвами собственной мягкотелости.
Толковые попытки побегов производились с помощью подкопов, которые велись из самого бура, и по такому внутреннему коридору, выводящему за зону, однажды чуть не убежал весь состав буревестника.
Наиболее удачным и остроумным был побег двух зэков во время сильного бурана. За день намело валы спрессованного снега, колючая проволока оказалась занесенной, и зэки прошли по ней, как по мосту. Ветер дул им в спины: они расстегнули бушлаты и натягивали их руками, как паруса. Влажный снег образует прочную дорогу: за время бурана им удалось проделать больше двухсот километров и выйти к поселку. Там они спороли, тряпки с номерами и смешались с местным населением. Им повезло: то были чеченцы; они оказали им гостеприимство.
Чеченцы и ингуши – близкородственные друг другу кавказские народности магометанской религии. Их представители в огромном большинстве – люди решительные и смелые. Гитлера они рассматривали как освободителя от кандалов сталинизма и, когда немцев прогнали с Кавказа, Сталин произвел выселение этих и других меньшинств в Казахстан и Среднюю Азию. Гибли дети, пожилые и слабые люди, но большая цепкость и жизненная сметка позволили чеченцам устоять вовремя варварского переселения. Главной силой была верность своей религии. Селиться они старались кучно, и в каждом поселке наиболее образованный из них брал на себя обязанности муллы. Споры и ссоры старались разрешать между собой, не доводя до советского суда; девочек в школу не пускали, мальчики ходили в нее год или два, чтобы научиться только писать и читать, а после этого никакие штрафы не помогали. Простейший деловой протест помог чеченцам выиграть битву за свой народ. Дети воспитывались в религиозных представлениях, пусть крайне упрощенных, в уважении к родителям, к народу, к его обычаям, и в ненависти к безбожному котлу, в котором им не хотелось вариться ни за какие приманки. При этом неизменно возникали стычки, выражались протесты. Мелкие советские сатрапы вершили грязное дело, и много чеченцев попало за колючую проволоку. С нами тоже были надежные, смелые, решительные чеченцы. Стукачей среди них не было, а если таковые появлялись, то оказывались недолговечными.
В верности магометан я не раз имел возможность убедиться. В мою бытность бригадиром я выбрал себе помощником ингуша Индриса и был всегда спокоен, зная, что тыл надежно защищен, и каждое распоряжение будет выполнено бригадой. В ссылке я был в Казахстане в разгар освоения целины, когда, получив по пятьсот рублей подъемных, туда хлынули представители преступного мира. Парторг совхоза, испугавшись за свою жизнь, за большие деньги нанял трех чеченцев своими телохранителями. Всем тамошним чеченцам он своими действиями был отвратителен, но раз обещав, они держали слово, и, благодаря их защите, парторг остался цел и невредим.
Позже, на воле, я много раз ставил в пример знакомым чеченцев и предлагал поучиться у них искусству отстаивать своих детей, охранять их от тлетворного влияния безбожной, беспринципной власти. То, что так просто и естественно получалось у малограмотных магометан, разбивалось о стремление образованных и полуобразованных советских россиян обязательно дать высшее образование своему, как правило, единственному ребенку. Простым людям при вколачиваемом безбожии и обескровленной, разгромленной, почти повсюду закрытой церкви невозможно было в одиночку отстоять своих детей. Дело кончилось бы обязательной посадкой.
Безвылазно находился в буре подвижник Твердохлебов. Принадлежал он к представителям ушедшей в подполье православной Церкви, называемой на Западе катакомбной. С ним прибыли в лагерь еще несколько представителей тайного братства с каким-то длинным названием, которое начисто отрицало официальную советскую церковь во главе с патриархом Алексием. О мерзостях, творимых продажными князьями Церкви, они были чрезвычайно осведомлены, громили их как представителей антихриста, слуг безбожных властей, и считали себя истинными православными христианами, не признающими никаких новшеств и соблазнов века. Во главе их братства стояли женщина и два ее сына, получившие по двадцать пять лет тюремного заключения. Все они были из рабочих – механики, слесари, шоферы, шахтеры, и до ареста жили в шахтерском Донбассе. На Куйбышевской пересылке их было человек пятнадцать, и я уже там с ними познакомился. Только трое из них попало в наш лагерь. Твердохлебов был высококвалифицированным механиком-монтажником по компрессорам, дизелям, насосам. По ряду его ответов на интересующие меня технические вопросы я понял, что передо мной профессор своего дела.
По приезде в лагерь он категорически отказался:
– нацепить номера, считая их печатью сатаны, оскорбительной для христианина;
– выполнять какие бы то ни было работы, не желая поддерживать власть сатаны;
– принимать пищу с лагерной кухни из-за возможности содержания животных жиров, которые он не употреблял.
Соглашался он брать только сахар и хлеб, а по средам и пятницам хлеб тоже отдавал соседям по бараку. Весь день и часть ночи он проводил в молитве и в размышлениях на духовные темы. Религиозного образования у него не было почти никакого, но поразительной была ясность в понимании и толковании истин христианского вероучения.
Он выдержал несчетное число суток в карцера, достаточных, чтобы свалить быка, и каждый раз выходил оттуда только более сухоньким. К сроку его добавить было нечего, так как он имел уже двадцать пять лет и, перепробовав весь арсенал принуждения, который разбивался о его могучее упорство, начальство сдалось, и он завоевал право выполнять свои скромные требования. Тогда издеваться над ним и еще несколькими молитвенниками, скорей всего, по наущению начальства, начал латыш – дневальный бура. С ним мы справились своими силами, предложив ему уйти с лагпункта, если он не хочет, чтобы его «маранули», и он добровольно попросился в изолятор. Самопосадки в тюрьму тогда начинали входить в моду.
С другим стойким молитвенником бура я познакомился тоже на Куйбышевской пересылке. Он был в подряснике послушника и резко отличался от всех остальных. Расположился он возле двери по соседству с парашей. Мы тотчас предложили ему хорошее место на нарах, но вскоре он вернулся обратно. Днём несколько часов он лежал на своих вещичках, свернувшись калачиком, остальное время и почти всю ночь молился. Видя его молитвенное усердие, отдельные надзиратели предлагали, в знак уважения, вывести его отдельно на оправку и умывание – случай невероятный, но я слышал это ночью своими ушами. Видимо, он принадлежал к другому ответвлению катакомб-ной церкви, хотя взгляды его совпадали с Твердохлебовым. Приверженцы последнего не признавали его своим за то, что он самовольно присвоил себе монашеский чин. На его слабенькое, худенькое тело обрушили град тех же пыток и измывательств, но он тоже всё выдержал и вышел победителем.
Какой громадной силой должна обладать молитва! Другие – крепкие молодые парни – за десять суток в карцере наживали чахотку, а богомольцев сломить ничем не удалось.
Многие попадали в карцер изолятора по доносам стукачей. Всю осень просидел там по навету ни за что, ни про что наш большой друг Юрий Карбе, обвиняемый^ попытке к бегству.
Сверхподозрительность Сталина привела с системе чекистских отделов, каждый из которых стремился охватить общее поле наблюдения и сыска своей отдельной агентурой, то есть стукачами. Ненависть, возмущение, протесты в лагерях можно уподобить пару в котле. В военное время чекистскому отделу МВД удавалось обеспечить подавление заключённых, так как, создавая искусственные лагерные «дела», вымаривали голодом и болезнями лучших, наиболее активных и опасных. Выпуск паров производился непрерывно, и до взрыва дело не доходило.
Очевидцы рассказывали, что в особлагах тоже попробовали заняться фабрикацией выдуманных дел, но из этой затеи ничего не получилось: у большинства уже и так было по двадцать пять, добавлять было не к чему, почувствовать и оценить добавку не могли, а по причине резкого изменения состава следствие превращалось в издевательство над следователями. Кроме того, на остальных такие пробы устрашающего действия не возымели. Выпуск пара был прекращён, а давление в котле чекисты искусственно повышали. Это могло кончиться взрывом. Тогда придумали «буревестники» и начали нажимать на лагерные наказания. Но наказанный мужчина в расцвете лет и сил, с фронтовым прошлым, которое не снилось чекистской своре и её охране, быстро поправлялся, выйдя из изолятора, да и в нем питание было сносное. Устроить милую сердцу чекистов доходиловку было невозможно, ибо опытные зэки сразу же резко снизили бы выработку и сорвали бы план треста, добывающего уголь в бассейне Экибастуз. Так поступили в моей бригаде:
в ответ на вычеркнутые десятником вписанные работы мы скрытно объявили итальянскую забастовку – почти никто ничего не делал. Прораб всполошился – план стройки затрещал по всем швам. И когда ему пожаловались на десятника, тот получил новую установку: за свой умеренный труд люди начали получать вскоре наибольший паёк. Я понял, что в этом с виду страшном лагере у заключённых большая сила.
До весны пятьдесят первого обстановка не изменилась. Чекистские отделы нажимали на стукачей, те выслеживали мелкие нарушения, но крупных поклепов не совершали, так как боялись страшного возмездия. Все же они достаточно портили жизнь, и многие сидельцы изолятора и бура лелеяли мечту по выходе оттуда разделаться на лагпункте с иудами. Давление в котле непрерывно повышалось, состояние явно становилось неустойчивым, и вполне можно было предсказать, пока ещё в неясной форме, возникновение вспышек резкого протеста. В воздухе чувствовалось приближение грозы.
Экибастуз в этом состоянии описан Солженицыным в его повести «Один день Ивана Денисовича» сквозь призму воображаемого работяги. Конечно, чтобы полностью описать особлаг, не хватит места даже в книге из десяти глав. И каждая будет посвящена только одному характерному слою населения лагеря, которое можно сгруппировать следующим образом:
– советские вояки: власовцы и пленники;
– партизаны;
– инженеры, а также другие интеллектуалы – люди мысли, искусства;
– молитвенники – протестанты и ярые отказчики – и другие сыны катакомбной церкви, а также сектанты;
– рядовые работяги;
– беглецы;
– чеченцы, ингуши, крымские татары, кабардинцы, балкары, калмыки, выселенные из родных мест и попавшие в лагеря;
– бандиты и уркаганы с политическими статьями (58–14);
– легионеры и солдаты дивизий СС, немецких и национальных;
– придурки;
– советские и партийные работники;
– стукачи;
– гады: начальство, чекисты, надзиратели, конвой;
– вольнонаёмные работники треста;
– активные борцы с чекистским произволом – организаторы центров возмущения.
В 1972 году в Женеве я посмотрел английский фильм «Один день Ивана Денисовича». Мне очень жаль, что я не был консультантом и не смог помочь кинофирме в осуществлении её прекрасного замысла. Актеры хорошие, режиссер добросовестный, сценарист чересчур старательный. Вот эта старательность и подвела: фильм является робкой иллюстрацией повести, а этого как раз делать не следовало.
В 1962 году повесть явилась прорывом лагерной тематики в советской литературе. Но, чтобы ее опубликовать в советском журнале, взяли соответствующую плату: описание слаженной и быстрой работы бригады каменщиков. Это была первая уступка. Такая работа была возможной и, может, даже имела место, но она была не типичной, не характерной для особлага и, в какой-то мере, даже обидной. В особлаге работали с прохладцей, и за процентами выработки не гнались. Первое время усердные работяги прихватывали часть обеденного перерыва, но мы покончили с таким положением насмешками и угрозами. Особлаговец быстро начинал себя чувствовать членом большой зэковской семьи, в которой хоть и не без урода, но замечательных людей тоже хватает, у них есть чему поучиться, их можно и следует послушать.
Второй уступкой было изображение бывшего коммуниста, морского офицера Буйновского в качестве героя-протестанта. Дружную работу перед самым концом смены ещё иногда можно было наблюдать, особенно, когда деловой цикл требовал завершения, но выходка Буйновского на разводе, где он протестует как коммунист, исключалась в обстановке особлага, ибо означала саморазоблачение – она могла исходить только от сторонника сталинского режима, следовательно, от пособника чекистов. Немногие бывшие коммунисты боялись этого, как огня. О своих коммунистических идеалах, если у кого они и остались, они могли говорить беспрепятственно только в кабинете чекиста и при этом от них требовали немедленного доказательства на деле искренности их заявлений, то есть превращения в стукачей. В особлаге на это шли далеко не все, а некоторые даже проклинали свое коммунистическое прошлое. Прообразом Буйновского: в лагере был капитан второго ранга Бурковский —. человек крайне ограниченный, чтобы не сказать глупый. Наши объяснения в одно его ухо входили, а в другое выходили. Хорошо хоть, что он не превратился в стукача, ибо мы его не раз предупреждали. В его голове не могла родиться мысль ни о каком протесте: он был службист до мозга костей и добровольный раб сталинской деспотии.
Приходится слышать упрёк, что Солженицын идеализировал Ивана Денисовича. Это неверно, и чтобы это понять, следует разобраться в обстановке. Времена, когда в России были патриархальные крестьянские и рабочие семьи, – в далеком прошлом. Пресс безбожного развала душ действовал на все слои населения и в первую очередь – на горожан. Несмотря на это, немало горожан оказались более стойкими к пропаганде и направленному на них насилию, чем несчастные жители обезглавленной, исковерканной деревни. Стойкость определялась верой в Бога, умственным развитием, общением с более опытными и развитыми людьми.
Но и в деревне, благодаря её более обособленному от коммунистического агитационного пресса существованию, имелось также немало хорошо разобравшихся в главном людей. Одним из них был Денисыч. Если Денисычу хватило ума со всеми другими сдаться в плен, когда немцев ждали как освободителей, и убежать от Гитлера как только стало ясным, что он явился как захватчик, то он догадался бы не рассказывать свою одиссею армейским чекистам по прибытии в советский штаб. Но там его запутали, сличили его показания с другими, дали очные ставки, и пришлось признаться.
Формула Денисыча: «что не сработано честным трудом, то и не заработано» – несёт в себе не только отголосок стародавних времен, но и требования, предъявляемые в любую эпоху к мастеру своего дела. Даже в лагерях, с туфтой и отвращением к рабскому труду, мастер отвечал головой за работу и одновременно кормил себя и подручных. С такой оговоркой эту формулу можно принять как рабочую установку, а не отжившую погремушку. Внутренний мир Ивана Денисовича дан Солженицыным правдиво и типичен для миллионов людей, исковерканных безбожной системой.








