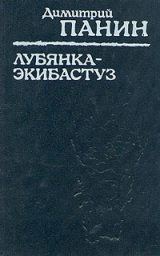
Текст книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Автор книги: Дмитрий Панин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Глава 3. Этап из Москвы
Как мы встретили войну в БутыркахВойна с Германией началась не первого июня, как предсказывали в нашей этапной камере, а с опозданием на двадцать два дня. Войну ждали со дня на день. Поэтому, когда в ночь на 23 июня все вскочили с нар, разбуженные бешеной пальбой из зениток, многие из нас поздравили друг друга с началом войны. Были и такие, кто сидел, повесив нос. Произошло расслоение.
Патриотами и оборонцами в большинстве оказались:
– те, кто в 1917 году открывал и разваливал фронт;
– те, кто дезертировал из армии, убивал своих офицеров;
– те, кто продавал Россию;
– те, кто поддерживал коллективизацию, разгром религии, уничтожение всех социально неугодных…
– те, кто оправдывал все эти действия. Пожимали друг другу руку, надеясь на близкое освобождение;
– те, кто, вроде меня, рассматривал поведение распропагандированной солдатни и их вожаков в 1917 году как измену и предательство родины;
– те, кто весь последующий хаос и кошмар воспринимал как катастрофу;
– те, кто восхищался героическим Белым движением, несмотря на его ошибки;
– те, в ком закабаление деревни и уничтожение шестнадцати миллионов крестьян вызывали ярость и отвращение;
– те, кто всем сердцем сочувствовал жертвам непрерывно производимого уничтожения неугодных;
– те, кто хотел спасти свою страну, вырвать ее из дьявольских тисков, восстановить человеческую жизнь, вернуть свободы, которые в свое время никем не ценились, прекратить непрерывно продолжающийся массовый террор…
Я и мои единомышленники верили в освобождение. Никто из нас не мог допустить, что немцы явятся не как освободители, а как завоеватели. Последнее означало бы полное непонимание действительного положения в стране.
Не скрою, что некоторые зэки, побывавшие в Германии и прочитавшие «Майн кампф» Гитлера, предупреждали нас, что, судя по его программе, он может вполне сделать ставку на завоевание. Мы отвечали на это, что при учете реальной обстановки не все написанное должно исполниться.
Так или иначе, мое мышление инженера не могло довольствоваться такой простенькой верой. Времени хватало, и я занялся приведением в порядок своих взглядов в свете возможных неожиданностей. А именно:
– существование России окончилось в октябре 1917 года. Большевики никогда этого не скрывали. Страну немедленно переименовали в РСФСР, а позднее – в СССР. Исконно русское искоренялось и уничтожалось;
– вместо России стало логово политических бандитов, терзающих свои жертвы;
– новая Россия возникнет на острие штыков освободительных армий;
– режим насилия и массовых преступлений разделил население на «угнетателей» – исполнителей его акций – и «жертвы».
Количество первых измеряется миллионами, вторых – десятками миллионов. Первые – опора режима. Вторые используются для армии и прочих принудительных работ. Если армия крепкая, то «жертвы» при всем внутреннем нежелании будут тянуть ярмо и выполнять приказы. Если армия слабая, офицеры неопытные, дисциплина расшатана поражениями, то «жертвы» сумеют проявить свое истинное отношение к системе порабощения. При таком положении опорой армии и режима остаются «угнетатели», и их руками производятся все людоедские акции. Большинству «угнетателей» этот строй тоже опротивел, но он сумел втянуть их в свою орбиту, лапы у них в крови, перед каждым маячит расплата за содеянные преступления. Поэтому они будут сражаться за свою шкуру.
«Жертвы» при первом удобном случае будут сдаваться в плен. Из них немцы начнут формировать соединения добровольцев-борцов за освобождение России.
Мне и в голову тогда не приходило, что Гитлер начнет морить голодом наших пленных. Ведь я ждал от него разумных действий, а не безумия. Когда же осенью сорок первого до нас в лагерях дошли неопровержимые свидетельства этого и других преступлений Гитлера, то из возможного освободителя он превратился для нас в людоеда, никак не уступающего Сталину.
Мы поняли, что наша борьба осложнится: сначала требовалось свалить Сталина, а уж затем предстоит схватка с Гитлером.
Появление «злых фраеров»После начала войны я и трое моих друзей просидели в камере еще около полутора месяцев. Людей стремительно отправляли на этапы, которые теперь уходили по нескольку раз в неделю. В печах жгли документы, прогулочные дворики были засыпаны пеплом. Ждали резкого ухудшения питания.
Шестым чувством я понял, что в усиливающейся неразберихе нам не дождаться возможности попасть в специальное конструкторское бюро, но зато много шансов угодить в гибельный осенний этап. Поэтому мы стали требовать отправки в лагерь, мотивируя тем, что в нашем приговоре значилось отбывание в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ), а не в тюрьме. И вот, наконец, 13 августа 1941 года нас вызывают на этап и переводят в бывшую церковь, превращенную в огромную камеру. Кроме нашего брата – советских, там оказалось много поляков и латышей. Вскоре разнесся слух, что среди поляков – князь Сапега, один из богатейших магнатов Польши…
В специально приспособленном «столыпинском» пассажирском вагоне, куда нас набили, купе были превращены в клетки с зарешеченными дверями, выходящими в общий коридор. По существующим общегражданским нормам, в купе шесть лежачих мест, если принять в расчет самую верхнюю узкую третью полку для багажа. По этапным нормам (хотя здесь вряд ли вообще можно употребить слово норма), возникшим из опыта перевозок в периоды относительного затишья, в такой клетке-купе помещали голов пятнадцать зэков, поскольку их за людей не считали. Нас же, по причине войны, загнали в эти камеры по двадцать восемь человек. Весь этап, примерно в двести человек, разместили в одном вагоне. В назидание потомству стоит описать раскладку тел. На двух самых верхних нарах лежали валетом по два человека. На средних, превращенных в сплошные нары, – семь головой к двери и один у них в ногах, поперек. Под двумя нижними скамейками – по одному, а на них и на вещах в проходе сидели еще четырнадцать зэков. Ночью внизу все как-то сваливались вповалку. Арифметически это выглядело так: 2х2 + 7 + 1 + 2х1 + 14 = 28.
Рекордная скученность, жара, духота и возможность припасть лишь один раз в день к воде, налитой в общую грязную посуду, привели к тому, что у нескольких человек началась дизентерия. В условиях, когда на оправку выводили два раза в день, болезнь грозила стать повальным бедствием. Думаю, всё же, что это был какой-то другой понос, вызванный менее опасными микробами. Я сужу по тому, что никто из нас не заразился от инженера Смирнова с нижней полки, промучившегося всю дорогу.
Наслушавшись за четыре месяца пребывания в этапных камерах рассказов старых лагерников, мы составили верные правила поведения, которыми на первых порах и пользовались:
– держаться вместе, как говорится, все за одного, один за всех;
– не нападать на блатарей, но давать им решительный отпор;
– помогать тем, кто достоин помощи, то есть тем, кто способен на деле присоединиться к сопротивляющимся;
– не встревать в распри воров и «сук»;
– биться до конца за кровную пайку и т. д.
В первый же день этапа жизненность этих правил подтвердилась: наша четверка ворвалась в отведенную камеру и с ходу заняла лучшие средние нары. Одновременно мы помогли еще нескольким близким нам по духу людям занять лучшие места по соседству. Для блатарей осталось нижнее отделение. Их попытка взбунтоваться и занять наши места окончилась позорным провалом. Бунт был подавлен. Блатари, видимо, совершенно не ожидали столь слаженного дружного напора. К тому же, стратегические преимущества были целиком на нашей стороне. Блатарям нужно было лезть поодиночке, чтобы проникнуть на наш этаж. Мы же встречали их сообща, хватали каждого за голову, ударяли несколько раз о решетку и сбрасывали на груду тел.
Затем, сверху, наша четверка, дополняя друг друга, прочла им лекцию о том, что коль они посягнут на «кровный костыль», придется их как следует отлупить, так как царство блатных кончилось, в лагере мы будем хозяевами положения, а если нужно, сговоримся с «суками», и еще о многом в том же духе.
Конечно, то были скорее пустые угрозы, но успех главенства блатарей тоже в их криках, в умении брать на горло и действовать сообща. Во всяком случае, побежденные блатари больше никому не досаждали до конца пути.
Число дающих отпор блатарям, получивших от них же кличку «злых фраеров», значительно возросло через несколько лет.
Как барон Тильдебранд агитировал министра ЕжоваЕще в большой пересыльной камере наше внимание привлек сухощавый господин западного облика, что-то быстро рассказывающий своему слушателю.
Барон Гильдебранд, с которым мы познакомились, был родом из Прибалтики. Речь его была быстромётная, точная; движения – изящны. Он вернулся из Германии, и его рассказы о ее производственной мощи, организованности, порядке, дисциплине, о способности маленьких гражданских предприятий за 24 часа перестроиться на выпуск определенных, нужных для войны деталей были очень интересны. Они производили на нас должное впечатление.
Оказалось, что такими сведениями, но, конечно, гораздо более полными, барон в конце 1938 года снабдил гремевшего тогда Ежова, который был главным палачом страны и руководителем сети шпионов в иностранных государствах. Из доклада Гильдебранда Ежов понял лишь одно: в Германии все хорошо, в Советском Союзе все плохо, – и закричал на барона: «Ты что ж, твою мать… агитировать меня приехал?»
Примитивный ум оберпалача Ежова не удивителен. Странно другое: как немецкий барон с именем и традициями старинного рода, европейски образованный человек, мог попасть – да еще в самую кровавую, жуткую эпоху – в зависимое положение к сталинским сатрапам? Как мог он, располагая информацией тех лет, не понять, какому кровавому капищу, какому идолу он приносит самого себя в жертву?
Вероятно, дело не в сребрениках и не в расставленном силке, в который он попал… а в каком-то интеллигентском мираже, который засел в его скородумной и быстроговорящей голове…
Не удивительно, когда мало образованный в этих вопросах западный коммунист, принявший внутрь изрядную порцию пропаганды, верит наглой лжи, которую Советский Союз сам о себе распускает. Таким жертвам обмана особенно хочется помочь открыть глаза.
Но и им самим следует рекомендовать относиться более сдержанно к такого рода агитации и требовать доказательств.
Как бывший главный прокурор республики продолжал карабкаться по трупамИстошный крик прервал мои размышления: «Не слушайте его, он – фашист! Ведет фашистскую агитацию».
От соседей по «купе» мы узнали, что кричал Рогинский, бывший главный прокурор республики во времена Ежова. На совести этого чудовища лежали сотни тысяч расстрелянных с его санкции во время ежовской чистки. Инцидент произошел из-за рассказа барона Гильдебранда о Германии, который был подслушан сидевшим в соседнем купе Рогинским. Этот аспид решил, что если он посадит барона в тюремный изолятор, то сумеет снискать к себе благоволение начальства, и тем самым начнется его реабилитация в глазах Сталина. И злосчастный барон был дважды обвинен в агитации главными палачами сталинского режима. В первый же день по приезде в лагерь он исчез в лагерной тюрьме. Больше мы его не встретили. Там он и погиб.
Рогинского же нетрудно было обнаружить. Меня интересовала психология таких выродков. И я в тот же день легко нашел его, так как он стремился держаться на виду у начальства, жестикулировал, громко разговаривал, всячески выпячивая свое прошлое.
– Вы понимаете, – кричал он кому-то, – если мне, прокурору республики, дают десятый пункт, значит тем самым признают мою абсолютную невиновность, и вопрос моей реабилитации – дело ближайшего времени.
Горе тем, кто попал на лагпункт вместе с Рогинским. Он оставлял повсюду за собой кровавый след. В пасть Ваалу он сталкивал всех, на чьих костях мог выслужиться и вновь возвыситься.
Много позднее, уже в Москве, мне бросилась в глаза в отчетах о Нюрнбергском процессе фамилия Рогинского, который был назван рядом с генеральным прокурором СССР Руденко. Так, значит, это чудище выползло по трупам и снова заняло свое место у дымящегося кровью жертвенника?!
Мир за тюремной решеткой – зеркало советского обществаИногда удается сделать опережающий вывод, а потом в течение многих лет находить ему подтверждения.
Вполне естественно, что преступный блатной мир, в который нам предстояло окунуться, возбуждал в нас большой интерес. В тюрьме мы тщательно расспрашивали о его нравах и жадно слушали рассказы старых лагерников, привезенных на переследствие. Очень много узнал я от опытного вора-профессионала Варнакова, с которым около четырех месяцев сидел в Лефортовской тюрьме. Повадки блатных в вагоне служили иллюстрациями к его рассказам.
Еще до войны как бы пелена спала с моих глаз, и я понял, что Ленин просто скопировал свою «партию нового типа» с бандитских шаек, отличавшихся:
– беспрекословным подчинением решениям «пахана» (главаря);
– периодическими «чистками» в поисках нарушителей воровского закона в своих рядах;
– судами над провинившимися и кровавыми приговорами;
– античеловеческой моралью (хорошо лишь то, что хорошо для воров);
– противопоставлением воров «в законе» («людей», как они сами себя величают) «фраерам» (то есть массе, толпе, «мужикам»);
– отлучением тех, кто нарушил их единство, их волчьи законы, и стремлением уничтожить этих отщепенцев («сук»);
– особым языком, постоянными тайнами, презрением к остальному населению, которое для них лишь источник добывания жизненных благ.
После первых месяцев лагеря я пришел к окончательному выводу, что мир заключенных отображает советскую действительность; она же повторяет во многом жизнь за колючей проволокой. А именно:
– блатные взяли на себя роль компартии, а компартия играет роль шайки блатарей;
– наиболее свирепая часть блатарей несет обязанности чекистов, остальные подглядывают, доносят, ведут сыск. Их главари выполняют функции судей;
– «фраера», «мужики», «сидоры поликарповичи» – это рядовые беспартийные массы. И те и другие разрозненны, пугливы, трусливы, подлы, падки до слухов, не верят в свои силы;
– доносчики, предатели, сексоты, провокаторы кишат и в том, и в другом мире. Однако среди блатарей такая прослойка – и это говорит в их пользу – гораздо меньше, чем в коммунистической партии Советского Союза;
– заключенные берут всё, что можно пронести в зону или сожрать на месте, а на воле многие тащат с работы то, что плохо лежит… Слово «честность» исчезло, и нельзя винить за это людей, живущих в таком обществе;
– интеллигенция за решеткой и огромная часть интеллигенции «на свободе» ведут себя одинаково. Устремления первых к «досрочному освобождению», «кабинке» вместо общего барака, «прем-вознаграждению» и другим благам того же калибра напоминают жажду вторых к карьеризму, погоне за окладом, отдельной квартирой, диссертацией;
– мы же, «злые фраера», не желающие мириться с произволом и всегда дающие отпор бандитским поползновениям, представляли собой некое подобие диссидентов.
ЯзычникиЛежу на лучшем месте в «купе», на средних нарах возле стены, головой к решетке, а значит, и к окну. Рядом – верные друзья. Я сыт, здоров, не истощен: в торбочке еще бутырские припасы. Подо мной, внизу, сидит, скорчившись от поноса, измученный инженер Смирнов. Ему за пятьдесят. Видимо, он человек порядочный, но своим мы его не признаем, так как он всё время молчит, не высказывает мнений и не дает оценок происходящему. Следовало бы уступить ему место. Но искусственно нагнетаемое неуважение к общечеловеческой морали и здесь чинит препятствия, мешает взаимной помощи, всегда стремясь разъединить людей, что в большинстве случаев удается.
Дело не только в том, что в условиях заключения сталинских лет люди зверели, но и в том, что в самой обстановке таились самые неожиданные опасности. Поэтому тщательно обдумывались и взвешивались все нежелательные последствия любого поступка, который считался бы нормальным в нормальных условиях.
Помочь больному призывали полная надежды и любви к ближним заповедь христианского вероучения об искуплении своих грехов добрыми, угодными Богу, делами и следующие практические соображения:
– едем в страшное время в страшное место. Если сейчас не поможешь попавшему в беду, то не будет права просить других о помощи и принимать ее;
– почему я должен для себя требовать и добиваться лучшего положения до сравнению с остальными? Если я лучше других, то мне не нужны привилегии, а склонность к ним опровергает принятое допущение. Если же я хуже, то никакого права на лучшее не имею;
– пора изучать нравы блатарей; приучать себя к невзгодам и лишениям, а не укрываться от них; изучать лагерную речь, лагерную брань, ухватки…
И все это могло быть перечеркнуто из-за единственного подозрения, что поведение Смирнова неясно с позиции свободы слова, отстаиваемой в нашем содружестве. Однако именно эту опасность мне показалось необходимым использовать во имя общего блага. И когда мои друзья стали возражать, говоря: «Ну его к чёрту! Что-то он то ли хитрит, то ли страхуется, и тогда наши разговоры не для его ушей»… – я отпарировал: «Мы за последние четыре месяца так много разговаривали и слышали столько интересного, что слишком распустились. Поэтому крайне полезно перед приездом на место, где мы попадем в резко враждебную обстановку, вновь научиться управлять своим языком».
С общего согласия я спустился вниз, а больного положил на свое место. Внизу я попал в чужую среду: следовало помолчать и освоиться. Но мысли и без того были заняты. Я думал о том, как трудно в этой обстановке совершить добрый поступок даже человеку, считающему себя христианином, и насколько несравнимо труднее совершить его безбожнику.
Освоившись на нижней полке, где я сидел у самой двери, и досыта наслушавшись тамошних рассказчиков, я полегонечку начал и сам вступать в разговоры со своими новыми соседями. Рядом со мной оказался невзрачный зэк, который несколько раз в разговоре упомянул слово «Бог». Естественно, я заинтересовался и постепенно добрался до его кредо.
Много раз приходилось слышать от людей, вроде и верующих в Бога, перлы подобного рода: «Церковь не признаю; попов не перевариваю; у меня свое понимание Бога: Бог – это правда, Бог – это добро…, ритуальная и догматическая стороны не имеют значения…»
Такими фразами всегда стремятся оправдать свой отход от Церкви. Но тем самым связи с верующими разрываются, а в душу проникают соглашательство и трусость. Вера превращается в игрушку, в нечто необязательное. Рассуждают примерно так: пока я молод, обойдусь без неё, а с годами займусь ею как следует. Как будто человек знает, когда придет его конец… На этом фоне пышно расцветают сделки с совестью и самооправдание. Общение со священниками прекращается, проповедей и поучений не слышат, священное писание и книги духовного содержания в руки не берут, – а в СССР их и найти почти невозможно, – от таинств отстраняются, молиться перестают. И так гаснет вера.
С другой стороны, через сознание проходят потоки безбожной агитации. Матрицы мозга поневоле удерживают обрывки марксистского мусора.
Число подобных людей, к которым принадлежал и мой сосед, огромно в безбожной системе. Точнее всего к ним подходит слово «язычники», так как вынужденный отказ от Церкви и невежество в вопросах религии приводят к примитивизму, отступничеству и разъединению. А далее открыт путь к безбожию с его тоталитаризмом сталинского или гитлеровского образца…
«Благостный и святочный стражник-наставник»Новое для меня окружение вознаграждало общением с людьми, с которыми раньше встречаться не приходилось. Почти рядом со мной оказался бывший начальник милиции Горьковской области. Этот чернявый, крупный, гориллообразный милиционер при исполнении служебных обязанностей наверняка мог дико орать, отвратительно ругаться и прибегать к рукоприкладству… Иное было теперь. Слова отрешенного от должности «стражника-наставника» (по выражению поэта-песенника Александра Галича) плавно текли, журчали, как что-то «благостное и святочное»… Впрочем, это не удивительно, ибо ехал он в окружении воров, а к заполученному нами главенству относился, вероятно, скептически, так как позорное, трусливо-подлое поведение сидевших по «пятьдесят восьмой» было в те годы общеизвестно.
Он оказался разговорчив. Я задавал ему ряд вопросов и, в частности, меня интересовало, каким образом милиция раскрывает совершенные преступления и занимается ли она «делами» пострадавших частных граждан. Первое время он петлял и довольно искусно уходил от ответа. Но времени хватало и, попривыкнув, он счел возможным удовлетворить мою любознательность. Все его ответы сводились к универсальной формуле: действенное средство в руках милиции – сеть осведомителей как среди населения, так и среди самих воров. Без их информации милиция бессильна. Приемы современного Шерлока Холмса и научно обоснованного сыска слишком дороги, и отпущенные средства идут на тайную полицию. Там, где затронуты интересы государства, следствие не гнушается частично применять «ежовские» методы. Поисками преступников, от которых пострадали частные граждане, милиция занимается лишь при наличии информации, полученной по своим каналам.
Оснований сомневаться в правильности полученных сведений не было, и меня охватило чувство крайнего возмущения. Для решения простеньких задачек в вотчине Сталина пошли на внедрение щупалец сексотов в самую толщу народа, дополнительно разлагая, разобщая, загрязняя население. Как надо бояться и ненавидеть простых людей, чтобы реализовать всю эту гнусность!
На мой вопрос, как он поставит дело на лагпункте, если его назначат начальником комендатуры, он ответил, что тем более в лагере действенная сеть сексотов – единственная возможность вершить сыск, а также держать «урок» в повиновении.
В справедливости его слов мы получили позднее возможность убедиться.
Подолгу беседуя с ним, я понял цену его «благостности и святочности», в которые он вырядился специально для этапа. Я не сомневался, что устроившись в комендатуре, он сумеет проявить свои остальные способности – добиться пересмотра дела или прямого снятия судимости. Видимо, ему как-то на это уже намекнули, поэтому несколько раз в его голосе проскакивали уверенные нотки. Так, значит, я снова столкнулся с низостью безбожного мышления: простые люди – навоз, который можно топтать ради своего стремления выжить, выжить любой ценой.
Опытный «стражник» не ошибся в расчетах и методах, и в начале сорок второго я увидел его в числе освобожденных из лагеря.
Пока государство остается тоталитарным, и его полиция сохраняет свои особенности. В первую очередь она призвана охранять интересы государства, подавлять любое недовольство грубой силой, а жалобы населения обслуживает кое-как и в последнюю очередь.
Когда из заключения убегал «контрик» – объявлялся «всесоюзный розыск», когда убегал уголовник – ограничивались местными поисками, ибо первый был опасен для государства, а второй – лишь для населения и государство от этого не страдало.
Когда убивали милиционера или чекиста, на розыск кидали большие силы и обязательно находили виновника, если не действительного, то мнимого. Когда убивали кого-то из населения, следствие велось вяло, формально, безынициативно. Следователь стремился не к поискам виновного, а к скорейшему закрытию дела.
Я не могу в этой связи не рассказать о преступлении, совершенном уже в 1966 году в городе Дубна Московской области. 3 января утром десятилетний мальчик, приехавший с матерью на школьные каникулы, был сброшен в гостинице с четвертого этажа в пролет винтовой лестницы и скончался не приходя в сознание.
Обстоятельства убийства явно указывали на оказавшегося в той же гостинице только что вернувшегося из заключения бандита, которому беспечная администрация предоставила ночлег. Накануне, устроив пьяный дебош на этаже, он блатной руганью угрожал матери мальчика, пытавшейся его утихомирить.
Следствие по начатому уголовному делу безобразно задержали, вели крайне халатно, спустя рукава. Перепуганные свидетели плели околесицу и были озабочены только тем, как бы не впутать себя. По прошествии трех месяцев советник юстиции третьего ранга Белов, приехав к матери погибшего мальчика домой, потребовал её подписи – согласия закрыть дело на основании якобы того, что мать подозреваемого бандита сообщила, что он отправился путешествовать по Советскому Союзу. Объявить всесоюзный розыск убийцы советская прокуратура не сочла нужным. И здесь следователь рассуждал не как представитель власти, обязанный найти и наказать преступника, а как его пособник, заинтересованный, чтобы беглеца оставили в покое. Сказалось выработанное за годы тоталитаризма презрение к рядовым людям – тратить на них время и деньги не обязательно, достаточно выполнить необходимые формальности и закрыть дело.








