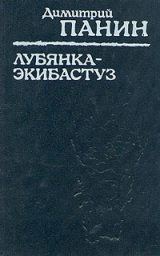
Текст книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Автор книги: Дмитрий Панин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
На пересылке скопились дивчины с Украины, где тогда был очередной голод. На вопрос «за что?» мы получали стандартный ответ: «за колоски». За сорванные на колхозном поле колосья их осуждали на десять лет. Нам было ясно, что как только их распихают по шахтам, они попадут в лапы блатарей и пройдут через все муки унижений.
Здесь же я встретил одного грузина. Он удивительно вольно разговаривал, хотя ясно было, что не провокатор и не стукач. Он сообщал мне такие неожиданные вещи, которые бросали только в лицо следователю, когда запираться уже нет никакого смысла, и сводишь счеты с властью, тем самым её обличая. В обычной обстановке об этом беседовали не с первым встречным, а когда были хорошо друг с другом знакомы. Особенно запомнились два его положения. Во-первых, он соединял христианство и демократию, доказывая необходимость совмещения в человеке обоих качеств. Во-вторых, он уверял, что Сталин – наше, российское, создание, и хотя он грузин по происхождению, Грузия его не признает, от него отказывается, а возвеличиваем его мы, русские. К грузинам у нас не может быть никаких претензий, сами во всем виноваты. Если бы мы, русские, были грузинами, то Сталин никогда не имел бы такой власти.
Во времена сталинизма такое открытое выступление, подобное вышеописанному, означало самоубийство. Чекисты обязательно сделали бы такого отчаянного человека главарем целой организации террористов. А это означало бы убийство еще нескольких неповинных людей и вполне возможную гибель его семьи.
К тому времени со мной произошла уже большая эволюция. Я, человек правдо– и вольнолюбивый, под влиянием непрерывной борьбы за жизнь в столь сверхтяжелых условиях как-то настолько припал к земле, в нее въелся, с ней сцепился, приспособил свой духовный и умственный склад к ежедневной схватке, что уподобился жителю первобытных джунглей, где каждый шорох предвещает смерть, гибель, чей-то прыжок. Так и тут, ты должен каждую минуту остерегаться лишнего слова, неверного движения, жеста. Тебя может продать, оклеветать человек, которому ты даже ничего не сказал. Любой материал принимался, все пускали в ход – ведь шло истребление людей. Естественно, что после того, как я прошел суровую семилетнюю школу лагерей, столь открытое выступление грузинского профессора показалось мне невероятным, – я не мог себе представить, что можно так вольно разговаривать.
Наша беседа была прервана довольно оригинальным способом. Один из нарядчиков с пересылки подошел к нему и сказал: «Хватит! Будешь еще разговаривать, в карцер посадим». Он стушевался, пошел в свой барак, лег на нары, и больше я его не видел. Видимо, перспектива побыть в карцере ему не улыбалась. Я же не имел возможности выяснить, как сложилась дальше его судьба. Через пересылки проходит много народа, пути заключенных расходятся, редко удается кого-нибудь потом встретить. Иногда, спустя много-много лет, что-нибудь о ком-нибудь узнаешь. Об этом грузине мне ничего больше услышать не удалось, но встреча с ним засела в моем сознании. Такая страшная обстановка и приспособление к ней приводят к появлению рабского комплекса. Одни становятся рабами, другие, покрепче, настолько изощряют свои мысли и чувства, боясь сказать лишнее, заронить в ком-либо подозрение, что теряют способность к свободному и открытому волеизъявлению. Но нужно ли так себя ломать? Не заявить ли просто, как этот грузинский профессор, о своих убеждениях, а там – будь, что будет?..
Грузины, которые чем-то перешли дорогу Сталину или Берии, истреблялись с полной беспощадностью на общих основаниях. В войну у нас на лагпункте было небольшое грузинское землячество. Его ядро состояло из бывших грузинских меньшевиков. Один из них, кладовщик мехмастерской Вашекидзе, мыкался по лагерям с 1924 года. В памяти моей они остались твердыми, мужественными, надежными людьми. Было в них что-то от рыцарства. «Моя честь это все, что у меня осталось?», сказал однажды Вашекидзе.
На лесоповалах, в мареве северных сияний, при страшных морозах, в глубинах шахт, на обледенелых заполярных стройках, на прокладке чудовищно ненужных дорог, изощрённая в страшных схватках мысль нащупывала методы борьбы с системой в этих, казалось бы, совершенно невозможных условиях. А через четыре года удалось так тряхнуть это рабовладение, что режиму от него пришлось отказаться, вернее, сильно сократить его масштабы.
Мой собеседник-грузин на пересылке опередил почти на пятнадцать лет средства своей эпохи. В тех условиях, он отважился высказать свои идеи и дать критику Сталина. Поэтому в моем сознании он представляется предтечей открытых борцов за демократию шестидесятых годов, провозгласивших стремление к свободе и элементарным демократическим формам жизни.
В шестидесятые годы, когда сам режим в лице своей высшей инстанции осудил Сталина, хотя традиции сталинизма продолжают жить и поныне, произошел прорыв полувекового молчания. Первым героем этого прорыва был, конечно, А. Солженицын.
Прекрасно, что есть такие люди, но в условиях диктатуры партийной олигархии средства внешнего прорыва должны не заменять, а отражать глубинную работу, ведущуюся в недрах общества.
Снова на Кировской пересылкеЯ снова попал на Кировскую пересылку, где уже останавливался на пути в Воркуту. Там недавно попытались разделить заключенных. Дело в том, что с окончанием войны и без того большой поток их резко увеличился. Теперь он состоял, в основном, из бывших военных. Многие из них прошли штрафные батальоны, ходили в разведку боем, участвовали в рукопашных схватках… Некоторые советские вояки осатанели от позорной сталинской амнистии 1945 года, когда выпустили всех дезертиров, а их, попавших в плен, в окружение, или посаженных за какую-то вражескую листовку, гнали в лагеря. До указа об отмене смертной казни им давали 10 лет, после отмены стали лепить 25. Этапировали их в лагеря вперемешку с блатными и бытовиками. Стихийно или, может быть, по какому-то сговору ребята сообразили такую шутку. Парень со сроком «25» осторожненько узнает, у кого осталось мало лет до конца срока. Затем подсаживается к «малолетке», выспрашивает его установочные данные, то есть фамилию, имя, год рождения, статью, срок, или запоминает их на перекличке. Далее зорко следит за дверью, и во время вызова на этап, когда слышит фамилию, которую решил присвоить, быстро проговаривает все полученные сведения и уезжает вместо разини. Это явление достигло гомерических размеров. В камерах оказались люди с маленькими сроками, а в конторе пересылки – чужие формуляры тех, кто имел 10 и 25 лет. И теперь, когда на этап вызывали «тяжеловесов», никто не откликался. Потребовалось несколько месяцев пока навели порядок, но под «шум волны», вероятно, несколько десятков, а может и сотен, дошлых вояк все же успело выскочить на волю. Даже я, у кого оставалось впереди целых шесть лет, был осторожен.
В результате этого тюремного бедствия начальство решило разделить потоки. Сделано это было достаточно халтурно, так как этапировались по-старому все вместе, но на пересылке сортировали по отдельным камерам. Контрики количественно резко преобладали, поэтому в их камеры втискивали сверх всякой меры. Человек лежал на человеке. Днем каждый сидел на полу, на своем мешочке, а ночью, так как деваться было некуда, ложились просто один на другого, и ноги оказывались на голове у соседей. Пройти к параше было невозможно, приходилось шагать по людям. Жара была дикая. Сидели раздетые, потные. Приносили только кипяток, и от него становилось еще жарче. Помню, что когда нас выводили на оправку, мы жадно набрасывались на холодную воду в умывальнике, и думали только о том, чтобы скорей напиться.
Известно, что в камере существует какая-то очередность, когда вновь прибывший постепенно перемещается от параши к окну или к нарам, где можно лечь. Зная эти порядки, я ни на что не претендовал и расположился у параши. Ночь прошла тяжело; воняло и часто будили.
Перед отправкой с меня сняли более или менее щегольскую робу и выдали одежку двадцать первого срока: живописный латаный-перелатанный бушлат, старые стеганые брюки, фуражку, которая на обысках выдавала свои дары – кусочки бритв, ножей, спичек, зашитые в нее целым поколением блатарей. На моей рубашке, на груди и спине были цифры, чтобы не перепутать белье в бане. Номера носили также каторжники, которые были на некоторых лагпунктах Воркуты, и поэтому я, в своей живописной одежде, был принят за одного из них. К тому же, на груди у меня висел крест. Новички, которые в лагерях еще не были, решили, что я какой-то страшный бандит, из тех, кто часто украшает грудь крестами – не во имя религии, а по какой-то языческой страсти, из стремления себя разукрасить, выделить. К тому же, на этот раз я был в хорошей форме и даже загорел под скупым солнцем Крайнего Севера. Во всяком случае, моя наружность говорила о том, что я старый лагерник, прошедший огонь и воду и медные трубы, и держался я соответственно.
Смотрю: к двери, около которой я находился, подходит староста. Верней, не подходит, – пройти было невозможно, – а пробирается. Был он не из новичков и, увидя мои доспехи и внешность ветерана, сказал: «Ты чего здесь остался? Давай, иди на нары. Ведь оттуда ушел человек». Я это тоже заметил. В пересылке к нашей группе воркутян присоединили с другого этапа молодого латыша. Но, вместо того, чтобы ночь провести рядом со мной, он куда-то исчез. И вдруг вижу, что этот новичок уже лежит на нарах, а я – ветеран – провел отвратительную ночь. Я всегда согласен был подчиняться законам, которые одинаковы для всех, но счел неверным, что привилегии дают молодому здоровому парню. «Что ж, староста, у тебя порядки такие?» – спросил я, присовокупив для полновесности соответствующую ругань. К этому времени я уже отучился от нормальной речи, находясь все время в смешанной зэковской среде, и не обходился без блатных оборотов. «Порядок – порядок, а беспорядок – беспорядок». Староста был не против. «Человек ушел, можешь занять его место».
Пожалуй, я даже не пошел бы, это не в моем характере. Не люблю лезть, нарываться. Но я понял, что латыши пригласили к себе этого малого и посадили у себя в ногах. Утром, когда человека с нар взяли на этап, они положили его туда. По справедливости это место следовало занять тому, кто уже полтора месяца не спит по-человечески и чей черед настал. Моя решимость еще не созрела; думаю и пока что продолжаю разговор:
– Почему у вас не выполняются правила?
– Да там какие-то «мужики» сидят.
– Ну, они мужики, им, может, хорошо в углу и нравится на полу, а мне нет. Я с этим малым приехал, а он уже лежит там. Если у вас нет твердого порядка в камере, считаю, что это мое место.
Староста был парень, видно, не очень инициативный: «Ладно, я не против. Иди, ложись, если можешь», – сказал он.
Настроение у меня было воинственное. С бравым видом продираюсь к ним и говорю этому малому: «Давай, слезай! Это мое место». Сперва, конечно, спросил мужиков: «Не хотите здесь лечь? Вам что, хорошо на полу?». Они молчат. Латыши же были из национальной дивизии «СС». Парни белокурые, здоровые, в шрамах. Видимо, это и остановило очередников; боялись с ними связываться. Тогда я сказал парню: «Скидайся-ка отсюда! Ты со мной приехал, лагеря еще не нюхал». И положил свои пожитки на это место. Смотрю, парни приподнялись и ощетинились. Каждый из них наверное был сильней меня. Они были не истощенные, их только везли на правеж, и я понял, что без драки ничего не выйдет. Мне, собственно, терять было нечего; развернулся – дал одному, дал другому. Думал, они меня просто сотрут в порошок. Ничего подобного. Они даже боятся ударить. Ах, боитесь ударить! Ну, тут я уже дал как следует по зубам. Вижу, сопротивление прекратилось, парень уползает на свое место, а я ложусь на нары. Победа была одержана очень просто и без каких бы то ни было кровопролитий.
Об этом случае не стоило бы рассказывать, если бы он не имел продолжения. Изложу свои соображения о причинах легкости одержанной мной победы. «СС» на нарах было слишком много, теснота им мешала, они стояли вплотную друг к другу, на коленях, размахнуться не могли, а только тыкали руками. Столкновение разыгралось сразу же после оправки, когда большинство еще не уселось на пол. Возле нар было относительно свободно, и у меня оставалась возможность двигаться и как-то маневрировать. Если бы двое «СС» слезли с нар, то одержали бы надо мной победу. Но, возможно, они боялись, что меня поддержат сокамерники, а также предполагали, что в голенище сапога у меня нож и что я владею страшными блатными приемами близкого боя, когда, сближаясь почти вплотную, бьют в подбородок или лицо противника маковкой своего черепа, превращая их в кровавую массу…
Я лежал на своем месте, мысленно восстанавливая картину столкновения, и стремился найти изъян в своем поведении. При хладнокровном рассуждении он немедленно обнаружился. Изложенные выше соображения моих действий были по-лагерному просты и вполне понятны. Особенно придраться в тех условиях было не к чему. Но тут меня как стукнуло. Я вспомнил седого, как лунь, семидесятилетнего старика немца, сидевшего около бака с кипятком, привстал и посмотрел на чистые изможденные черты его красивого лица. Он находился как бы в полузабытьи, сил не было, дни его были сочтены… «Вот, – сказал я себе, – пойди, положи его на свое место и сделаешь доброе дело. Этим загладишь свое поведение, ибо ты начал как поборник справедливости, а окончил как лагерный пес, отлаявший себе местечко получше». Я стал размышлять о возможности исполнить мелькнувшее намерение. Нереальность его осуществления проявилась сразу. В камере этот зэк недавно, поскольку сидел у стены с входной дверью. Отношение к немцам тогда уже значительно смягчилось, но все же из «фрицев» они не вылезали. Ослабленные люди были и кроме него и могли загалдеть, закричать, что пришли в камеру раньше, или что-либо в этом роде. Все это еще можно было превозмочь… Но размышления были прерваны: я почувствовал, что мое тело начинают все больше и больше сдавливать с обеих сторон. Оказывается, соседи по нарам решили дать мне реванш, для чего, по сигналу, все напряглись и продвинулись в моем направлении. Я не стал дожидаться конца сеанса и, ни слова не говоря, двинул сапогом по голым ногам своих соседей, так как не разулся, не ощутив еще прочности завоеванного положения. Они перекинулись на своем языке, раздвинулись и больше ко мне не приставали. Положи я сюда старика-немца, он сразу заохал бы и запросился обратно к стенке. Видимо, поэтому очередники не стремились занять освободившееся место на этих нарах: наверное, кто-то из них уже попробовал. «СС» зря переносили ненависть к советскому государству на зэков. Так поступать не следовало.
Князь Святополк-МирскийСлучай слегка загладить свое поведение представился мне уже через сутки. Вечером в нашу переполненную камеру, когда стемнело, а свет не зажгли – видно, была какая-то неисправность, – втолкнули всё же еще человек пять. Только что приехал этап из Москвы. И вот, в темноте раздается хороший чистый русский голос, и кто-то спрашивает, не хочет ли честная компания его послушать. Рассказы любят все, начиная от блатарей и кончая высокообразованными людьми. Когда человек сидит в тюрьме, у него появляется жажда впечатлений, и хороший рассказчик – всегда лучший друг. «Романиста» сразу препроводили в центр камеры, там уж потеснились, как могли, и начались дивные повествования. Мы, лагерники, – озверелые, грубые, в нашей интонации бесчеловечные нотки, бесшабашность какая-то. Один перед другим выхвалялся. А в таких старых зэков, как я, это въелось, стало второй натурой, по крайней мере, во внешних проявлениях. У него же был совершенно не наш голос. Он был человеком из другого мира. Таких людей я потом, по приезде на Запад, встретил в Риме. Мне он казался ангелоподобным. Князь Свято-полк-Мирский не скрывал, кто он. Подцепили его где-то в Польше. С белыми эмигрантами расправа была короткая, и хотя во время гражданской войны он был еще мальчиком и участия в ней не принимал, достаточно было одного его происхождения для отправки на Воркуту.
Князь оказался интереснейшим человеком. Мы добрых полночи не спали и слушали его, как завороженные. Особенно мне понравился его рассказ об Америке. В двадцатые годы, еще совсем молодым, он отправляется туда, и его принимают очень приветливо. Американки по нему с ума сходят. Если ему верить, то каждая третья американка – привлекательна, каждая четвертая – просто хорошенькая, каждая пятая – красавица. Словом, это было яркое, здоровое, жизнерадостное сказочное королевство. Он спел хвалу американской женщине.
Он поведал нам и о других своих похождениях. Для меня это было просто духовное пиршество, от которого мы уже все давно отвыкли.
Передо мной был принц из книг моего детства. Ему было лет тридцать пять. Роста он был хорошего. От природы бледноватое лицо было теперь мертвенным, истощенным, изможденным. Несмотря на короткую стрижку, можно было различить цвет светло-русых волос. Его голубые большие глаза были прекрасны. Кажется, что-то у него было с ногой – то ли она у него болела, то ли он хромал.
Описал он и Польшу времен истребления евреев гитлеровцами. Он сумел кого-то спрятать и защитить, а когда пришли красные, его тоже укрыли оставшиеся в живых евреи. Одним словом, он был настоящий аристократ духа – по своей сущности, а не только благодаря титулу.
Я отнесся к нему с большим сочувствием. Сначала я не мог понять, почему он также потянулся ко мне и как-то меня пожалел. Оказывается, он, как и другие, решил, что я каторжник; его сбили с толку мои номера. Я объяснил ему, что номера банные. Мы посмеялись, а через несколько минут меня и еще нескольких заключенных выдернули на этап. Пока одевался, сообразил, что положить на свое место князя вполне реально: во-первых, «романист», во-вторых, нога больная. Обрядившись, я тут же безапелляционно предложил это сделать. Возражений не последовало. Помог князю перебраться, попрощался.
Жалость князя меня слегка развеселила. В набитой битком камере на меня её следовало расточать в последнюю очередь. Я был «на коне»:
огромный лагерный опыт, нужная в этих условиях специальность, умение работать в обстановке «доходиловки», возможная передышка впереди, а, главное, крепкая вера в Бога и потому неисчерпаемая бодрость духа… Но я смотрел с какой-то скорбью на тех, кто, по-моему, не мог долго вытянуть в гиблых местах, куда они могли попасть, и в первую очередь с болью в сердце подумал о князе. Мир их праху!
«Григорий Грязнов»Из Кировской пересыльной тюрьмы нас привезли в «черном вороне» к железнодорожному составу и посадили в столыпинский вагон. Поток заключенных двигался в лагеря на север и восток страны. В обратном направлении к Москве везли лань на переследствие, для того, чтобы использовать по специальности или заменить лагерь тюрьмой… Поэтому в «купе» было всего человек десять. Мы ехали и блаженствовали, так как не сидели на голове друг у друга. Народ подобрался занятный, разговоров хватало.
Во всей нашей компании только один казак-кубанец, который без конца рассказывал о своих охотничьих и военных похождениях, вякал что-то в защиту власти. При содействии других, помогавших и вторивших мне, попутчиков я стремился докопаться до корня его настроений, приводил множество доводов. Он немедленно соглашался, но через пару часов его мозги возвращались в исходное состояние. Вскоре причина аномалии стала мне ясна. Он принадлежал к разряду расплодившихся в безбожном силовом поле людей, думающих только о себе и плюющих на всех остальных. Принадлежал он к семье казаков, которые поддерживали советскую власть во время гражданской войны и благодаря этому были оставлены на Кубани. Отец его был председателем показательного колхоза, и в целях пропаганды райком не обдирал их как липку, оставляя на трудодни достаточно для пропитания. Кроме того, так как сынку не обязательно было целый день вкалывать, он вовсю пользовался богатствами своего края: охотился в плавнях на кабанов, подстреливал фазанов, уезжал на рыбалку. Семья, в сравнении с другими, жила до какого-то времени в достатке, но раскулачивание и непрерывные репрессии не обошли и её, и большая часть его родни погибла. Ему же важно было, что он сам уцелел…
Я понял, кто он, довольно быстро, и мне стало противно: «Ты живешь приятными воспоминаниями и пока что лагеря не вкусил, – сказал я ему, – так как из дому получаешь посылки с салом в пять пальцев толщиной. Сейчас ты едешь за новым, на сей раз двадцатипятилетним, сроком. Вот, попробуешь других лагерей, тогда вспомнишь наши разговоры. А славословием ты занимаешься в надежде, что это тебе как-то поможет на новом следствии. Мечты твои тщетны. Двадцать пять лет уже выписаны, и ты получишь их, невзирая на просоветские настроения. Трибуналу же будь благодарен: он делает все, чтоб ты поумнел».
Я был врагом ненавистного мне режима, поэтому непорядки и притеснения были для меня обязательными его атрибутами. В препирательства с лагерным начальством и конвоем я вступал в редких, из ряда вон выходящих случаях дикого произвола. Обычно же мы посмеивались, повторяя за Максом Бородянским: «Все нормально!» Но люди, считавшие себя советскими, находили тысячу поводов для столкновений. Вскоре, во время вечерней оправки, наш кубанец «завелся», надерзил конвоиру и был посажен в карцер, где на него надели специальные наручники да хорошенько избили. Применяемые тогда наручники перещелкивались от малейшего движения, затрудняя кровообращение и вызывая сильную боль, и кубанец дико орал. Такая расправа служила лучшим лекарством и содействовала прозрению.
Во время путешествия я чувствовал себя крайне уверенно, держался воинственно, открыто верховодил, ибо понял, что этапы и пересылки – места безбоязненного обмена мнениями, где риск, что тебя продаст стукач, невелик, поскольку в такой обстановке последний лишен защиты и старается, чтобы никто не догадался об его тайной профессии.
В ходе наших разоблачительных речей бледный, чахоточного вида армянин, до той поры молчавший, вдруг как бы с цепи сорвался. С южной горячностью, быстро тараторя, он выплеснул, что среди чекистов есть замечательные люди. «После моего ареста на полное содержание мою жену и двух детей взял её брат, крупный чекист, и она даже имеет возможность высылать мне иногда посылки». Подобная ситуация была еще возможна в Армении или Грузии, у народов в прошлом крепко сплоченных.
«Но вы ведь знаете, что ваш случай исключительный, а на моей памяти единственный, – отпарировал я. – У нас одна цель – установление правды. Насилие, угнетение и террор нужны тем, кто идет против истины, разума и глубинных законов жизни. Мстить мы никому не собираемся и не будем. Я человек верующий и твердо знаю, что расправа за содеянное будет на том свете, где каждый получит по заслугам. Перевесит ли доброе дело твоего зятя все зло, которое он вершил на „работе“? Сие нам не известно. Но в своей оценке ты должен учитывать обе стороны деятельности человека».
Запомнился и здоровенный, мордастый парень родом со Смоленщины. Он провоевал года два и, вернувшись, не пригласил на попойку районного прокурора, своего соседа. Вскоре он совершил ничтожный проступок и, по злобе, сводя личные счеты, на него завели уголовное дело. Тогда он уехал на Воркуту, к брату, начальнику охраны лагеря. История последнего, в свою очередь, типична для людей такого рода. Он провоевал всю войну, дослужился до погон, был увешан орденами и пожил года полтора в Германии на правах оккупанта. Здесь он вкусил прелесть настоящих сигар, виски, французского шампанского и награбленное у немецкого населения отправлял домой в меру своих способностей и чина. К сожалению, подоспело время его демобилизации. На родине был голод, незыблемые колхозы, раздетые люди, многие из которых жили в землянках… Работать он отвык, да и профессии по возрасту приобрести до войны не успел. И пришлось принять предложение отправиться в Хановей, маленькую одинокую железнодорожную станцию, – ворота в бассейн Воркуты. Там были только лагерь, охрана, да дули ветры, которыми славилось это место. В темное, непроглядное время оставалось одно – пить спирт. В простоте душевной наш спутник рассказывал, как его допившийся до чертиков братец в мороз и пургу выскакивал раздетый из избушки на двор, палил из автомата в северный сполох, ругал в крест, в мать свою прошитую рабью жизнь, бушевал дома, бил, что попадало под руку, и, обессиленный, сваливался тяжелом пьяном сне. Вот – через пару месяцев парня нашли и прислали ордер на арест, то брат посадил брата в изолятор, а оттуда передал его конвою для препровождения в тюрьму по месту жительства, где должны были устроить судебную расправу.
Как бы высеченное из каменной глыбы, нерусское лицо крупного широкоплечего шведа, добровольца финской армии, притягивало к себе. После окончания второй мировой войны его арестовали на улице в Гельсингфорсе советские автоматчики, а финская полиция почему-то не вмешалась.
Он получал от родных из Швеции прекрасные посылки и поэтому имел справный вид в иноземной одежде военного образца. Ехал он во Владимирскую тюрьму из лагеря Инты, расположенной южнее Воркуты. Он развязал свой мешок, вынул оттуда яства и преспокойно стал грызть вкусные вещи, после того как вместе с нами съел казенную пайку. Мы были поражены, так как хотя и не существует твердых правил на этот счет, но любой из нас на его месте роздал бы остальным по одному печеньицу или по галете на троих… Все находились в состоянии вечных недостач, хотя голода в ту пору не было, и такой жест был бы воспринят с чувством живой благодарности, а авторитет его бы поднялся. А так – много косых взглядов было брошено. Обидно было, что герой, доброволец, твердый мужественный человек, пример доблести для любого из нас, оставил тяжелое впечатление. Когда потом мы шли с ним рядом по улице до горьковской пересылки, я объяснил ему на русском языке, так как он без затруднений его понимал, что зря он так обидел своих спутников. «Если бы в купе были блатные, вы остались бы без мешка и хорошей одежды. В нашей компании вам было неплохо. Как же вы добровольно жертвовали жизнью, спасая других, а тут не догадались подарить людям десяток крохотных сластей?!»
Размышляя по этому поводу, я вспомнил и понял простую евангельскую истину:
– Будь ты безмерно хорош, но если нет в тебе любви к людям, то нет в том для тебя пользы истинной.
– Если ты пошел помогать людям из высоких побуждений долга и покрыл себя славой и доблестью, честь тебе и хвала.
– Но если ты сделал то же самое, движимый любовью и жалостью к людям, когда они в смертельной беде, да будет жертва твоя трижды благословенна во имя Господне. Ведь этим ты создаешь фундамент всемирного человеческого братства. И хотя ты не всегда будешь чувствовать любовь даже к достойным людям, встречающимся на твоем пути, но всегда сможешь отнестись к ним как если бы уже их полюбил. А из таких действий твоих иногда возникнут ростки любви – сначала односторонней, а потом, возможно, и обоюдной.
Выгрузили нас из вагона у моста через железнодорожные пути. Для конвоя хуже места не придумаешь: бесконечный поток пешеходов, все глазеют. Какая-то тетушка в платке и допотопном салопе остановилась на ступеньках почти над нашими головами и давай причитать: «И куда же их, касатиков, гонят! Да какие ж все худые!..» Мы. как положено в таких случаях, сидели на своих вещичках, швед подле меня; на него особенно обращают внимание. Начальник конвоя, лейтенант, русский малый, нервничает, стыдится своей работенки. По-волжски окая, он гонит набожную старушку: «Иди, иди, проходи, здесь стоять нельзя. Зря не сажают. За хорошие дела сюда не попадают, значит, разбойничали». Мы посмеиваемся, из задних рядов доносится: «Смотри, завтра сам к нам попадешь. Не зарекайся». Лейтенант отлучился куда-то, все томятся. Наконец, раздается: «По пятеркам разобраться. Шаг вправо, шаг влево рассматривается как побег. Конвой применяет оружие без предупреждения». Следуют другие угрозы и заключительное: «Марш!»… Время самое людное, улицы полны народу. Большинство проходит мимо, но кто-то останавливается и сочувственно смотрит на шествие. Нас ведут по мостовой конвоиры, все, как один, киргизы и узбеки. Они взяли наперевес карабины с примкнутыми штыками и злятся.
Вот мы поравнялись со светло-русым двадцатипятилетним парнем с открытым красивым лицом. Голубые глаза полны симпатии и жалости. Как не узнать Григория Грязнова? – поется в русской опере, которую часто передавали по радио. Передо мной и впрямь был оживший удалый добрый молодец, символ великорусов. Не дойдя нескольких шагов до нас с шведом, он бросил в колонну заключенных пачку папирос. Конвоир кричит, ругается, трясет штыком перед его животом. «Григорий» и в ус не дует, зэки подымают пачку. Его рослая фигура закрывала собой такую же русую, как и он, голубоглазую прелестную девушку. Вслед за братом или мужем она кинула булочку четырнадцатилетнему мальчику в наших рядах. Опять переполох, замешательство: парнишка кинулся подбирать хлеб. Родными и близкими были мне юноша и девушка. Они принадлежали к породе, которую все годы этого кошмара безжалостно искореняли.
В приемных камерах горьковской пересылки была страшная теснота. До нас уже там находились два этапа и мальчики от двенадцати до шестнадцати лет, собранные из разных камер предварительного заключения всей Горьковской области с целью их водворения в какую-то колонию для малолетних преступников. У большинства ребятишек вид был смышленый и отнюдь не испуганный: видно, тюрьма для них стала чем-то привычным. Но некоторые из них были оглушены тем, что с ними произошло. Неподалеку от меня лежал бледный, как бумага, мальчонка с виду лет десяти, не больше. Его рвало, он тихонько стонал, иногда звал маму. «Вызовите врача!», – крикнул я тем, кто был ближе к выходу. За дверью что-то буркнули, но никто не появился. Тогда я пробрался через тела и стал барабанить. Женщина-надзиратель, которой перевалило за пятьдесят, отговаривалась тем, что уже поздно, врача нет. «В санчасть возьмите, хоть чем-то помочь сумеют, а здесь он умрет». В ответ – молчание, видимо, она ушла. Я снова требовать, пока она не подошла к волчку. И тогда – в голос, по-блатному, благо вид у меня был подходящий: «Слушай, тетя, что ж вы творите-то? Ладно. мы взрослые, но вы детей убиваете. Где только зверюг таких находят? Ты думаешь… с тобой ничего не случится?» Через пару минут нам крикнули: «Давайте больного!», и мы его вытащили в коридор.








