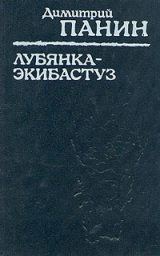
Текст книги "Лубянка — Экибастуз. Лагерные записки"
Автор книги: Дмитрий Панин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Год спустя, уже в лагерной тюрьме, я встретился с беглецом, о котором следует рассказать особо. Он бежал по нашему маршруту летом 1943 года, но не с центрального, а с крайне удаленного лагпункта. Подготовлен он был гораздо хуже нас, пропуска не имел, но добрался до реки Вятки, затем вниз по ее течению – до Волги, оттуда – до Сталинграда, и при этом большой кусок пути прошел один на лодке. Кормился он, главным образом, у бакенщиков и воровством с огородов. Под Сталинградом он смешался с воинской частью и вполне прижился в ней, как вдруг начальнику политотдела, то есть армейскому чекисту, что-то в его бумажках показалось подозрительным. Его допросили в СМЕРШе, снова посадили, вернули в лагерь, в изолятор, и он получил новые десять лет. Был он, как будто, из лесников, и чувствовалось, что прекрасно знает и понимает природу. Рослый, жилистый, очень выносливый, он имел неоценимое преимущество перед нами: стёртое, обыкновенное, неприметное российское лицо. Следовало бы для характеристики необычного в ту эпоху сохранить его имя или фамилию, но я, к сожалению, не могу их вспомнить.
В сорок третьем – сорок четвертом я провел одиннадцать месяцев в изоляторе и тесно соприкасался там с вереницей беглецов. Сравнительно огромное число их в тот год, неподготовленность большинства к побегу и желание многих просто использовать неудачу для отправки в Кировскую тюрьму, а оттуда в какой-либо другой лагерь, говорили о неослабевающем в то время терроре чекистов и убийственных условиях существования. Почти все беглецы были пойманы в первый же лень, так как не были столь тщательно подготовлены и не обладали чувством природы. Это были обыкновенные ребята. С самого начала они совершили много промахов. Так, один из них, бывший военный летчик, «Алексей человек Божий», как он себя почему-то часто величал, напоролся на вахту восьмого лагпункта, прямо выйдя из леса. Они не понимали, что тайга без компаса означает голодную смерть. Летом 1942 года заблудились два мальчика лет по пятнадцати, родители которых были вольнонаёмными в «соцгородке». Их попробовали искать, но безуспешно. Тогда, видно, для очистки совести, котельной лесозавода приказали включить гудок, и он ревел непрерывно более двух недель. Детей так и не нашли. Следовательно, они не наткнулись ни на одну из троп, которые вывели бы их к «соцгороду», к одному из лагпунктов или к заставам оперативников. Скорее всего, они либо утонули в болоте, либо провалились в трясину, обессиленные от голода… Тайга – страшное место и шутить с ней невозможно. Для побега необходимо было одно из трех: хорошая подготовка, развитое шестое чувство восприятия природы, большой опыт и знание лесов…
В лагере упорно передавался рассказ (который многие воспринимали как легенду), что по лесу бродит шайка заключенных – пропавшая целиком бригада, разоружившая стрелка. Говорили, что это латыши. Мне же на ум пришли кубанцы, которые обживали сибирскую тайгу и, благодаря этому, стали многоопытны и великолепно приспособлены. В мирное время их обязательно выловили бы, но в условиях войны чекистам на такую операцию явно не хватало сил.
Среди беглецов был один парень, которого постигла неудача по стечению обстоятельств: его «след» быстро взяла собака. Он был совершенно исключительно приспособлен к лесной жизни. Это был человек-волк – и по своему отношению к жизни, и по хватке, и по обостренности инстинктов. Кстати, и глаза у него были какие-то желтые, волчьи. Я думаю, что он мог дать немало очков вперед гамсуновскому лейтенанту Глану, олицетворявшему бога лесов Пана. Северный красавец со звериными глазами меньше походил на древнегреческого Пана, чем он. К своей неудаче он относился с усмешкой: мол, и на старуху бывает проруха. Он твердо был уверен, что весной его в лагере уже не будет: освободит, как говорили, «зеленый прокурор». Он считал, что это дело решённое и не скрывал своих планов. Я невольно разделял его убежденность.
Полной его противоположностью был бывший заведующий магазином, человек городской, страшно болтливый и крайне нервный. Его побег был настолько необычен, что именно этим он и сбил с толку искавших его оперативников. Не сворачивая в лес. он попёр прямо по дороге, которая привела его в деревню. Там на него никто не обратил внимания. Одеты тогда все были ужасно: в лагерных телогрейках и бушлатах ходили многие и в городах, не говоря об окрестных деревнях. Минуя лагпункты, он в открытую переходил из деревни в деревню. Так длилось около недели. Подвел его призывной возраст, и после проверки документов он был водворен в лагерь.
Запомнился также инженер с военного завода посадки зимы сорок второго – сорок третьего гола. Такими я представлял себе белых юнкеров. Он был хорошего роста, крепкого телосложения, необычайно широкоплеч, с правильными чертами открытого лица, светлыми глазами и волосами. Что-то почудилось мне родственное в наших намерениях. Но он находился очень недолго в камере, где была «наседка», стерёгшая каждое мое слово, так как шло следствие, и откровенно поговорить с ним не удалось. Против его побега было всё, кроме его мужества и воли. Он служил живым укором для меня, убежденного врага этой системы, волей обстоятельств наладившего ей военное производство, которое обеспечило выпуск нескольких десятков тысяч хвостовиков сухопутных мин.
Опасная болтовняВ своей ненависти к режиму я был достаточно последователен. Побег сорвался. Я стал писать заявления об отправке в штрафной батальон. Со штрафниками было даже удобней остаться за линией фронта, ибо. как правило, их бросали в самое пекло. Кроме того, я вполне уже уразумел, что смерть от горячей пули куда милостивее, чем то, что нас ожидало. За полгода я написал пять заявлений, но ни разу не получил ответа. Сердце наполнялось горечью.
После того, как я сформулировал свои выводы, мне стало ясно, что без толчка, без минимальной помощи извне громада лагерей своего слова не скажет. Пока что я довольствовался проверкой нашей готовности к активным действиям и слегка способствовал возникновению и поддержанию таких настроений.
К тому времени я прекрасно понял, что обществом движут единицы. В первый год войны мы убедились в этом и на собственном примере. Наша пятерка в мастерской держалась очень скромно, проявляла себя в силу острой необходимости и почти исключительно в рамках деловых требований. У каждого из нас было по нескольку близких людей среди работяг, но никакой агитацией мы не занимались. Нам было ясно, что когда настанет момент действовать, люди пойдут за нами. И по какой-то странности это знали не только работяги, но и соприкасавшиеся с нами вольнонаёмные, охранники и ближайшее начальство. На нас смотрели как на будущих вождей, как на людей, которые сразу возьмут власть в свои руки. Это было крайне опасно, так как в отношении к нам сквозила некая просительность, стремление словесно оправдать свое служебное положение, свою симпатию к заключённым. Забавно было даже наблюдать колебание этих настроений в зависимости от содержания сводок с фронтов… Пока что никакой особой подготовки к активным действиям мы вести не могли. На данном этапе достаточно было следить за состоянием умов ведущей части заключенных. Не раз приходилось слышать мнение, что люди дела не разговаривают, а действуют. В отношении простейших, заранее решенных проявлений это верно. Но в области неведомого – всюду, где требуется хорошо продумать свое поведение, словесное выражение мыслей неизбежно, особенно если их нельзя изложить в письменной форме. Потому летом 1942 года разговоров было много, гораздо больше, чем нужно.
Павел Салмин, малый не без таланта, боксёр, классный шахматист, был сторонником самых радикальных мер. Он был за немедленное вооруженное восстание. Сначала я пытался втолковать ему, как инженеру, что в созданной обстановке лагерь с его обитателями представляет собой уравновешенную систему и нарушить это состояние можно только благодаря толчку извне. Восстание будет иметь шансы на успех, например, в случае высадки десанта, когда его командир объявит о том, что Сталин низложен и что сформировано временное правительство России. Роль десанта мог бы сыграть и отряд вооруженных заключенных с другого лагпункта. Последняя идея понравилась Салмину, и он стал ее развивать и пропагандировать. Отсюда возник у него образ «культбригады на паровозе». Он предлагал ворваться в охраняемую казарму, вооружить отряд зэков, захватить паровоз и с его помощью двигаться от лагпункта к лагпункту. По сути, это было бы повторением, а может и предварением восстания в Усть-Усе.
Я думаю, что наши планы в летнее время в тайге могли бы реализоваться. Но было обстоятельство, которое могло резко помешать нам. Нарушение движения по лагерной ветке Яр – Фосфоритная прекратило бы доставку дров для Пермской железной дороги, единственной линии, соединявшей тогда Москву с востоком страны: войска были бы немедленно переброшены и восстание стремительно задавлено. Поэтому поднимать изолированное восстание в Вятлаге было в то время неправильным. Соображение это родилось гораздо позднее, и не оно оказало свое влияние, возражений хватало и без этого. Отказы перейти к действию упирались, главным образом, в отсутствие нужного человека, который мог бы взять на себя руководство. И всего-то нам нужен был, как я потом понял, хорошо обстрелянный командир роты; с 1943 года и особенно после войны я встречал очень много подобных офицеров. Но в то время среди нас такого не было. Кроме того, проклятое разъединение, вносимое безбожием и закрепляемое терроризмом, прочно свило в нас свои гнезда. В активных действиях мы полностью не доверяли друг другу. Многолетнее воздействие терроризма убивает инициативу, приучает к мысли, что объединение рискованно…
В то время уговорить заключенных на нашем лагпункте выступить против режима не удалось бы ни мне, ни Салмину. Но если бы увешанные оружием и обожженные огнём недавней схватки зэки объявили о свержении Сталина, такое заявление произвело бы на лагерников неотразимое впечатление – даже вопреки действительности. Но нужны были люди высокого калибра для осуществления восстания в условиях, когда было известно, что никакого правительства не образовалось и всё в руках сталинских сатрапов.
Несомненно, Салмин трепал языком сверх меры, хотя я не обвиняю его в провокации. Иногда мне даже казалось, что он «травит баланду» с целью сшибить себе лишнюю пайку и талон на обед. Ужасно то, что он своей болтовней запутал многих людей и потом всех назвал на следствии.
Гадина жалит незаметно – крыса может броситься на человекаХорошо налаженное производство шло полным ходом, и требовалось только поддерживать его на должном уровне. У меня появилось время даже вникать в детали второстепенного значения. До меня и раньше доходили намеки, что кое-кто из заключенных контролеров облагает данью вольнонаемных работников нашего отдела. Но я не придавал этому значения, полагая, что если истощенные зэки, вырванные с лесоповала, стремятся подкормиться, то это, во всяком случае на первых порах, не является нарушением в условиях лагерной жизни.
Начальник мастерской, технорук, плановик и я были обязаны иногда приходить в конце второй и в третью смену для контроля хода производства, оставленного на попечение одних мастеров. И вот, как-то в декабре, я зашел около десяти вечера в станочный цех и увидел следующую картину: контролер Щерба сидел около своего станка и ужинал: в одной руке у него – маленькая ложечка, в другой – яйцо, на коленях – белый хлеб, кусочек сала. По тем временам – лукулловский пир. Никто из наладивших и ведущих производство даже не мечтал о такой пище… Моим ребятам от вольных могло перепасть несколько картофелин и немного черного хлеба. Такие роскошные дары Щерба мог получить лишь вымогательством в награду за стукаческие способности. Я понял все с первого взгляда. Но, по лагерной этике, с ходу придраться нельзя, да, вроде, и не к чему – каждый промышляет, как может. Подхожу, останавливаюсь, смотрю на него, думаю. Он вскакивает, начинает лебезить. Я делаю шаг к ящику, где складывается принятая им продукция, беру в руки операционную скобу и начинаю делать промеры всех собранных там деталей. Обнаруживаю, что ни на одной детали он не поставил клейма и пропустил несколько бракованных. Это уже серьезное упущение. Он-в моих руках. Подзываю контрольного мастера смены и предлагаю ему зафиксировать обнаруженные нарушения. После этого с лагерной бранью набрасываюсь на Щербу, напирая на недопустимое отношение к делу, на ответственность за производство в военное время. Затем начинаю громить его взяточничество. Говорю ему, что он обирает кого-то из вольнонаемных, и я потребую от них объяснения, потому что мне совершенно ясно, как он шантажирует людей своим осведомительством; теперь же он сам себя разоблачил и для третьего отдела годен только как использованный презерватив…
К тому времени из бесед со старыми лагерниками я усвоил, что раз настал момент публичной схватки со стукачом, то разоблачать его следует открыто и безбоязненно. При этом вред, который он все же может принести, будет минимальным; качество и уровень обличения могут его вообще устранить. Положение это неоднократно с успехом было проверено многими заключенными, хотя таит в себе два противоречия. Во-первых, когда дают очную ставку, то всегда спрашивают, в каких отношениях находятся стороны. Если даже кто-либо один заявляет, что они враждебны друг другу, то юридически ставка тем самым обесценивается и не принимается в расчет. Но со стукачами, как правило, следователи не сталкивают лицом к лицу, и тем самым нет возможности объяснить, что доносчик до этого просто находился с тобой во враждебных отношениях. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев стукачу в лагерях не удается скрыть свою секретную службу. Стукачей заключенные знают, и ругань с одним из них на глазах у всех ничего нового не прибавляет. Но психологически эффект публичного разоблачения важен, так как у чекистов, использующих данного осведомителя, остается ощущение грязи, провала и неумелости, как будто они притронулись к метле, вывалявшейся до этого в отхожем месте.
На следующее утро я передал написанный мастером рапорт о происшествии, и Щерба получил в приказе строгий выговор с предупреждением.
В январе объявили несколько субботников, вызванных морозами, пургой и продолжающимся падежом зэков. Даже в мастерской дважды снимали смены и гнали их на лесную биржу пилить дрова для железной дороги. Пять кузнецов, привыкших к работе у огня, заболели воспалением легких и умерли. В смене, оставшейся в мастерской, находился Щерба. Обстановка была напряженная, задание было увеличено. Контрольный мастер, которому я приказал не спускать глаз с Щербы, засек его на новом, вернее, очередном серьезном упущении. На основании рапорта Щерба был списан из мастерской, но не на общие работы, как я настаивал, а в бригаду углежогов, изготавливающих уголь для кузницы.
Работа углежога гораздо легче, а главное, выполнимей лесоповала, но несравненно труднее, чем обязанности контролера – без всякой физической нагрузки, в теплом цехе. Углежоги жили в том же бараке, что и рабочие мехмастерской. Примерно через месяц близкие мне ребята не преминули рассказать, что Щерба «доплывает» – сидит и грызет часами давно уже объеденные лошадиные кости[15]15
Летом 1942 года с фронтовой полосы начали привозить в лагеря головы и копыта убитых лошадей. Этим удалось как-то сократить катастрофическую убыль рабсилы, достигшую максимума весной этого года. Через полтора года подоспела американская продовольственная помощь, которая способствовала выживанию тех, кто был еще в состоянии поправиться, и многих новых заключенных.
[Закрыть] и просит передать мне, что умоляет взять его обратно…
Одна из дорог с лагпункта в мастерскую проходила мимо поляны, где работали углежоги. И от, однажды, в феврале, я столкнулся, когда проходил мимо, с доходягой, которого сразу даже не узнал.
– Димитрий Михайлович, простите меня. Возьмите снова в мастерскую.
Смысл моего ответа сводился к следующему:
– Мне, Щерба, ты ничего плохого не сделал, и сделать не сможешь. Мой выстрел был первым, я опередил тебя. Проси прощения у тех, кого ты закопал прошлой зимой. На твоей черной совести лежат семь человек. Хоть поздно, но мы получили теперь сведения от очевидцев. Я способен простить чекиста, который меня открыто допрашивал; палача, коль скоро он открытый исполнитель воли режима; напавшего на меня явного бандита, но не Иуду, вкравшегося в доверие или просто оболгавшего и погубившего человека. Пусть этим занимаются Церковь и Высшие Силы. Самый страшный ущерб заключенные испытывают от вас, от вашей гнусной, омерзительной тайной крысиной возни. Долг каждого из нас бороться с вами так, чтобы другим мерзавцам отбить охоту, иначе вы всех нас уничтожите. Сказал «А», получай «Б».
– Но вы ведь тоже носите маску. Вы ненавидите работников третьего отдела и все руководство, а я своими ушами слышал, как вы вежливо разговариваете с Левинсоном…
– Щерба, ты видишь, что углежог, который сейчас зашел в избушку, сильно наклонил голову. Это потому, что высота двери недостаточна и не позволяет пройти, не пригнувшись, во весь рост. То же и с нами. Не мы выдумали эту систему. Ты прав, мы тоже носим личину вежливости, хотя, когда дело того требует, я говорю с ними очень резко. Тебе это должно быть хорошо известно, коль скоро ты подсматривал за мной. Но дело в том, что личина, которую мы вынуждены носить, спасительна для нас и для других заключенных и никому не приносит вреда. Вы и вам подобные надели ее, чтобы губить людей. Я загнал тебя в угол. Ты бы рад выпустить яд, но твоя песенка спета. Ты больше не опасен. Пока я в мастерской, твоей ноги там не будет. Кроме Высшего Суда, хотя бы отдельные негодяи должны подвергнуться суду земному.
Весной до меня дошел слух, что Щербу, как тогда говорили, одели в деревянный бушлат.
Сдаваться не положено!Под Новый год я совершил оплошность, виной которой было убийственное однообразие пищи. Кто-то из моих соседей по «бараку обреченных», как я его называл, предложил мне выпить. В обычных условиях я не чувствовал никакой потребности в этом, но тут вдруг здорово потянуло. Достали немного спирта. Впору бы и ограничиться, но ребята только вошли во вкус. Решили попробовать растворитель, от которого разило грушевой эссенцией. Видимо, он и стал причиной поноса, который у меня вскоре открылся. Это была не пеллагра, так что можно было не пугаться, но промучился недели две, и последние дней семь даже не ходил на работу.
Во время болезни ко мне захаживал Поль Марсель. настоящая фамилия которого была Русанов. На воле он был композитором, а в лагере стал музыкальной частью в так называемой культбригаде. Настоящей дружбы у нас не было. Он был из белоэмигрантов, но в силу артистичности своей натуры как-то слабо разбирался в событиях. Он невинно болтал со мной по-французски, а я был рад собеседнику, так как думать в этом состоянии старался как можно меньше и его приходы развлекали меня. Язык тогда я еще не забыл, и мы часами с ним разговаривали, благо в бараке, кроме двух стариков-дневальных, никого не было, и нас некому было принять за иностранцев, плетущих вражеские сети.
Мой гость предложил познакомить меня со старым земским врачом, из стационара.
– Болезнь не проходит, запускать ее недопустимо. Я попрошу моего друга. На лагпункте только он может вам помочь, – горячо настаивал он. И действительно, на сей раз помощь обернула ко мне свой улыбчатый добрый лик.
Вечером я отправился к врачу. Беленький, сухонький, он меня даже не стал осматривать, а расспросив и подумав, тихонечко поднялся, подошел к полке, налил в стаканчик воды, прибавил туда что-то из бутылки и дал мне выпить. Словно огонь пробежал по жилам, я ощутил подъем сил и, придя в барак, почувствовал волчий голод. То был раствор соляной кислоты. Видимо, на железы, вырабатывающие ее в желудке, повлияла алкогольная отрава. Я еще с месяц ходил к старичку, и он с неизменно доброй улыбкой давал выпить мне из своего стаканчика.
И таких ангелов уничтожали… Сколько их погибло – настоящих светочей в разных областях жизни. И как ужасны последствия: посадки хороших врачей привели к падению и вырождению медицины, так же как тотальное истребление целителей душ – к искоренению добрых чувств, озверению населения, несусветному распространению нервных и психических заболеваний, нарушению духовных связей, взаимному предательству…
Интересно, что когда в Большой советской энциклопедии получили заказанную словарную статью о слове «любовь», произошла заминка, составители испугались. Дело дошло «лично до товарища Сталина», как тогда говорили. Корифею наук нельзя было отказать в звериной цепкости и последовательности, столь необходимых для заплечных дел мастера. Он вынес свой приговор: «советскому народу это понятие чуждо». И в издании энциклопедии тех лет слово «любовь» отсутствует.
В бывшей России, при царе, найти палача было часто проблемой. В сталинской деспотии можно было навербовать десятки, если надо, – сотни тысяч палачей. Сама технология вербовки была упрощена до предела. Вызывали в райком, спрашивали:
– Ты советский?
– Да, конечно.
– Партия и правительство поручают тебе чрезвычайно важное задание: работу в «органах».
Посмеешь возразить – и ты чужой, классовый враг. Тогда начинали пугать, стращать, и восемь из десяти соглашались. Такова плата за отказ от Бога!








