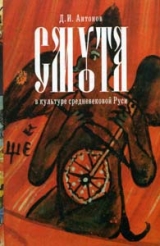
Текст книги "Смута в культуре Средневековой Руси: Эволюция древнерусских мифологем в книжности начала XVII века"
Автор книги: Дмитрий Антонов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
«Словеса» Ивана Хворостинина: оправдание автора и героя
После описания Лжедмитрия, Хворостинин переходит к рассказу о Шуйском, клятве правителя и исчезновении правды в стране, где началась кровавая смута. Неправедный царь «объюроде от многого сетовании» гадал, слушал ложные шептания и бесовские учения и т. п. Через пять лет на Шуйского восстали люди «от бояр же и до простых», однако это было отнюдь не боговдохновенным движением сердец: с престола царя свели преступники, забывшие крестоцелование и страх Божий (Словеса, 448). Хворостинин говорит о том, что сам не прельстился, не изменил присяге и скорбел о пастыре, пораженном своими козлищами. Далее следуют восхваления Гермогена – «доброго пастыря», кроткого учителя и патриарха, исполненного всех добродетелей, а затем описание нашествия поляков и решения «славных» людей призвать на престол Владислава. Подобно предыдущим, этот рассказ также переходит в повествование о поступках самого князя.Намерение призвать сына Владислава обличал патриарх: «Аки пророк, начерта и назнаменуя нам, яко лестию сие творят, и несть бо нам полезно сие»; более того, Гермоген намеревался освободить Шуйского от вынужденного монашеского обета и постричь самих клятвопреступников. Вместо покорности духовному пастырю заговорщики отдали низложенного царя в польский плен: «И не срамляющеся клятвы своея, ею же кляшася и лобызающее господен крест, яко царя нам, владыки своего сына дати хотящее, и крестные обеты преступи...» (Словеса, 454). Люди забыли страх перед всякой властью, патриарх поучал людей, не слушавших его. Именно здесь – в очередной кульминационный момент повести – вновь возникает фигура автора и вновь выступает в качестве образца благоверия: «Яко же ту прилучившуся и мне, пачи же всех ко мне рече и пред всеми мя обия со слезами: Тыболе всех потрудихся во учении, ты веси, ты знаеши»! Лишь после этого Гермоген обратился к народу с поучением не подчиняться Владиславу, если он не перейдет в православие (Словеса, 454).В дальнейших описаниях Хворостинин не выводит ни одного героя, покорного патриарху (который боролся с еретичеством, злобой и неправдой, был отлучен от прихода, заточен, впоследствии умер в муках и после освобождения Москвы оказался прославлен Богом. Словеса, 460). Эпизод с обращением к автору «Словес» остается ярким подтверждением благоверия князя среди всеобщего шатания.Не сохранившийся в полном виде памятник завершается новым рассказом от первого лица: усомнившись, не призывал ли Гермоген людей к борьбе с оружием в руках (что противоречит канону и евангельским заветам), герой обратился с этим вопросом к рязанскому архиерею Феодориту, который показал князю послание Гермогена, обрывающееся в трех списках на первой фразе. Вероятнее всего, послание должно было убедить в том, что патриарх (как утверждал он ранее перед обвинителями) призывал облечься лишь в оружие молитвы, однако судить об этом, как и об окончании самих «Словес», на сегодняшний день невозможно.Постоянное утверждение книжником собственного благоверия для оправдания спорных событий своей жизни – отличительная особенность всего памятника. В то же время способ подобного оправдания оказывается весьма оригинальным.Хворостинин отвел особое место авторской рефлексии, направленной на свой «автобиографический» труд. Характерно, что этот фрагмент, подобно иным рассказам от первого лица, посвящен оправданию автора – на этот раз в замысле самого произведения: «Аз убое елика слышах и елика видех, никако же могу таити, и никто же ми не неверуй сему писанию, не мни мене гордящася. О чада светообразная церковная! Хотех убо вашей любви благоглаголати, пастырь наших детелей без разсечения на среду предложити и острозрению любително к величеству спасенному возвестити пастырское благое исправление... но свою немощь недостижну усмотрив, и ко онех величеству и благохвалению удержевахся. Но убо забвения и нерадения тяжчайша вмених. Се же есть слово наше, елико по силе» (Словеса, 432-434). Утверждения Хворостинина традиционны: смиренный автор понимает свою «немощь» и пишет книгу не по собственному желанию, но «вменив в больший грех» забвение славных дел «пастырей»1. О том же говорил Палицын в предисловии к «Сказанию об осаде» (Сказание, 127-128), сходные мысли есть у Тимофеева, посвятившего много места оправданию собственной авторской «неумелости» с призывом к читателям исправить впоследствии его труд. Однако в «Словесах» оправдание замысла непосредственно связано с повествовательным самооправданием. Хворостинин начинал сочинение в более традиционной манере, говоря о себе в третьем лице, но первое возникновение местоимения «я» в описании событий Смуты резко изменило характер повести. Роль и место героя-автора в «Словесах» крайне значимы: каждый рассказ о событиях Смуты, достигая кульминационной точки, переходит в повествование книжника о себе самом. Подобные самоописания редки для древнерусской письменной традиции, они распространяются в книжности именно в XVII в.2 Рассказ от первого лица, глубоко вплетенный в описание событий Смуты, отличает «Словеса» от большинства памятников эпохи. Если Палицын вводил «старца Аврамия» как действующего персонажа «Истории», никогда не отождествляя его с собой как автором, то Хворостинин создал произведение, которое можно условно назвать автобиографическим рассказом3. Отметим, что иное знаменитое сочинение XVII в., написанное от первого лица, – Житие протопопа Аввакума, в определенном аспекте окажется близким к произведению опального князя: Аввакум будет утверждать смирение как основополагающий принцип поступков и автора, и героя Жития (см. экскурс II). Идея безусловно характерна для средневековой литературы, однако в подобных случаях она получает весьма своеобразное воплощение. Сходство в способах решения нетрадиционных задач во многом определит необычность автобиографических произведений «переходного» столетия.* * *Как видим, сочинения Палицына, Тимофеева и Хворостинина органично включают мифологемы, актуальные на протяжении 1598-1613 гг. Самовластие не просто приравнено здесь к греховному самоволию, но определяет природу самого кризиса. Эсхатологические описания у Палицына и Тимофеева основаны на объяснениях, характерных для источников XVI – начала XVII в., однако акцент переносится с римского понтифика на коронованного самозванца. Традиционные идеи о власти монарха и сущности крестоцелования оригинально привлекаются всеми авторами, причем нарастающее в культуре недоверие к разным видам присяги (как к осужденной в Евангелии клятве) переносится некоторыми на присягу государю. В то же время опыт целостного осмысления эпохи междуцарствия оказался разным, а множественность трактовок и объяснений беспрецедентных событий Смуты закономерно отразилась в публицистике.
1 О «формулах смирения» и древнерусском авторском каноне см., например: Конявская Е.Л. Авторское самосознание древнерусского книжника (XI – середина XV в.). М., 2000. С. 19.2 Об автобиографических элементах описания в древнерусской книжности и автобиографических произведениях XVII в. см.: Крушельницкая Е.В. Автобиография и житие в древнерусской литературе. Жития Филиппа Ирапского, Герасима Болдинского, Мартирия Зеленецкого, Сказание Елеазара об Анзерском ските: Исследование и тексты. СПб., 1996; Она же. К вопросу об автобиографизме в древнерусской литературе // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 102-121. См. также: Калугин В.В. Андрей Курбский и Иван Грозный. С. 170; Ранчин A.M. Ветроград златословный. С. 233-247.3 Предпринимавшиеся попытки вписать «Словеса» в рамки того или иного средневекового жанра вряд ли можно признать продуктивными. Д.М. Буланин и Е.П. Семенова называют «Словеса» «риторическим упражнением на историческую тему» (СККДР. Вып. 3, ч. 4. С. 195), однако эта характеристика также мало соотносится с авторскими интенциями Хворостинина.
Заключение. "Осень русского средневековья"
Смутное время, без сомнения, – один из уникальных, «осевых» периодов русской истории. На рубеже ХVІ-ХVІІ вв. разрушались порядки и институции, освященные традицией, и возникали прецеденты, не имевшие место в предшествующие столетия. Для культуры, ориентированной на прошлое, череда подобных событий неизбежно становилась глубинным потрясением.Устои, типичные для Московского царства, впервые и всерьез нарушились в момент избрания неприрожденного государя на престол. О кризисе созданных в 1598 г. объяснений свидетельствовал не только успех самозванцев, но и воплощение в жизнь идеи о призвании инославных правителей. На протяжении 15 лет общество пыталось найти опору для действий в традиционных представлениях, однако число объяснительных и поведенческих моделей, претендовавших на истинность и традиционность, множилось с течением времени. Самозванцы апеллировали к московской мифологеме власти и к крестоцелованиям, принесенным государям-Калитичам; сторонники избранных царей видели залог спасения в верности последней присяге и царю, поддержанному Церковью. Люди служили «государю Дмитрию», воевавшему за престол своих предков, либо почитали того же Димитрия как невинноубиенного в детстве страстотерпца. Важно при этом, что враждующие стороны равно апеллировали к святому и выстраивали свои взаимоисключающие позиции на тех представлениях, которые были наиболее сакрализованны в культуре.Смута проявилась прежде всего в утрате критериев, которые веками служили ориентиром для разграничения верного / неверного социального поведения. Подчинение земным и духовным владыкам было необходимым залогом спасения и основой праведной жизни в культуре Московского царства, поэтому всесторонний кризис власти провоцировал полную дезориентацию, «смуту в головах» («и живущим... смущатися, и главами своими глубитися»)1. В ситуации частого выбора легитимной власти на весы оказывалась положена не только общественная стабильность, но и верность богоустановленному порядку вещей, крестному целованию, Церкви, самой христианской вере. Неверный выбор грозил утратой благодати священных соборов, проклятием и отлучением, падением в сети дьявола, погублением души. Наконец, продолжение Смуты грозило «конечным погублением» последнего богохранимого царства, падением Третьего Рима, концом света. Важно, что подобное видение ситуации было характерно и для книжников духовного сана, и для представителей самых разных слоев общества: нормативные для культуры («книжные») идеи о власти и мироустройстве могли быть в большей или меньшей степени укреплены в сознании простых людей, однако многочисленные «публицистические» памятники Смуты и источники массового происхождения (прежде всего рассказы о видениях) свидетельствуют о том, что основные рассмотренные категории были актуальны для людей из разных сословий2.Предельный накал взаимных обличений и частая смена власти в Москве, вероятнее всего, поспособствовали обратной реакции – «профанизации» сознания многих современников. Невзирая на страшные проклятия, угрозы «погубления души» и т. п., «переметчики» переходили из лагеря в лагерь, преследуя вполне меркантильные цели (как правило, богатое пожалование). Количество лагерей, сражавшихся «за истину», росло параллельно с числом грабителей, предателей и мародеров. Пошатнувшаяся в Москве власть была подхвачена многочисленными самозванцами, каждый из которых претендовал на сакральный статус царя. В период Смуты область священного утратила прежнюю связь с воплощавшими ее институтами, лицами и местами: «цари», «патриархи» и иные носители власти появлялись в разных местах, организуя вокруг себя традиционные либо совершенно новые органы управления. В свою очередь, наиболее авторитетные и освященные в культуре виды обращений к обществу утратили статус непререкаемой истины: проклятый Церковью еретик стал царем и год правил страной как православный государь; тысячи сторонников собрались вокруг человека, которого Церковь прославила как погибшего страстотерпца. В народе записывались и распространялись слова о том, что истины нет ни в царе, ни в патриархе.В XVI столетии представления о богопоставленности и мессианском статусе власти получили максимальное развитие. Кризис, пришедший на рубеже ХVІ-ХVІІ вв., не просто поколебал устоявшиеся идеи: он разрушал основополагающие элементы, ядро культуры Московского царства. Восстановить существовавшую систему оказалось невозможно – власть утратила прежний статус как в области распоряжения землями3, так (для многих людей) и в области пастырской функции по отношению к подданным4. Крах постиг систему в момент ее наивысшей сакрализации. Политика первых Романовых была направлена на воссоздание старых моделей: московским правителям стало необходимо соответствовать образу законных государей5, вследствие чего легитимность новых монархов и святость царского сана утверждались всеми возможными способами. Тем не менее память о том, что власть пала «вниз», довольно долго (и в разнообразных формах) существовала в среде «государевых холопов» и лишь затем вновь поднялась «вверх», не исчезла в XVII в. Несмотря на обрядовую и поведенческую сакрализацию власти во второй – третьей четверти столетия, в обществе сохранялось представление о низком статусе «нынешних царей»6.Симптомом пришедших изменений стали многочисленные дела о «непригожих речах» и само создание института «Слова и дела». В то же время уже через несколько десятилетий после воцарения Михаила Романова представления о святости власти поколебал новый глобальный кризис, на этот раз пришедший из Церкви и приведший к Расколу. В середине – второй половине XVII в. массы людей полностью отвернулись от властей, как светских, так и церковных. Причины были здесь совершенно иными, чем в период Смуты, однако смелость и решительность подобного шага в какой-то степени могли быть подготовлены событиями первой четверти столетия.Одним из важнейших феноменов Смутного времени стало «конкурирование» двух моделей обретения истинного царя: избрание правителя среди русских бояр и призвание иностранца / иноверца – члена правящего рода. Сложившись на рубеже ХVІ-ХVІІ вв., обе модели оставались актуальными на протяжении XVII столетия. Идея династического происхождения истинной власти, очевидно, была наиболее жизненной при Михаиле Романове, что провоцировало стремление избранного монарха породниться с представителями иноземного богоизбранного рода. Проблема династического брака, как и в 1598 и 1610 гг., упиралась в необходимость принятия иностранного жениха первым чином. Политику Гермогена продолжили его преемники на святительском престоле; концепция обретения истинного правителя через перекрещивание инославного, выраженная в памятниках 1610 г., сохраняла актуальность и в середине 1640-х годов.Идея о наследовании власти в рамках нового рода утвердилась после неудачной попытки заключить династический брак Ирины Михайловны с королевичем Вольдемаром и воцарения Алексея Михайловича. Однако принцип наследования был уже не столь безусловным. Канон избрания, сложившийся в 1598 г. и полностью воспроизведенный в 1613 г., до конца «переходного» века оказывал влияние на самые разные тексты, посвященные власти; документы, связанные с восшествием на престол новых государей, представляли обществу права наследников на московский трон через идеи избрания, оформившиеся после смерти Федора Ивановича. Идея об участии общества, руководимого Божьей волей в выборе царя, воспроизводилась вплоть до провозглашения на царство Петра и Ивана в 1682 г. Об актуальности избирательной модели в середине столетия свидетельствовало, в свою очередь, характерное поведение Никона при избрании на патриарший престол.Не меньшую роль в последующих событиях XVII в. играла альтернативная модель обретения истинной власти через «возвращение» законного наследника престола: феномен самозванничества пережил Смуту и воспроизводился в народной среде вплоть до XX столетия. Таким образом, несмотря на преодоление кризиса в 1613 г., все модели, получившие обоснование и развитие в период Смуты, сохраняли актуальность при первых Романовых.Помимо стремления к заключению династического брака царствование Михаила Федоровича сопровождалось постоянными попытками московского двора возродить прежнюю концепцию власти через утверждение о кровном родстве Михаила с Иваном IV. Оба опыта, по разным причинам, не привели к желаемому результату: традиционная модель объяснения вступала в полосу кризиса после 1613 г., в результате чего родилась новая, сочетавшая в себе элементы избрания и наследования при яркой сакрализации фигуры помазанника7. После воцарения Алексея Михайловича идея династического брака представлялась как богопротивная (автор «Повести 1647 года» утверждал, что смерть Михаила Романова и его супруги стала казнью за приглашение нечестивого королевича8), что, в свою очередь, подкрепляло наследственный принцип передачи власти в рамках правящего рода. И все же сама концепция власти качественно изменялась9. Нараставшая сакрализация личности вместо сана монарха, а также уподобление царя Богу вызывали при этом протест защитников традиции.В иных областях изменения могли стать менее глубокими и не иметь столь далеких последствий. Крестное целование Шуйского, принесенное подданным, являлось беспрецедентным в рамках средневековых представлений о природе власти и сущности присяги на кресте. В отличие от процедуры избрания этот акт не получил специальных обоснований и, по сути, остался уникальным казусом. В то же время сам принцип ограничения власти помазанника оказался логично вписанным в ряд событий Смутного времени: корпус договорных русско-польских и русско-шведских документов свидетельствует о нормативности акта в сознании многих современников. Тем не менее в этой области не произошло существенных изменений – объяснения позднейших авторов вновь актуализировали традиционную средневековую модель.Ретроспективное осмысление Смутного времени при Филарете (собор 1620 г., летописание XVII в. и др.) не менее важный феномен эпохи, оказавший определенное влияние на последовавшие события. Усиление охранительной конфессиональной политики во многом являлось следствием Смуты, вместе с тем острота церковного раскола безусловно усиливалась из-за противоречия реформ Никона идеям, утверждавшимся в многочисленных изданиях, выходивших при Филарете, Иоасафе и Иосифе. Если Смута нанесла удар по представлениям о священной царской власти, то в середине века возможным оказалось изменить иконические основы веры как обрядово-догматического феномена древнерусской культуры («литургического богословия»)10, что спровоцировало новый всплеск эсхатологических ожиданий.Наконец, сами апокалиптические настроения, актуализированные в начале века, не исчезли в обществе до времен Раскола: они возникали вновь и вновь в следующие после Смуты десятилетия. Представление о самозванце как оружии дьявола и возможном антихристе, а также «теория отпадений» и скорого завершения истории, в свою очередь, создали основу для будущих эсхатологических построений «переходной» эпохи.Противоречия XVII в. уже не могли быть органично усвоены культурой. Наступал период «осени русского Средневековья». Изменение важнейших мифологем, начавшись на рубеже столетий, не прекратилось с течением времени: источники XVII в. все больше отличались от сочинений, созданных в Московском царстве11. Если единая череда посылаемых бедствий была локализована в представлениях современников 1598-1613 гг., то «смута», пришедшая в культуру в 1598 г., перешла на протяжении века в иное, глубинное, «смущение». Впереди общество ждал новый великий Раскол. Самосознание эпохи непреодолимо изменялось.
1 Новая повесть о преславном Российском царстве // БЛДР. Т. 14. С. 152-154.2 Ср. также представления о бедствиях как очистительных Божьих казнях, о самозванце как антихристе и о бесовской природе действий Лжедмитрия в частном письме неизвестного автора Смутного времени (Хроники Смутного времени. С. 440). Впоследствии существование «книжных» представлений в массовом сознании будет подтверждаться иными источниками, как то материалами «Слова и дела» (ср. по этому поводу: Кузнецова Т.А. Указ. соч. С. 194-197).3 См. подробнее: Юрганов А.Л. Категории... С. 171, 198-199.4 Определенная эволюция представлений о власти прослеживается в источниках, посвященных бунту 1648 г. В народе сохранялись прежние представления о царской власти как власти «отцовской» и пастырской, однако идея ответственности государя перед людьми проявлялась не менее ярко, приобретая новые черты после событий Смуты (см. об этом, например: Kivelson V.A. The Devil Stole His Mind: The Tsar and the 1648 Moscow Uprising // The American Historical Review. Vol. 98. № 3. 1993. P. 733-756).5 См.: Андреев И.Л. Указ. соч. С. 14. Стремление утвердить легитимность династии прослеживается в том числе в свадебных церемониях Михаила Романова (1624 и 1626 гг.). Как отмечает Р.Е. Мартин: «But, in fact, the weddings of Mikhail Romanov in 1624 (to Mariia Dolgorukova) and in 1626 (to Evdokiia Streshneva) were far from mechanical replications of previous royal weddings. They provided an opportunity to introduce changes in the choreography of the wedding rituals that would project an image of dynastic continuity and legitimacy for the fledgling Romanov dynasty. Important changes were introduced to the wedding ritual in 1624 and 1626 specifically to broadcast Romanov legitimacy and the divine sanction for the establishment of the new dynasty. The weddings of Tsar Mikhail Romanov, then, were crafted to create a "facade of legitimacy" by being traditional and innovative at the same time» (Martin R.E. Choreographing the «Tsar's Happy Occasion»: Tradition, Change, and Dynastic Legitimacy in the Weddings of Tsar Mikhail Romanov // Slavic Review. Vol. 63. № 4. 2004. P. 796).6 См.: Новомбергский H. «Слово и дело» государевы (процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года). М., 1911. Т. 1. Ср.: Юрганов А.Л. Категории... С. 185-187.7 Так, уже в Чине венчания Михаила Романова традиционная для государей-Калитичей формула «старина наша», замененная в Чине венчания Годунова на формулу «старина их», оказалась обойдена за счет создания нового объяснения: Рюриковичи правили Россией от Рюрика до «нашего дяди» Федора Ивановича; Михаил был избран «Бога нашего милостию и неизреченными его праведными судбами и по племени по дяде нашем». Идея наследования, связи со «стариной», сочетается здесь с идеей избрания по Божьей воле (см.: СГГД. Т. 3. С. 73-75).8 См.: Кошелева О.Е. Лето 1645 года: смена лиц на российском престоле // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 2. М., 1999. С. 164.9 В ряде аспектов власть уже с середины столетия начала по-иному выстраивать свои отношения с подданными, что отразилось, в частности, в Соборном Уложении 1649 г. В конце века (1680-е гг.) произошло достаточно резкое изменение прежней модели взаимоотношений власти и подданных: запрещение уподоблять царя Богу в челобитных, падать ниц перед царем лицам думных чинов и др. (см.: Kivelson V.A. Op. cit. P. 754-756; Коллман Н.Ш. Соединенные честью: Государство и общество в России раннего нового времени. М., 2001. С. 322-365).10 То есть феномена непосредственной связи обряда с выражаемым им догматом (см., например: Успенский Б.А. Крест и круг. С. 158-159).11 Некоторые аспекты этой эволюции будут рассмотрены в экскурсах книги.
Экскурс I. "Крест целую ротою на погубление свое": феномен судебной присяги в книжности XVI-XVII вв.
Экскурс в дополненном виде представляет материалы статьи, опубликованной в журнале «Древняя Русь. Вопросы медиевистики» (М., 2009. № 1).Среди рассмотренных видов мирского крестоцелования (роты) особое место занимало целование в суде – популярный в Средние века вид Божьего суда окружен характерными объяснениями как в законодательных памятниках, так и в публицистике Средневековья. Подобно иным случаям мирской клятвы, в ХVІ-ХVІІ вв. судебная рота оказывалась предметом крайне интересных споров. Клятва и суд Крестоцелование – важная составляющая средневекового суда, относящаяся к практикам «Божьего суда»: ордалиям1 (испытание огнем, железом и т. д.), полю (судебный поединок) и жребию2. К подобным процедурам, как и к крестоцелованию, прибегали при отсутствии «послухов» – свидетелей по делу3 (в разное время определенное влияние на выбор законодательной практики оказывала ценность иска), однако клятва имела ряд важных отличительных черт. Если ордалии, поле и жребий призваны были немедленно проявить волю Господа в решении спорного дела (ср. выбор апостола Матфея по молитве и жребию: Деян. 1: 23-26), то в случае целования креста имело место свидетельство, грозившее, в случае ложной присяги, страшной, но не обязательно немедленной, карой4. В то время как иные практики «Божьего суда» открывали людям волю Творца, крестоцелование не предполагало деятельного участия окружающих в судебной процедуре: подозреваемый по своей воле давал либо честное, либо ложное свидетельство перед Господом. Орудием наказания преступника в свою очередь становились здесь не люди, осуществлявшие суд: наказать преступника мог лишь Господь, поразив его на месте, либо послав ему кары в будущем. Клятва являлась не только альтернативным, но и дополняющим актом по отношению к другим видам «Божьего суда» (жребий решал, кому идти к кресту, крестоцелование предшествовало поединку): процедуры могли сосуществовать, так как они по-разному взывали к высшему правосудию.Крестоцелование распространялось не только на ротников, но и на судей: они должны были решать дела «в правду, крест поцеловав на сей крестной грамоте»; по крестному целованию судей назначали («ставили у суда») государи; наместники, облеченные судебной властью, целовали крест на том, чтобы хотеть городу добра и судить горожан «прямо, по крестному целованию»5. Важный символический акт стал неотъемлемой частью средневекового суда6, причем использовался здесь и в качестве необходимой для служивых людей присяги, и в качестве одного из видов судебного испытания.Представление о святости и нерушимости благого целования определяло практику судебной роты. Мысль о том, что нарушение крестоцелования – погибельный грех, получила особое развитие в Московской Руси, где человек, преступивший целование креста, уподоблялся христоубийце, которого ждет казнь «огненным серпом» (см. подробнее гл. 5).Ситуация несколько изменилась к XVII в.: в это время крестоцелование получило определенные, весьма характерные, ограничения. Вопрос о том, кто будет целовать крест, должен был теперь решать жребий, ко кресту допускались лишь совершеннолетние и не более трех раз в жизни7. Авторы Уложения 1649 г. особо подчеркнули последнее правило: если человеку приходилось ранее целовать крест трижды, а «обыском» его дело не решить, необходимо применить пытку. Была создана торжественная форма принесения судебной присяги, которая проводилась при обязательных свидетелях, перед процедурой читались выписки из правил Святых Отцов и гражданские законы о клятвопреступлении, наконец, ротников дважды увещевали уладить дело миром и лишь на третий раз подводили ко кресту8. Судя по сохранившимся документам, эффективность акта была достаточно велика: судящийся, которому предлагалось подойти ко кресту, чаще всего сдавал позиции (зачастую проигрывая процесс) и предпочитал отступить любым способом – примириться, не явиться по вызову и т. п., но не приносить клятву9.Четырнадцатая глава Соборного Уложения, посвященная крестному целованию в суде, заканчивается своеобразным объединением важнейших идей, связанных с этим актом. Здесь последовательно утверждаются следующие мысли: 1) человек, приведенный к крестному целованию и поклявшийся «по нужде» в своей правоте, отлучается от Церкви на шесть лет (по 82-му правилу Василия Великого); 2) целовавший крест «накриве» отлучается на 10 лет (по 64-му правилу Василия Великого), ему урезают язык (по 72-й заповеди Льва Премудрого); 3) «православным християном крестное целование ротою, и накриве в конец отречено бысть священными правилы»10. Текст этой главы со второй половины дословно повторяет 37-ю и 38-ю главы Стоглавого Собора 1551 г., в которых два ключевых фрагмента были, в свою очередь, заимствованы из грамоты митрополита Фотия в Псков (1427 г.) и «Поучения Иоанна Златоуста о клятве»11.Стремление ограничить практику крестоцелования прослеживается не только в законодательной, но и в деловой документации ХVІ-ХVІІ вв. Важнейшая распространенная формула «по государеву цареву и великого князя... крестному целованию»12 предполагала прямую апелляцию к государю, целование которому традиционно не подлежало сомнению; в остальных случаях возникла новая формулировка, отсылавшая к евангельским словам, запрещавшим клясться: «...сказали по святой евангельской заповеди, еже ей-ей»13. (Имеется в виду евангельский завет (Мф. 5:33-37), не раз повторенный в святоотеческой литературе: «боуди же слово ваше, ей, ей, и ни, ни. Лишшее же сего от лукаваго есть»14. Ту же этимологию имеет разговорное выражение «ей-богу», замещающее божбу в речи15.) Судебная рота, порицавшаяся и ранее, все больше сопоставлялась с греховной клятвой, прямо осужденной в Евангелии16.Наконец, важнейшие изменения произошли с символическим актом присяги правителю. Во второй половине XVII в. присягу приносили в церквях17 (ср. осуждение подобного приказа Годунова во «Временнике»), причем крестоцелование постепенно заменялось обещанием, данным на Евангелии, – в документах часто упоминается приведение не ко кресту, но «к вере», на Святом Писании (практики могли сосуществовать)18. Отказ от наименее осуждавшегося ранее вида крестоцелования в XVII столетии не случайное совпадение, мотивации оказывались идентичными. В присяжных записях 1682 г. традиционные формулы средневековой присяги заменялись утверждениями: «...обещаемся Господу Богу всемогущему перед святым Евангелием, по непорочной заповеди Его, яко ж в сем святом Евангелии указася, еже ей ей, на том: служити нам великому государю царю...»19.Стремление законодателей XVI-XVII вв. ограничить практику крестоцелования и частое обращение к евангельской заповеди, как видим, взаимосвязаны: процессы характерны для эпохи и уходят корнями в прошлые столетия. Осуждения роты встречаются в средневековых источниках, причем речь идет не только о преступлении или неправильном принесении клятвы. В «Вопросах и ответах о разных случаях пастырской практики» (по списку XV в.) читаем: «Аще кто крест целует ротою, или не разумея, люба мал, или преступит, ино 5 лет опитемьи, а разумея преступит, кровию своею токмо да искупится...»20 В грамоте митрополита Фотия в Псков (1427) говорится, что целовать крест из-за корыстных побуждений – ища имений, злата и серебра – недопустимо. В епископском поучении «Князьям и всем православным христианам» (по Кормчей XV в.) утверждается, что христиане целуют крест ротой себе на погубление, и далее приводятся евангельские слова «ей-ей»21. Ротники, «догоняющие друг друга» до крестного целования, не раз осуждались в грамотах церковных иерархов, при этом речь шла о практике как таковой: «Не ротою судити повелено есть, но по Христову евангельскому слову... пред двема или треми сведетели»22.Приведенные идеи получили новое звучание в XVI в. – в это время известная судебная процедура подверглась серьезному сомнению, а различные авторы начали рассуждать о природе и роли судебного крестоцелования. С этого момента традиционно порицавшаяся рота стала важным феноменом книжной культуры. Иван Пересветов: крестоцелование и исполнение правды В сочинениях Ивана Пересветова целование креста играет очень интересную роль. По утверждению книжника, с этой процедурой во многом связана судьба падшей греческой империи.Историософия Пересветова и его концепция правды были специально изучены историками в последние годы, благодаря чему хорошо известны23. Утверждая, что правду Господь любит больше веры (правильного служения истинному Богу), книжник объяснял падение греческой империи именно утратой правды: император Константин дал волю своим вельможам, и они начали заниматься лихоимством, творить неправедный суд и т. п. Господь, любя греков24, попустил туркам захватить православную страну, и мудрый Магмет-салтан установил в государстве утраченную богоугодную правду. Несмотря на кажущееся противопоставление вере, правда Пересветова ни в коей мере не переведена в социальный план и не оторвана от христианства: истинная Правда – Сам Христос25. Идя путем правды, человек неизбежно придет к истинному Богу, после чего останется только исправить веру на православие (Магмет-салтан не решился сделать это лишь из-за позиции вельмож). Книжник указывает на идеальную цель – объединение в одной стране правды и веры: если бы это произошло, с людьми беседовали бы ангелы.Одним из важнейших признаков утраты правды оказывается установление греками неверного суда, который затем исправил правитель турков. Представления о суде во многом определили судьбу Византийской империи: «Бог любит правду сильнее всего, – греки с праведнаго суда своротилися, и за то их Господь Бог покорил»26. Характерно, что представления эти напрямую связаны с крестоцелованием.Неверная судебная процедура описана Пересветовым в «Сказании о Магмет-салтане»: «Яко же Константин-царь велможам своим волю дал и сердце им веселил; они же о том радовалися и неправдою судили и обема исцем по своей вере по християнской целования присужали, правому и виноватому; и оба не правы, и истец и ответчик, – един бою своего приложив ищет, а другой всю запрется: не бивал, не грабливал есми; его иску не обыскав, да оба крест поцелуют, да Богу изменят, и сами от Бога навеки погибнут и с теми неправыми судьями во всем греки в ересь впали, и в крестном целовании греха себе не ставили»27. Те же описания неправедного суда вложены в уста «волоского воеводы» Петра, порицающего русскую судебную практику28.Грехами для Пересветова оказываются, прежде всего, нарушение крестоцелования и ложная присяга, губящие душу. Кроме того, неправильно прибегание к этой практике без «обыска» (расследования); наконец, неправильно то, что крест целуют оба судящихся человека, так как один лжет («всего запрется»), второй же использует священный символ с корыстными целями («своего приложив ищет»). Все это отвечает идеям, существовавшим на Руси (обычно крест целовал один человек29, практика назначалась в случае, если нет «послухов», ложная присяга считалась погибельным грехом). В то же время «идеальная модель», предлагаемая Пересветовым, весьма своеобразна: «...и он (Магмет-салтан. – Д. А.) дал одному з жребия крестнаго целования; целовати крест, направившее огненную стрелбу против сердца и самострел против горла». В таком положении готовящийся к крестоцелованию стоит все время, пока его духовный отец читает евангельские притчи и поучает о грехах, в том числе о лжесвидетельстве: «...то есть царь дал греком з жребия крестнаго целования: естьли ево огненная стрелба не убиет и самострел на него не выпустит, и он крест поцелует, и свое возмет, в чем ему суд был»30. Аналогичная процедура (на мече, без креста) была установлена для турков. Помимо этого султан «исправил» судебный поединок: истца и ответчика должны были запирать в темной комнате, где лежала бритва; нашедший лезвие побеждал в споре и был волен простить или зарезать противника.«Великая правда», которую ввел в свое царство Магмет-салтан, заставляет прежде всего почитать крест и относиться к целованию «со страхом и трепетом» – в этом основа исправления суда. Люди не губят души, легкомысленно прибегая к священному христианскому символу, а сама практика становится Божьим судом – Господь сам решает кто прав, а кто виноват (темная комната, самострел исключают возможность людского вмешательства). «То есть Божий суд», – прямо утверждает Пересветов31. Вместе с тем крестоцелование в суде ограничивается, во-первых, только один человек (избираемый по жребию, т. е. снова по Божьей воле) целует крест вместо того, чтобы позволять делать это обоим, во-вторых, само крестоцелование перестает быть вспомогательной процедурой при измененном судебном поединке – «а поле им судил... без крестнаго целования»32. Символический акт превращается в грозную и почитаемую меру из расхожей и часто презираемой практики.Широкое применение крестоцелования в суде – одно из основных прегрешений греков – существует, по словам Пересветова, на Руси; «идеальная модель», предлагаемая книжником, призвана исправить положение, усилить почитание священного символа и ограничить случаи прибегания ко кресту. В подлинном Божьем суде – акте, призванном осуществить Высшее правосудие, автор «Сказания о Магмет-салтане» не видит греховных клятвы или роты: это совсем иная процедура – апелляция к самому Высшему судии33.Позиция Пересветова – характерная для эпохи попытка найти решение неоднозначной проблемы. И все же стремление ограничить практику крестоцелования могло основываться на несколько иных представлениях, а сама идея отвратить людей от частого прибегания ко кресту имела своих оппонентов. Зиновий Отенский: апология роты Послание Зиновия Отенского дьяку Я.В. Шишкину, опубликованное А.И. Клибановым и В.И. Корецким, по-своему уникальный памятник: это хорошо продуманное и аргументированное оправдание судебной клятвы на кресте, причем не в идеальном, но в существующем виде34. Попытка защитить традиционно осуждаемую роту тем интереснее, что Отенский предпринял ее, основываясь на идеях, получивших особое значение именно в XVI в.Послание начинается с обращения к дьяку, которого автор называет государем и прославляет за праведную жизнь и труды. Однако благочестивое вступление быстро сменяется обвинениями: «...ездишь в государеву полату позно, а до тебя дела не делают у вас в полате никоторова, а людям то истомно, что ждут долго, а суд засудишь, государь, и ты-де долго по судному делу указа не чинишь и исцом в то время управы нет и в волоките проедаюца и не промышляют и ремесло залегают, и о том люди тужат»35. Утверждая, что им движет желание помочь государю и благодетелю, Зиновий пространно обосновал два важных «дела»: «...что судити Господь приказал и управа вскоре давати по речем или по обыску и по мнозе испытании и крепком взыскании достоит и крестное целование дати меж прящимися»36.Ссылаясь на Священное Писание, Отенский делает вывод о том, что праведный суд – единственное, чего Бог ожидает от судий; суд, милость и правда – заповеди, которые должны неукоснительно исполняться власть предержащими. Не исполняя быстрого и праведного суда, властитель согрешает, его посты и праздники не угодны Богу (мысль основана на цитате из пророка Исайи). Отсрочивать суд или творить суд неправедный – грех, необходимо судить со старанием, не жалея времени и сил. Более того: «А то, государь, Богу угодно дело, что судити и виноватого мучити ранами или исцу продажею»37. Утверждение о том, что мучение виноватых богоугодное дело – весьма своеобразная позиция: казни еретиков были серьезно обоснованы как на Руси, так и на Западе, но суровость по отношению к преступникам не получала известных богословских оправданий38. В то же время в сочинении Отенского идея о необходимости скорых и жестоких наказаний оказывается важной частью представлений о праведном суде.Защищая свою позицию, книжник обращается к чувствам читателя: «Кто бывал изобижен, тот знает, какова беда и какова горесть обиды... чья же иная рука имать обидимому помогати, только не судиина»39. Аргументация Зиновия Отенского распадается на две части: утверждая мысль о том, что волокита потакает виновному, книжник говорит о бедах истца, который тратится на тяжбу и т. п., но большая часть послания оказывается посвящена богословскому оправданию высказанных идей.Правда для Зиновия важнее веры, в этом его позиция сближается с идеями Ивана Пересветова40: одной верой не угодишь Всевышнему, не исполняя правду, человек отдалится от Бога и не будет услышан Им. Автор послания приводит красочный пример – патриарх Иоанн41 по челобитью вдовы остановил священную процессию и не возобновил ее, пока не помог обиженной восстановить свои права; возражая священникам, которые упрекали его в несвоевременности суда, патриарх воскликнул: «Как де яз в службе от Господа Бога сам услышан буду не услышав вдовицы сея!»42 Вера без правды мертва, справедливый судья приносит правду в мир и угождает Богу в отличие от людей, соблюдающих лишь обряды правой веры. «А что, государь, помышляешь греху быти в том, что после суда борзо судное дело обговаривати да оправить или обвинить, или целование крестное дать, и в том, государь, судием греха несть...» – утверждает Отенский43. Не допуская проволочек и используя все средства, в том числе и целование креста, судья должен как можно быстрее добиваться установления справедливости. Если затягивать решение, обидчик может «лесть сшити», подкупить свидетелей, убить противника или иными средствами «правду искривити»44; любые проволочки – грех для судей.Позиция Отенского – во многом феномен своего времени. О том, что основная задача властей – исполнение правды, писали Максим Грек и Федор Карпов45; в трудах Пересветова представления о правде стали основой оригинальной историко-философской концепции. Современник Пересветова Зиновий Отенский решал иные, не столь глобальные задачи, однако пришел к тем же принципиальным утверждениям. Идея исправления правды актуальна для культуры XVI столетия; Отенский, как и Пересветов, непосредственно связал ее с проблемой крестоцелования в суде.И все же, несмотря на определенные сходства, разница между произведениями книжников не менее примечательна. Отрицательным примером в сочинениях Пересветова выступают склонившиеся ко грехам и порокам греки46, судьи же, описанные в Послании, не мздоимцы и не лжецы: Отенский спорит со вполне определенной и характерной позицией.Идея Отенского о справедливости, не боящейся формального греха, казалось бы, ближе к духу Нового Завета, чем позиция его «оппонентов», устраивавших судебную волокиту. Определенные высказывания самого книжника подкрепляют эту мысль47. Тем не менее подобный вывод был бы ошибочным.Ключевую роль в аргументации Отенского играет обращение не к Евангелию, а к Ветхому Завету. Подобный способ аргументации уже использовался (и оценивался) в русской средневековой культуре: произошло это во время полемики о необходимости казней еретиков – важного явления рубежа ХV-ХVІ вв. Обосновывая свою позицию, Иосиф Волоцкий, как известно, приводил множество библейских примеров, говорящих о казнях неверных. Создатель «Просветителя» опирался не только на Ветхий, но и на Новый Завет, однако очевидно, что концепция его получала большее оправдание на основе первого. В то же время приходилось доказывать, что важнейшие идеи Евангелия, как то «не осужайте, да не осужени будете», не раз повторенные в сочинениях Отцов Церкви, нужно понимать не напрямую: они ограничены временем, относятся лишь к не совращающим людей еретикам и т. д.48 По мнению Волоцкого, разница между отношением к еретикам в Ветхом и Новом Завете только в способе их умерщвления: апостолы убивали не оружием, а молитвами, христиане же вольны казнить отступников (смерть от оружия менее страшна)49. Противоположная позиция нашла выражение в ответе кирилловских старцев, приписываемом Вассиану Патрикееву, – разбирая аргументацию Волоцкого, Вассиан указывал оппоненту на то, что и в Ветхом Завете люди проявляли сострадание и милость, однако главное опровержение в ином: «Еще же ветхый Закон тогда быстъ, нам же в новой благодати яви Владыка Христос любовный съуз...»50. Автор призывал игумена обратиться к Божьему суду и войти в огонь с еретиком, которого он в душе приговорил к смерти: если правда на стороне Волоцкого, огонь сожжет лишь грешника.Пример известной полемики имеет отношение к проблеме клятвы: обратившись к концепции Отенского об исправлении правды, обнаружим, что все ключевые идеи книжника обоснованы через Ветхий Завет. Это не случайность – отношение к клятве претерпело радикальную переоценку в Евангелии.Клятва в ветхозаветных книгах – закономерный и нормативный акт, осуждается здесь лишь лжесвидетельство; клянутся не только люди, но и сам Бог51. Евангелие принципиально изменило эту норму: если древним было сказано не лжесвидетельствовать, то отныне Христос завещал людям не клясться никак, ибо всякая клятва – грех. Именно эти слова традиционно цитировали противники крестного целования. Его защитник апеллировал к дохристианским текстам.Утверждая идею о необходимости праведного суда, Отенский ссылается на пророков Михея и Исайю, псалмы Соломона и иные ветхозаветные книги, приводя также слова Иоанна Златоуста (А.И. Клибанов и В.И. Корецкий отмечали близость аргументации Отенского и Волоцкого52). Упоминая Евангелие, книжник говорит лишь о том, что Христос порицал израильтян, оставивших «суд и милость и веру»53, – фраза, никак не оправдывающая судебной жестокости или практику роты. В то же время слова из послания апостола Иакова «суд без милости не сотворившему милости» (Иак. 2: 13) Отенскому приходится истолковывать совершенно особым образом, подобно тому, как толковал евангельские заповеди волоцкий игумен. То, что на суде хвалится милость, означает, что судьи должны наказывать виноватых и тем самым миловать правых; слова о том, что суд без милости ждет не сотворивших милости, относятся к судьям, которые, не наказывая виновных, не милуют тем самым правых54. К самим виновным приложимы при этом иные слова из Ветхого Завета, о том, что суд не имеет милости. Таким образом, благодаря умелой интерпретации новозаветных идей, противоположные мысли объединяются в единой концепции о быстром, справедливом и безжалостном суде. Сама практика судебной роты, необходимой, по мнению книжника, для исправления правды, также находит конечное оправдание в ветхозаветных книгах: цари Константин и Владимир недаром установили крестоцелование как законодательную практику – «сам Господь Бог в законе Моисею приказал клятвою вере в суде бытии, аще послухов верных несть». Эта мера необходима и праведна: «Крестное целование Господне, в нашей земли установлена рота, клятва ротою правда земская веритца, тою же, государь, ротою царства мир укрепляют»55. Бог не мог установить греховной практики при Моисее, следовательно, клятва праведна («или, государь, самого Господа Бога виновата творя, что узаконил клятву?»). Грех для Отенского заключается лишь в принесении ложной присяги или в ее преступлении – «тех зовут изменники». Судья не может остановить человека, лгущего на кресте («неуже, государь, провидел судия исца, что хощет на криве целовати?»), потому в присуждении крестоцелования судье нет греха56. Идеи книжника о суде – часть его собственных представлений о богоугодной правде; в то же время Зиновий особо описывает представления своих «оппонентов». Отенский настаивает на том, что судья судит не души, но дела, и по своим делам люди должны принимать суровое наказание, «а что судия мирится велит исцом, и та малая правда судиина, занеже дружит виноватому, а правому грубит»: судья не должен отсылать истцов мириться, если они сами не просят об этом. Первый план аргументации Отенского хорошо понятен – такая позиция судьи на руку виноватому, «надокучит де правому волокита»; второй план особенно интересен – судьями, не подпускающими людей ко кресту, движет не лень и не желание получить мзду: «А судия суд покинув не хотячи казнити виноватого виною да велит миритися, ино той судия праведнее и милостивее хощет быти Господа Бога»57. По мнению автора Послания, эта позиция греховна: никто не должен стремиться стать «милостивее Бога», но всякий обязан судить «по правде Его», в противном случае судью ждет вечная мука. Для обоснования этой позиции Отенский вновь обращается к Ветхому Завету, к 3-й книге Царств (2: 13-25). Вирсавия, мать царя Соломона, просила сына отдать в жены его старшему брату Ависагу Сунамитянку, прислуживавшую престарелому Давиду; усмотрев в этом лукавое желание получить царство, Соломон предал брата смерти. Убийство это никто не ставил в грех Соломону, утверждает Зиновий, «суд бо, государь, милости не имать»58. Мысль эта повторяется снова и снова. Примеры из Ветхого Завета подтверждают необходимость следовать Божьей воле: «Не бивый, государь, пророка, погибе, а бивый пророка спасеся»59.Правда Отенского – закон, воплощающий Высшую справедливость; закон этот должен торжествовать над всеми людскими помыслами, в том числе и над излишним (неправильно понятым) милосердием. Судебная клятва, скрепленная целованием креста, – абсолютно оправданная практика, завещанная самим Богом: ни жалость, ни боязнь ввести людей во грех не должны смущать судей.Утверждения Пересветова и Отенского, сделанные практически в одно время, крайне интересны. Если первый призывал к ограничению крестоцелования, то его современник создал особое богословское оправдание этой практики. Оба автора писали о необходимости исполнять правду, при этом, по мнению Пересветова, отсутствие ее было вызвано не в последнюю очередь частым прибегавшем людей ко кресту, по мнению же Отенского – недостаточно часто предлагаемым целованием. Говоря на одном языке, книжники обосновывали принципиально разные идеи. Попытка Отенского полностью оправдать судебную клятву – уникальный феномен русского Средневековья60 и очень характерный памятник XVI столетия. Позиция эта осталась маргинальной (именно путь ограничения роты возобладал как в суде, так и в иных областях в XVII в.), однако стала важнейшим свидетельством актуальности проблемы. Представления о клятве и кресто– целовании начали меняться на переходе к Новому времени; общезначимые мифологемы средневековой культуры эволюционировали на протяжении столетия, провоцируя изменение культурного целого. 





