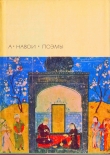Текст книги "Сентябри Шираза"
Автор книги: Далия Софер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Глава двадцать первая
За воротами конторы – шум и движение: кто-то ходит, на землю с грохотом падают коробки, хлопают дверцы машин. Фарназ жмет на кнопку звонка; шум стихает, ворота со скрежетом отворяются. Перед ней стоит не кто иной, как Мортаза, сын Хабибе, менеджер Исаака; Мортаза раскраснелся, он в бейсболке с длинным козырьком, из-за него его маленькие глаза кажутся еще меньше.
– Что происходит, Мортаза?
– Ничего. – Мортаза кивает кому-то в глубине двора.
Фарназ заглядывает за его плечо, но видит только большущий зеленый грузовик.
– Мы перевозим камни и оборудование в надежное место – чтобы не достались революционерам. Они могут конфисковать ваше имущество.
– Вот как? Откуда тебе это известно?
Мортаза барабанит пальцами по воротам.
– Вы должны мне доверять, Фарназ-ханом, – отвечает он, но в голосе его нет уверенности. – Я хочу вам помочь.
– Дай мне пройти.
– Нет. – Мортаза стоит перед ней, скрестив руки на груди.
– Куда вы все это везете?
– В надежное место. Как только ваш муж выйдет, мы расскажем ему, где все хранится. Возвращайтесь домой. Вам наверняка есть чем заняться.
Он отступает назад, захлопывает ворота.
Как смеет этот мальчишка, подчиненный ее мужа и сын ее служанки, разговаривать с ней таким тоном? Выходит, и остальные работники сплотились, чтобы обворовать Исаака? Преданность штука хрупкая, все равно что фарфор. Одна трещинка, поначалу незаметная, и – на тебе, в один прекрасный день чашка разлетается на куски.
Фарназ с платного таксофона звонит Кейвану; он говорит, что сейчас же подъедет. Но Фарназ понимает, что Кейвану не справиться с двумя десятками здоровых мужиков. И все же порой требуется показать власть, пусть даже она и иллюзорная. Раньше Кейвану достаточно было позвонить отцу, и такого, как Мортаза, на всю жизнь упекли бы в тюрьму. Фарназ ждет Кейвана на тротуаре, ей ужасно хочется курить. «Ягуар» все еще стоит неподалеку – можно подумать, Исаак вот-вот выйдет из ворот, и они вдвоем отправятся перекусить.
Фарназ прожила с Исааком двадцать пять лет и даже не представляла себя без него: его присутствие рядом, как и та вилла, которую он для нее построил, конечно же, украшали жизнь, но вместе с тем были и источником тревоги. Когда Фарназ познакомилась с Исааком в Ширазе – как давно это было, – она изучала литературу. Впервые Фарназ заметила своего будущего мужа, когда обедала в чайной рядом с университетом. Он сидел один, что-то пил и читал книгу. Их разделял бассейн с прозрачной, голубоватой водой, на его бортиках стояли терракотовые вазы. Когда Исаак наконец поднял голову и взгляд его упал на нее, она отвела глаза и не ответила, как собиралась, улыбкой на улыбку. На следующий день она снова пришла в чайную, пришел и Исаак. Тогда она приписала эту вторую встречу случайности, но позже узнала, что Исаак пришел в надежде снова увидеть ее.
Он спросил:
– Это твой попугай, вон там, или он просто летает за тобой? Я заметил, вчера он тоже был здесь.
Фарназ подняла голову и увидела изумрудно-зеленого попугая с красными перьями – попугай сидел на кипарисе прямо над ее столиком. Фарназ сочла это добрым знаком:
– А я думала, это твой шпион следит за мной, – ответила она.
Исаак представился, рассказал, что на лето думает записаться в поэтический семинар. Он бы рад учиться круглый год, но работает в Тегеране и надолго отлучаться не может. Фарназ понравились его веселые глаза, но больше всего ее впечатлила его уверенность в себе. Однако годы спустя ей стало казаться, что это не так уверенность, как упрямство, может быть, даже жесткость.
А вот и Кейван подъехал, они вместе идут к воротам, он нажимает на кнопку звонка. Мортаза открывает ворота, он такой злой, что кажется, плюнь – зашипит.
– Ну что вам еще?
– Что здесь происходит?
– Я уже объяснил Фарназ-ханом. Мы прячем драгоценные камни в надежное место.
– Куда?
– У меня нет времени на разговоры.
Мортаза пытается захлопнуть ворота, но Кейван не отпускает створку.
– Послушайте, прошу вас по-хорошему: уходите, – говорит Мортаза. – Не ваше это дело. Не вмешивайтесь, не то хуже будет.
За Мортазой Фарназ видит работников Исаака – есть тут и незнакомые люди: они ходят туда-сюда, загружают грузовик. Уносят не только драгоценные камни, а и радиоприемники, кожаные кресла, картотеки, телефоны. Фарназ лезет в сумочку, выхватывает баллончик лака для волос и прыскает Мортазе в лицо. Мортаза с криком падает на колени, трет глаза.
Фарназ и Кейван входят во двор, погрузка прекращается. Все – кто с коробками в руках, кто со столами – опускают глаза.
– Что тут происходит? – спрашивает Фарназ. Все молчат. Только Мортаза время от времени изрыгает проклятия. Чуть спустя один из работников, он нес стул, – Фарназ узнает бухгалтера Сиямака – идет к грузовику. Постепенно, не обращая на нее внимания, другие тоже принимаются за дело. Кто-то приносит Мортазе стакан воды – промыть глаза.
В углу, у фонтанчика стоит камнерез Фархад, одну руку он положил на живот, другой держит сигарету. Фархад невозмутимо взирает на происходящее, но участия ни в чем не принимает. Он улыбается Фарназ и отводит взгляд. Фарназ идет к нему, но ей то и дело преграждают дорогу.
– Фархад-ага, хоть вы объясните, что здесь творится.
Камнерез глубоко затягивается, со вздохом выпускает дым.
– Уж вы простите, Фарназ-ханом. Все пошло наперекосяк. Я пытался их отговорить, да куда там. Они говорят, я не понимаю, как нас все эти годы эксплуатировали. Говорят…
– Эксплуатировали? Да они все прежде были безработными, бродягами. А Исаак дал им работу. Он их обучил, платил жалованье, которое они, может, и не заслуживали. И это называется эксплуатация?
– Ну, Фарназ-ханом, не скажите. Все-таки бродягами мы не были. Может, образования у нас не хватало, и все же…
– Извините. Я не то хотела сказать. И конечно же, не вас имела в виду. У меня в голове не укладывается, как они могли пойти на такое, как могли забыть все, что Исаак сделал для них.
Фархад снова затягивается, пожимает плечами.
– Время такое, – говорит он. И, понизив голос, прибавляет: – Простите.
В другом углу двора Кейван ведет разговор с Мортазой:
– Разве так можно? – кричит Кейван. – Еще даже суда не было!
– Суд? – Мортаза смеется. – Если вы надеетесь на суд, как бы вам не разочароваться. Но так или иначе, мы оберегаем имущество, а наглые недоумки вроде вас принимают это за воровство.
– Будет тебе, Мортаза, – цедит Кейван. – Ясно же, чем вы тут занимаетесь.
– А даже если и так? Что вы можете нам сделать?
– Мортаза, – вступает в разговор Фарназ. – Почему вы так поступаете? Разве мой муж плохо относился к тебе? В чем-нибудь отказывал?
– Видите ли, ханом, – Мортаза смотрит на нее, от лака глаза у него все еще красные и слезятся. – Вы не хотите меня понять. А я не лукавлю. Дело ведь не в одном человеке. Их много – тех, кто повернулся спиной к несправедливости, кто наживался при коррупционном правительстве, понастроил себе вилл и разъезжал по странам, о существовании которых такие, как я, даже не подозревали. Господь услышал молитвы обездоленных. Господь откликнулся на призыв правоверных, а не грешников. Господь…
– С каких это пор ты стал таким правоверным? Забыл, как всего пару лет назад щеголял в узких джинсах и просил машину, чтобы прокатить одну из пятерых своих подружек? Думаешь, отрастил бороду и вмиг стал верующим?
Фарназ замечает, что погрузочные работы остановились – мужчины сгрудились вокруг них, как школяры, сбежавшиеся посмотреть на потасовку.
– Фарназ-джан, Фарназ-джан, довольно, – шепчет ей на ухо Кейван, но она не слушает его. Ее уже не остановить.
– С каких это пор воровство считается богоугодным делом? Вы лицемеры! Дорвались до власти, но как властвовать, понятия не имеете.
– Заткнись, еврейка паршивая! – взрывается Мортаза. – Я пытался говорить с тобой уважительно, да, видать, напрасно. Так что теперь, какая ты есть, так и называю тебя.
Вокруг перешептываются: большинство одобряет Мортазу, укоряют немногие. Фарназ отворачивается к стене, чтобы скрыть слезы. За эти годы кирпичную стену увили плети плюща – ни дать ни взять полураспустившийся ковер. За спиной Фарназ снова закипает работа: скрипят столы, с глухим стуком падают коробки, звякают закидываемые в грузовик телефоны. Заметно холодает. Кейван обнимает Фарназ за плечи. Его худые, длинные руки так непохожи на сильные, хваткие руки Исаака. Кейван долго не убирает рук с ее плеч, и Фарназ не стряхивает их. Он укутывает ее шею своим шарфом и ведет к воротам.
Когда они приезжают к Фарназ, Кейван помогает ей подняться наверх, усаживает на кровать. Садится на корточки, снимает с нее туфли и укладывает ее голову на подушку. Заваривает чай, приносит таблетку аспирина и стакан воды. После чего садится рядом, растирает ей лоб, и Фарназ засыпает в залитой солнцем кровати.
Просыпается она от холода и не понимает, где находится. В комнате темно – значит, впереди одинокая, тревожная ночь. Фарназ садится в кровати – надеется, что Кейван где-то тут, но он ушел, хотя на шее все еще его шарф.
За закрытой дверью спальни Фарназ слышит приглушенные голоса Ширин и Хабибе. Делится ли Мортаза с матерью своими планами, думает она. И не пора ли расстаться с Хабибе? Но кто тогда будет присматривать за Ширин? Фарназ не уверена, что справится одна – сейчас вряд ли. Она прислушивается к голосу дочери и вспоминает свою мать: вот та стоит у плиты и велит Фарназ заканчивать уборку – к шабату или какому-нибудь другому празднику. Фарназ слышит отца – в шабат он во главе стола с молитвенником в одной руке и бокалом вина в другой читал молитвы печальным баритоном, а все слушали его, не замечая ничего вокруг – ни отмытых до блеска тарелок под жаркое, ни хрустальных бокалов для вина, ни радиоприемника, вещавшего о войне в Европе, о восшествии на трон нового шаха, этого «бесхребетного» сына Реза-шаха[37]37
Реза-шах – шах Ирана с 1925 по 1941 г. В 1941 г. отрекся от престола в пользу сына Мохаммеда Реза Пехлеви.
[Закрыть]. Когда отец был дома, приемник никогда не выключался.
Фарназ вспоминает, как в пятницу, закончив домашние дела, шла с отцом по узким, немощеным улочкам покупать сласти. Во время одной такой прогулки – ей было примерно столько же, сколько сейчас Ширин – Фарназ рассказала отцу, что отец ее лучшей подруги Азар совершает хадж, паломничество в Мекку, и что по возвращении получит желанный титул хаджи.
– Баба, а ты тоже отправишься в паломничество? – спросила она отца.
– Нет, Фарназ-джан, – ответил отец. – Мы евреи. А евреи не совершают хадж.
– Тогда как же мы станем хаджи?
– Никак.
– Это несправедливо. Они могут стать святыми людьми, а мы не можем?
– Интересно, с каких это пор ты загорелась желанием стать святой?
– Просто хочу знать, вдруг я когда-нибудь решу стать святой.
– Понятно. Для тебя это вроде страховки, да? Ну, хорошо. Расскажу тебе как. Мы можем изучать Тору. Можем стать раввинами. Ты ведь знаешь, евреи – избранный народ. – Он часто повторял эту фразу.
– Кем избранный?
– Избранный Богом. Он нас выделяет.
– А другие народы не считают, что они тоже избранные?
– В каждой религии есть свои верования, каждая по-своему толкует, как произошел мир.
– Если так, как узнать, кто толкует это правильно?
Отец поднял глаза к небу, вздохнул.
– Если ты рождена еврейкой, значит, ты веришь в то, как это толкуют евреи. Вот так!
Долгое время они шли молча, Фарназ держала отца за руку, у нее то и дело подворачивались ноги. Ответ отца ее не устроил. Ну что это за ответ – все равно как если бы он сказал: раз ты живешь в этом доме, он лучший во всем районе. А если живешь в соседнем, самый лучший соседний.
– Баба, но евреи – они иранцы или нет?
– Конечно. Евреи жили в Иране с давних времен, еще до Кира. Столько веков жили и, пока их не объявили наджес – нечистыми, не знали горя. А тогда евреи и потеряли и работу, и дома, и имущество… Пришлось им поселиться в чем-то вроде гетто. А поскольку оно находилось в самой низине, когда шли дожди, весь мусор из Тегерана смывало туда.
Фарназ представила, каково жить в такой вот сточной канаве: ютиться в однокомнатном домишке с родителями, хлебать суп из миски, в которую стекали испражнения со всего города.
– И ты жил в таком гетто?
– Нет. К тому времени, как я родился, правительство снова полюбило евреев.
– Как так: одно правительство евреев любит, другое – нет?
– Фарназ-джан, у тебя столько вопросов – отвечать не успеваю! Ну-ка, давай купим сласти и забудем, кто любит евреев, а кто нет.
Они прошли в лавку, и, пока отец выбирал пирожные, Фарназ увидела себя в зеркале. Ей часто говорили, какая она хорошенькая и какой красавицей станет. Глядя на свое отражение, Фарназ подумала: «Какое мне дело до их гетто, их нищеты?» Годы спустя, когда родители эмигрировали в Израиль, она осталась здесь.
– Почему я должна уезжать? – сказала она им. – Это моя страна, и мне здесь хорошо.
А сейчас, думает она, Иран стал страной доносчиков. И чтобы выжить, ты должен либо доносить, либо… либо тебе суждено исчезнуть.
Глава двадцать вторая
– Ты какие цветы больше всего любишь? – спрашивает Рохл.
Цветы Парвиза особо не интересуют. На ум приходят только роза, подсолнух да гвоздика, впрочем, сказать, что он любит их больше всех, никак нельзя. Но тут он вспоминает, что отец дарил маме белые орхидеи.
– Белые орхидеи, – говорит он.
– Да, они красивые. Мне они тоже нравятся. Но уж больно капризные, с ними много возни – нужны определенное освещение, тепло, влажность.
– Моя мама любит орхидеи. Они ей по нраву.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что твоя мама нравная? – улыбается Рохл.
Чтобы повидаться с Рохл, он выдумал предлог – ему нужно купить цветы для одной знакомой. Все утро в университете он представлял, как Рохл поливает цветы, как листья под тяжестью капель склоняются к ней. Сейчас он идет за девушкой – она показывает ему цветы. Похоже, Рохл не держит зла за тот его ляп насчет экспорта религии.
– Вот это, – говорит Рохл, – гербера. Она такой же формы, как подсолнух, только более хрупкая. А там, – она показывает на крепкие стебельки с белыми ватными облачками, – гипсофила. Цветки легкие, прямо волшебная пыльца. Но расскажи мне о своей подруге поподробнее. Что она за человек?
– Бойкой ее не назовешь, но она славная. А вообще-то я с ней плохо знаком.
Рохл смотрит на него подозрительно.
– Тогда тебе лучше взять красные камелии. Или ромашки.
Мистер Брухим – он выкладывает на полки пакеты с землей – поднимает на них глаза.
– Ох, не ходи ты, Парвиз-джан, по этой дорожке! – бросает он. – На твоем месте я купил бы желтые гвоздики или лиловые гиацинты.
– Не слушай мистера Брухима, – Рохл улыбается. – Желтые гвоздики означают пренебрежение, а лиловые гиацинты – к печали.
Парвиза завораживает этот тайный язык. В мире без слов люди могли бы общаться посредством и языка цветов. Наверняка для каждого чувства – любви, радости, одиночества, страха, печали и даже надежды – есть свой цветок.
Он покупает ромашки – Рохл объясняет, что они означают приязнь. А когда приходит домой, оставляет цветы на крыльце – там, где обычно стоит Рохл. Он недоумевает, чем же эта девушка привлекает его. Красавицей ее не назовешь, к тому же и держится она отстраненно. Парвиз вспоминает девушек, которых встречает на занятиях, – почти все они недурны собой, но ужас до чего самоуверенные. Вспоминает и тех, с кем был знаком в Иране, – Моджган, Нахид, даже Ясси – с ней он дружил два года, – все они, хоть и кокетничали напропалую, честь свою хранили как драгоценность в ожидании оценки: насколько камни чисты, насколько дороги, на сколько потянут?
Рохл ни на кого из них не похожа. И ее религиозность, еще недавно отпугнувшая бы Парвиза, теперь сулит спокойствие, то, чего ему так недоставало с самого его приезда в Америку. Может, именно из-за своего безверия Парвиз передоверил свои остающиеся без ответа молитвы ей – когда она рядом, в нем неизвестно почему воскресает надежда, что отец выживет.
* * *
На следующий день, отпаривая шляпы в мастерской Залмана, Парвиз не спускает глаз с двери. День уже клонится к закату, но Рохл так и не появилась, и Парвиз ощущает слабость во всем теле, жар.
– А Рохл так и не принесла вам обед, – замечает он как будто невзначай.
– Она звонила, сказала, что ей нездоровится, – говорит Залман. – После работы сразу пошла домой.
– Простудилась?
– Не знаю. Сказала только, что ей нездоровится.
Парвиз ощущает себя автомобилистом, вдруг упершимся в тупик, – поначалу тот винит плохие указатели, потом плохую видимость и только потом – себя.
Глава двадцать третья
Мать Рамина и старшую дочь старика Мухаммада убили в одну и ту же ночь. Их имена появляются в газете в списке казненных, и к тому времени, как Исаака и других заключенных выводят на очередную прогулку – глотнуть положенную им раз в неделю порцию свежего воздуха, – новость разносится как холера в промозглом городе. Старик садится на землю и обхватывает костлявые колени, Рамин, скрестив руки на груди, прислоняется к стене, глаза у него остекленели. Вот так вот, думает Исаак, смерть объединила три поколения.
– В нашей стране правят выродки, – говорит Хамид.
Исаак собирается с духом – не иначе как Реза сейчас начнет разглагольствовать: мол, в их стране всегда правили выродки. Но Реза молчит. Все здесь внимательны друг к другу, как на похоронах, и ведут себя подобающе.
– Если за ними нет никакой вины, они мученики, – говорит Реза. – В таком случае горевать не о чем.
Хамид буравит Резу глазами, но держит себя в руках.
– Мама никакая не мученица, она – коммунистка, – говорит Рамин. – И вообще, никаких мучеников нет. – Обращаясь к старику, он говорит: – Мухаммад-ага, не убивайтесь. Как только выберемся отсюда, мы им отплатим за все.
Старик не поднимает головы. Он долго молчит. Потом слышится его убитый голос:
– Если ковер твоей удачи соткан из черных нитей, даже водам Замзама[38]38
Замзам – источник в Мекке, священный для мусульман.
[Закрыть] не отбелить его.
* * *
Мехди спит, правая его нога раздулась, большой палец полностью почернел. Кое-как обструганный деревянный башмак валяется на полу кверху подошвой. В камере невыносимая вонь. Исаак с трудом опускается на пол рядом с матрасом Мехди. Смотрит на Мехди – он осунулся, веки у него пожелтели, глаза запали. Исаак щупает лоб Мехди.
– Мехди-джан, ты спрашивал их насчет ноги?
– Да, спрашивал сегодня утром. В лазарете отказали.
Дверь открывается, охранник вталкивает Рамина в камеру с такой силой, что тот ничком падает на матрас.
– Осел, хочешь кончить как мать?
– Брат, Хосейн-ага сегодня дежурит? – спрашивает Исаак.
– Его смена позже. А что?
– Он советовал мне подумать над одним аятом из Корана; я хотел бы обсудить его с ним.
– Хосейн дежурит в ночную смену, – охранник подозрительно оглядывает Исаака. – Если придет в голову что-нибудь путное, поделись с этим недоумком. – Охранник показывает пальцем на Рамина и уходит.
Рамин щупает лицо – сильно ли он проехался но матрасу.
– Аят из Корана?
– Да нет, это я так. На самом деле я хочу попросить Хосейна помочь Мехди с ногой. На него вся надежда.
– А вы смекалистей меня, Амин-ага, – говорит Рамин. – Я бы не смог так соврать.
Исаак смотрит на Рамина – лицо у него, хоть он и немало пережил, все еще юное, карие глаза горят. А ведь они осиротили парня, думает Исаак.
Остаток дня он не встает с матраса – ожидает, когда откроется прорезь в двери. Как только Хосейн просунет в нее тусклый металлический поднос, он попросит его помочь Мехди. Исааку кажется, что тот способен на сострадание. В отличие от других охранников, в нем при всей его суровости видна добрая душа: так Хосейн в первый день заключения принес ему аспирин, так он предупредил заключенных о том, что казни участились. Может, он обрушил на них эту новость без предупреждения, но он не угрожал им, как остальные охранники, а хотел предостеречь.
Исаак наблюдает за игрой света и тени за окном. Но вот наконец наступают сумерки – унылый итог очередного дня. В этот день старик потерял дочь, Рамин – мать, а Мехди потеряет ногу. Ну а сам он что потерял сегодня? Вернее, что еще он может потерять? Исаак понимает, что теперь должен думать о жене и детях, никак не связывая их судьбу со своей, а просто любить их и желать им счастья. Потерять их он не может, их у него и так уже отобрали.
Прорезь в двери открывается. Из коридора на пол падает желтый прямоугольник света, в прорезь просовывается поднос.
Исаак хватает поднос, ставит на пол, вглядывается в прорезь. Сквозь прорезь на него смотрят серые глаза Хосейна.
– Брат Хосейн?
– Ну?
– Брат, Мехди умрет, если его ногу не лечить. Может, они и скажут: ну и что с того? – но его смерть должна быть только следствием его преступления, а не болезни.
– Тебе бы о себе подумать, а не о чужих болезнях.
– Брат, даже я в моем жалком положении не могу спокойно смотреть, как на моих глазах умирает человек. Пожалуйста, помогите ему!
– Попробую. – Некоторое время охранник смотрит в глаза Исааку, затем с лязгом опускает металлическую задвижку.
* * *
Исаак пытается разбудить своих сокамерников – принесли ужин, но никто не откликается. Мехди потерял сознание – наверняка от боли, Рамин раскинулся на матрасе и что-то бормочет. Исаак, скрестив ноги, садится перед подносом в одиночестве. В оловянной тарелке – рис, три сильно помятые куриные ножки и хлеб. Вообще-то Исаак мог бы съесть и чужие порции – так он ослаб, но не может доесть даже свою. Он отщипывает куриное мясо с кости, заворачивает в лаваш. Садится на матрас рядом с Рамином, кладет голову парня себе на руку, другой подносит лаваш к его рту.
Рамин открывает глаза, видит Исаака, всхлипывает:
– Амин-ага, они убили, убили мою маму!
Исаак не сразу решается, но все же обнимает Рамина, и тут же его пронзает мысль: а ведь он давно уже не обнимал своих детей.
Около полуночи дверь открывается, входят двое с носилками, в темноте носилки можно принять за бревно. Один охранник просовывает руки под мышки Мехди, другой берет за щиколотки, они поднимают его и швыряют на носилки. Мехди вскрикивает, бормочет: «Папа, папа, почему они так обходятся со мной, как ты им позволил? Папа, папа…» Вот ведь странность, думает Исаак: что бы сыну ни довелось пережить за долгую жизнь, в конце концов он взывает к отцу.
– Биджан Ядгар, Бехру Годен… – выкрикивает охранник. – Джаханшах Сохейл, Вартан Софоян, Рамин Амери, Исаак Амин… – Услышав свое имя, Исаак чувствует, как ужас, который он столько месяцев старался одолеть, овладевает им, растекается как расплавленная лава. Он застывает на матрасе, громыхание ключей, скрежет замков кажется ему реквиемом, под звуки которого он тонет.
Охранники с носилками командуют:
– Эй, вы, двое, а ну встать! Вас вызывают.
Рамин открывает глаза и снова закрывает, но охранник хватает Исаака за шиворот, а Рамина за ухо и выволакивает их в коридор, где уже собираются заключенные из других камер, а среди них и пианист.
Всех ведут этажом ниже, в освещенную люминесцентными лампами комнату с облупленными стенами, почерневшим линолеумом на полу, ржавой металлической раковиной, рядом с ней змеящийся шланг и черное ведро, повсюду, куда ни глянь, красновато-бурые пятна. В комнате холодно, сыро, стоит какой-то незнакомый запах – так пахнет на бойне, в ванной, а еще так пахнет аммиак. Исаак смотрит на Вартана – лицо его закаменело, он ломает руки. Заметив Исаака, Вартан закусывает губу, качает головой.
Рамин хватает Исаака за руку:
– Ничего, Амин-ага, все обойдется. Все будет хорошо. Вот увидите… Ну а нет, мы непременно встретимся там. Почему бы и нет? Раз мы ни в чем не виноваты, может, и вправду станем мучениками. – Он улыбается, его глаза обегают комнату. – Как знать, вдруг нас там уже ждут по семьдесят две девственницы на каждого…
Заключенных разбивают на две группы. В первой, кроме Исаака, оказываются два незнакомых ему заключенных, чьих имен он не расслышал; Рамин и Вартан попали во вторую, в их группе в основном мужчины лет двадцати-тридцати. Что-то такое разделение напоминает Исааку: он читал, что в концлагерях отбирали годных для тяжелых работ – им сохраняли жизнь, стариков же отправляли в газовые камеры.
Вторую группу выводят. К горлу Исаака подкатывает тошнота. Один из двух незнакомых ему заключенных – высокий, изможденный старик лет шестидесяти в очках с толстыми стеклами мечется туда-сюда, другой, плешивый, часто моргает, бормочет что-то себе под нос. Двери распахиваются, входит охранник.
– За мной, – командует он.
Он ведет их во двор тюрьмы через черный ход. Во дворе в лицо Исааку ударяет порыв ледяного ветра, его бьет неудержимая дрожь. Их тяжелые шаги гулко отдаются в залитом голубоватым светом луны дворе, изможденный старик твердит: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Исааку кажется, что они идут довольно долго, поворачивая то налево, то направо, продвигаются в самую глубь чрева тюрьмы. По пути им попадается та группа, которую увели раньше, Исаак ищет глазами Рамина и Вартана, но не находит. «Исаак!» – доносится до него шепот Вартана. Исаак оборачивается, но охранник тычет его винтовкой в спину. И они идут дальше, пока не доходят до другого крыла тюрьмы. Охранник отпирает ворота, после чего каждого вталкивают в отдельную камеру.
– Тебя решили посадить в одиночку, – говорит охранник.
В тесной камере помещается только матрас и умывальник. Исаак валится на матрас, пытается унять дрожь, сотрясающую измученное тело. Он понимает – сегодня его не тронут.
Исаак лежит, прислушивается к звукам, доносящимся со двора. Вот оно – началось: летят пули, раздаются вопли, мольбы, глухие удары падающих тел. И – тишина.
Исаак думает о Рамине, о том, что смерть разлучила его с матерью всего на день, думает о Вартане – в последний раз он встал не перед полным залом, а перед расстрельным отрядом.