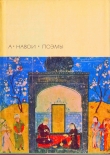Текст книги "Сентябри Шираза"
Автор книги: Далия Софер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Глава тридцать первая
Каждый раз, когда Ширин смотрится в овальное зеркало, она видит позади себя, на вешалке у входа плащ отца. Плащ провисел там всю зиму; интересно, замечают ли его Хабибе и мама, когда перед выходом из дома смотрятся в зеркало? На остальных крючках ничего нет – видно, никто не решается повесить свое пальто рядом с потерявшим форму плащом.
Она заправляет выбившиеся пряди под платок. В платке и длинном, чуть не до полу одеянии она чувствует себя уродиной. И зачем только заставляют выходить на люди во всем темном: сером, синем, черном? На случай траура? «Мы все знаем, что нас ждет, – как будто говорит одежда. Так к чему притворяться?»
* * *
В дальнем конце игровой площадки дети гоняют мяч, мяч то и дело грохается о железную дверь.
– Я так и знала, – говорит Лейла. – После того как я всех допросила, никто со мной больше не водится. – Она наблюдает за игрой. Потом говорит – Наверное, это была ты.
– Что?
– Ну да, ведь это ты взяла папки. Верно? Пожалуйста, скажи правду. – Лейла умоляюще смотрит па Ширин. – Утром папа сказал, что из-за пропажи папок стражи исламской революции выгнали его. Он до того зол, что потребовал у меня список всех моих подруг. Он собирается допросить их сам.
Ну, теперь мне точно конец, думает Ширин. Если за меня возьмется отец Лейлы, он мигом все выяснит. Голова кружится, дышать трудно. Она шарит в кармане – хватает печенье в обертке, давит его.
– Да ты не волнуйся, – говорит Лейла. – Тебя я в список не включила.
Ширин смотрит вниз – ее ноги словно вросли в землю.
– Спасибо, – говорит она, не поднимая глаз.
Лейла встает, отряхивая пыль с одежды.
– Надеюсь, я поступила правильно. Ты же моя единственная подруга. Никто не приходил ко мне в гости так часто. Не пил у меня чай, не ел сыр, не предлагал моей маме помочь снести яблоки в подвал. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. – Уходя, она говорит: – Знаешь, лучше нам не встречаться слишком часто. – И идет на другой конец площадки – стоит там одна, смотрит на игру.
Тебя я в список не включила. Ширин вертит в кармане печенье, вернее, то, что от него осталось, – печенье-то чем виновато, – крошки прилипли к руке. Она гадает, придется ли отцу Лейлы снова вернуться в морг, на самое дно мусоропровода.
В медицинском кабинете Сохейла-ханом поит Ширин чаем с мятой; Ширин смотрит в окно на двор, он уже опустел. По стеклу ползут две мухи – вот уж, небось, рады-радехоньки, что оказались в тепле. Совсем маленькой Ширин ловила мух в прозрачный полиэтиленовый пакет и наблюдала, как они умирают. Каждый день она с научным интересом отмечала, как они угасают, как замедляются их движения, как они впадают в спячку, отказавшись от борьбы. Что, если сейчас подошло время расплатиться за свою жестокость? Она смотрит, как Сохейла-ханом убирает в шкафчик пузырьки с лекарствами и думает: сколько же мелких прегрешений должен накопить человек, чтобы его покарали смертью дочери. Или смертью отца.
Глава тридцать вторая
Трубку снимает сестра:
– Парвиз!
Стоит ему услышать ее голос, и напряжение отпускает, плечи расправляются. Он давно уже не звонил домой, и не только потому, что разговоры прослушиваются, а еще и потому, что в глубине души надеялся – родители сами позвонят, сообщат добрые вести. Но они не звонили.
– Ну, как там у вас? – он пытается перекричать помехи.
– Папа по-прежнему в разъездах. От него пока ничего.
Их с сестрой разговор перекрывает едва слышная чужая беседа.
– Но кто поймет? – спрашивает одна женщина у другой. – Зендеги хезар чарх даре, в жизни тысяча путей.
– Как вы с мамой? – спрашивает Парвиз, а сам думает, слышат ли его те двое. – Все хорошо?
– Да, – отвечает она. – Все нормально.
Он расспрашивает сестру про школу, про то, чем она занимается, про Хабибе, и она отвечает, что все в порядке. Посреди разговора он замечает, что женщин больше не слышно: может, они исчерпали тему, а может, их разъединили. Прощаясь, Ширин говорит, что целует его, и он долго не вешает трубку – слушает гудки, однообразные, как утро впереди. Сегодня ему не идти на работу, и он даже жалеет об этом. Чем еще заполнить столько пустых часов?
* * *
– Уход за спатифиллюмом несложный, – объясняет мистер Брухим молодой женщине, когда входит Парвиз. – Ему хорошо везде, много внимания он не требует.
Женщина щупает листья цветка, опасливо тычет пальцем в землю.
– Ох, даже не знаю, – говорит она. – Какой цветок ни заведу, непременно гибнет. Прямо проклятие какое-то.
Мистер Брухим смеется.
– Ну, этому не нужно много света или воды. Он как любовник, которому легко угодить: требует мало, вознаграждает сторицей.
Женщина смотрит строго:
– Мистер Брухим, – говорит она, – мне кажется, вы забываетесь.
– Да уж, еще чуть-чуть и… – говорит Парвиз, когда женщина уходит. – Я думал, она полицию вызовет. Или того хуже – ребе!
– Эти богомолки такие гонористые. Никакого чувства юмора. Чуть что, оскорбляются.
– Тем осторожнее надо с ними!
– Ох, знал бы ты, Парвиз-джан, как осточертела мне эта осторожность… Ну, так чем могу служить?
– Рохл у вас?
– Нет, сегодня у нее выходной. График поменялся. А ты, случаем, не влюбился?
– Я? Что вы! Мы просто друзья.
– Вот и хорошо. Не дай бог влюбиться. Подумать только: в придачу к набожной девушке получишь и все ее религиозное семейство! Они ведь, эти религиозные, нераздельны, Парвиз-джан. Тебе это известно?
Вещи Рохл – голубой шарф, заколки для волос, записная книжка – разбросаны позади прилавка, Парвизу мнится, что это говорит о простоте отношений, для него недосягаемой.
– Известно, – говорит он.
– Видишь ли, Парвиз-джан, я человек обойденный, так что, может, к моим словам и не стоит прислушиваться. Я столько всего потерял. Жена мало что меня бросила, так еще и обобрала до нитки. Профессии я лишился. А ведь в свое время считался одним из лучших кардиологов в Тегеране. Учился в Париже и Женеве. А в Америке диплом мой не признают. Требуют, чтобы я начал все сначала: учился, сдавал экзамены… как восемнадцатилетний юнец. Но силы у меня уже не те! В этой стране я веду призрачное существование. Возможно, потому, что я стар: у меня все позади и почти ничего впереди. Завидую я тебе, Парвиз. – Он вздыхает. – Завидую твоей молодости. – И он спешит к очередному покупателю – тот интересуется желтыми хризантемами.
Выйдя из цветочного магазина, Парвиз недоумевает – чему тут завидовать? Какой прок в его молодости – ему даже страдать не положено. Он уже понял: страдания – удел взрослых, их горе всегда уместно, благородно, не то что муки юнца вроде него, которому следует радоваться перемене обстановки, а свое небогатое прошлое запрятать подальше, извлечь его только через много лет и тогда смаковать, как вино, небольшими глотками, в обществе званых гостей.
* * *
Он переходит Бруклинский мост, шагает по городу; небоскребы отбрасывают на тротуары длинные тени, так что пешеходам последние лучи заходящего солнца не достаются. В Нью-Йорке преобладает мужское начало, думает он, город стремится ввысь, топорщится острыми углами, в нем нет ни округлых линий входов в парижские станции метро, ни мозаичных куполов исфаханских мечетей. Нью-Йорк – это стекло и металл, экономичность и функциональность. Округлые линии в нем – редкость. Перед его мысленным взором встают ореолы, кольца, колеса фортуны, циферблаты – символы несвободы, но и надежды. Он идет по расчерченной сетке Манхэттена, по пронумерованным улицам и параллельным авеню и думает: городу явно недостает округлости. Ньюйоркцы же стиснуты не только с боков, но и сверху, снизу, живут в тесноте, духоте и цейтноте, платят втридорога за глоток воздуха, селятся со своими кошками и собаками на самой верхотуре, забираются все выше и выше, а к себе так и не возвращаются.
Он гуляет весь вечер, заходит в закусочную подкрепиться кофе с яичницей, наблюдает за посетителями, число которых все время сокращается: семьи с детьми сменяются парочками, а парочки – одиночками, неопрятные, с газетой или книгой, они заказывают чизбургер с жареной картошкой и делают вид, что хотели провести очередной вечер именно так, а не иначе.
Около трех ночи, возвращаясь к мосту, он проходит через Фултонский рыбный рынок: фургоны, штабеля ящиков, торговцы рыбой, измазанные в саже, греют руки над разведенным в урнах огнем, торгуются с покупателями. От скользких, в пятнах крови, мощеных улиц пахнет морским портом – знакомый запах напоминает ему Рамсер, там у них домик на берегу Каспия. Ему приятно бодрствовать в такой час, вдыхать запахи моря, и он решает: чтобы понять мир и не впадать в отчаяние, нужно находить нечто новое, другое: режим сна, дорогу на работу, места прогулок, еду, а может, и дорогих сердцу людей.
Глава тридцать третья
В чайной уже сидят ранние пташки: прихлебывают чай, затягиваются, кое-кто прячет глаза за темными очками – скрывает следы бессонной ночи. Фарназ пьет чай, ждет, когда же Кейван заговорит. Он, однако, не спешит. Вид у него усталый, он похудел. Ему бы тоже не помешали очки.
– Что ты задумал, Кейван? – говорит она. – Твой звонок меня напугал.
Он бросает на стол – как игральные кости – два кубика сахара и загребает их.
– Мы с Шахлой уезжаем, – наконец говорит он.
– Вот как? Сначала Джавад, теперь вы…
– Два дня назад на Шахлу напали. Она возвращалась из парикмахерской и платком не замоталась, а только набросила его – не хотела испортить прическу. Какие-то мужчины стали насмехаться над ней, потом плеснули в лицо какой-то гадостью.
– Ушам своим не верю! Плеснули кислотой?
– Не знаю. Пока Шахла добралась домой, лицо у нее покраснело. Я долго отмывал ее, но лучше не стало. Сейчас жжения нет, но все лицо в красных пятнах. Шахла что только не пробовала. Целыми днями чистит огурцы, наливает в мисочки молоко, розовую воду, пропитывает в смесях губки и прикладывает к лицу, но все напрасно. А идти к врачу отказывается. Я привез врача домой, а она заперлась в ванной. Бедняга два часа простоял под дверью – уговаривал ее выйти. Так и не вышла. Стыдится. «Врач давно знает меня, – сказала она, – как я покажусь ему?»
– Может, еще пройдет? Вдруг это обычное раздражение?
– Да. То же самое говорю и я. Но ее лицо для нее все. По крайней мере, так она считает. «Я теперь уродина! – говорит она мне. – Так что ты свободен. Найди себе другую». – Он трет глаза ладонями, похоже, загораживает их от яркого света. – Столько лет прошло, а она все не верит, что я действительно ее люблю.
Официант собирает со стола пустые стаканчики, ставит новые, со свежим чаем.
– Хадж Али, – растягивая слова, обращается к официанту молодой парень. – Вам привезли яйца? Чай так хорош, что неплохо бы к нему еще и глазунью.
– Яйца? – смеется официант. – Да нам, почитай, уж с месяц не привозили яиц. Видать, ты, Казем-ага, до того накурился гашиша, что не заметил, как война началась.
Кое-кто из посетителей посмеивается. Непринужденная обстановка чайной удивляет Фарназ. По-видимому, здесь все друг друга знают. Каждый день они просыпаются через силу, и единственная их радость – встретиться с другими такими же праздношатайками. В такой ранний час она чувствует себя здесь не в своей тарелке. Привычный распорядок дня, семья, собиравшаяся утром за завтраком, глазунья и кипяченое молоко – всего этого нет и в помине.
– Я решил, что пора уехать, – говорит Кейван. – Здесь больше нельзя жить.
– Куда вы уедете? А дом? А имущество?
– Фарназ, у меня больше нет сил. Мне все равно, что будет с домом. Я уверен: придут и за мной. Почему бы и нет? Исаака уже взяли, Джавада ищут. Вообще-то меня должны были забрать в первую очередь – из-за связей отца с шахом.
А как же я, как же Исаак? – хочет спросить она.
– Мы поедем в Женеву, к моим родителям. Там хорошие врачи. Может, Шахлу вылечат.
Конечно, Кейван. Поезжай в Швейцарию, позаботься о Шахле. Почему нет? Я бы, если могла, сделала то же самое.
– Удачи вам! – говорит Фарназ. – Передай Шахле привет. Когда вы едете?
– Через две недели. Все уже готово. Недавно одним моим друзьям удалось тайно выехать из страны, и они связали меня с двумя надежными людьми. Нас вывезут через Турцию. Хочешь, расскажу, как их найти? Они тебе наверняка пригодятся, будем надеяться, что и Исааку тоже. – Он записывает на клочке бумаги имя, телефон, передает ей.
В подсобке чайной Хадж Али колет сахарную голову – звук ударов эхом отдается в зале. Посетители все больше молчат. По радио рекламируют обувную распродажу в центре города.
– Ты только посмотри, – после долгой паузы говорит Кейван. – Половина из них – наркоманы.
– В последнее время жить все труднее, – говорит она. – Оттого их все больше.
Они оставляют деньги на столике, выходят. На улице холод, сырость, туман. Они стоят друг против друга, никто не решается уйти первым.
– У тебя зонтик с собой? – спрашивает он. – Похоже, дождь собирается. – Кажется, он вот-вот заплачет.
– Да, с собой, – она показывает на сумку. – Что ж, до свидания, Кейван-джан. Иншалла скоро увидимся. – Она обнимает его и уходит. Какое-то время она чувствует на себе его взгляд, знает – он будет смотреть ей вслед, пока она не смешается с шумной толпой, заполонившей бульвар.
Проходя мимо торговцев в дверях лавок, коротающих утренние часы за пересудами, Фарназ вспоминает свадьбу Шахлы и Кейвана – ее пышно праздновали на вилле родителей жениха. Шахла в белых шелках не шла, а плыла от одних гостей к другим, по пути угощаясь то засахаренным миндалем, то нугой, в волосы ее были вплетены нити жемчуга, платье ниспадало мягкими складками. Круглое, точеное личико, которое в грустные минуты становилось одутловатым, – на него, как говорила Шахла, «наплывали тучки» – сияло, голова высоко поднята, спина прямая, ключицы, идеальные тире под изящной шеей, – все это как будто говорило: «Посмотрите, какое прелестное личико». Гости по усыпанной гравием дорожке стекались в сад, здоровались с молодоженами, занимали места у деревянных шпалер вдоль стены дома, пили арак, ели икру, щелкали пальцами в такт сантуру[47]47
Сантур – струнный музыкальный инструмент, напоминающий цимбалы или цитру.
[Закрыть] и томбаку[48]48
Томбак – небольшой цилиндрический барабан.
[Закрыть] и затягивали песни. А на холмах в нескольких километрах был шахский дворец, отчего гости чувствовали себя в какой-то мере причастными к великим мира сего и, довольные роскошью приема, не расходились до рассвета. И весь вечер Шахла, которую гораздо больше интересовал узорчатый фарфоровый сервиз, чем жених, смеялась, танцевала, радуясь, что поиск завершен.
– Конец делу венец, – шепнула Фарназ Исааку
На что тот сказал:
– Да уж, похоже, главной своей цели она достигла.
При мысли о Шахле, о ее изуродованном лице Фарназ нестерпимо жаль не только Шахлу, но и того образа жизни, для которого она, казалось, была создана; его бесстыдная роскошь, как и правительство, как и шах, были вечным предметом их насмешек, что, впрочем, ничуть не мешало им пользоваться этой роскошью.
– Амин-ханом! – окликает ее какой-то мужчина.
Она видит, что у мастерской стоит и курит сигарету их сапожник.
– Али-ага, как поживаете?
– Спасибо, слава Богу, ничего. А вы, ханом? Давненько вас не видел.
– Да, все как-то…
– А у меня тут дожидаются туфли вашего мужа. Я их починил еще в сентябре. А он так и не зашел за ними. Видать, забыл?
Фарназ радует, что сапожник не слышал об их горе. Некоторое время она молчит: хорошо почувствовать себя в мире, где Исаак, хоть и забыл забрать туфли, все еще с ними.
– Он был занят, – наконец говорит она. – Давайте я заберу, раз уж я здесь.
Фарназ проходит вслед за сапожником в мастерскую, где на металлических штырях вдоль стен висят туфли. Она разглядывает туфли – хоть и начищенные до блеска, они все равно выглядят жалко: прямо как дети в сиротском доме, наряженные к приезду усыновителей. Среди висящей обуви она замечает туфли Исаака – они сохранили форму его ног.
– Вот эти, – показывает она на них.
– Глаз-алмаз, – говорит Али-ага, снимая туфли с помощью длинного шеста. Он ставит их на прилавок, чтобы показать качество работы, она проводит рукой по коже, переворачивает, смотрит на подошвы.
– Отличная работа, Али-ага. Спасибо!
Сапожник опускает туфли в пакет, передает Фарназ, она забирает их – так вдова забирает из морга тело мужа – и идет домой; пакет болтается на запястье, туфли хлопают по ноге – они будто недовольны, что она нарушила их покой.
Глава тридцать четвертая
Он видит мир в черно-белых тонах: грязный снег, низко нависшее небо, серые бетонные стены – пятна воды въедаются в них как пролитые чернила – и собственную кожу, обтянувшую тело пепельно-серой патиной. Раны на ногах и те не красные – они покрылись струпьями. Теперь ему кажется, что цвет присутствует только в его воображении: красные порезанные и посоленные помидоры на обеденном столе, насыщенно-синее кольцо Фарназ, отливающие на солнце янтарем волосы дочери. В молодости он пренебрегал цветом – на шее у него, как жетон у собаки, болтался заправленный черно-белой пленкой фотоаппарат. В первые годы после свадьбы где только он не снимал Фарназ – в парках, чайных, в гостиной – она сидит, задрав голые ноги на журнальный столик; в видоискателе она выглядела актрисой, слегка раздраженной частыми съемками, но одновременно польщенной вниманием. На ту же черно-белую пленку он снимал и детей. Он предпочитал потаенность оттенков серого откровенности цвета, считал серый более содержательным, ностальгическим, более уместным для воспоминаний. Однако со временем ему стало не хватать цвета. Он поменял пленку и сравнил ее с прежней: не в пример его жизни, снимки стали более яркими, они не хуже картин запечатлевали порывы чувств.
В камере холодно. Он отходит от окна, ложится на пол, заворачивается в кусок дерюги, заменяющий одеяло. Пытается выковырять из дерюги насекомых, но они прячутся между нитей. Да ну их. В пасмурные дни вроде этого сложно определить время: должно быть, уже полдень, но неужели он может тянуться так долго?
Что сказала ему тогда в Севилье старая гадалка? По настоянию Фарназ он сел к столу, где она разложила карты, и будущее предстало перед ним в виде рыцарей и замков.
– Пять чашей, – сказала гадалка на ломаном английском и добавила: — Ay, Dios mio, la tarjeta de la muerte también, el número trece[49]49
Ах, боже ты мой, еще и карта смерти, номер тринадцать (исп.).
[Закрыть] – карта смерти, сеньор.
Карты – на одной изображен согбенный старец в черном, на другой – скелет в средневековых доспехах на белом коне – ужаснули его. На остальные карты – на них изображались маги, колесницы, жрицы – он и смотреть не стал, после тех двух какое они имели значение? В этот душный андалузский вечер он – ни жив ни мертв – сидел в тесной комнатушке с красным бархатным занавесом, откуда украшенная арабесками лестница вела в мезонин. Исаак еще при входе заметил там маленькую альбиноску, она наблюдала за посетителями сверху. Теперь даже ей, подумал он, известно, какая у меня незавидная участь.
– Не тревожьтесь, сеньор, – сказала старуха, дохнув на него чесноком. – La tarjeta de muerte[50]50
Карта смерти (исп.).
[Закрыть] вовсе не означает смерть. Это конец одного куска жизни и начало другого.
Позади гадалки поднимался, уходя в мезонин, дымок померанцевой травы; альбиноска таращила на него глаза в белых ресницах и хихикала.
– Старец-то? – продолжала старуха. – Да, он тоже означает потерю. Но гляньте перед его согбенной фигурой пустая чаша. Присмотритесь, и вы увидите позади него две полные золотые чаши. Просто, уважаемый сеньор, перед вами закроется какая-то дверь. Только и всего.
Только и всего? Помнишь, моя дорогая Фарназ, как винилась ты в тот вечер, как побледнела, как смеялась и пожимала плечами, утешая меня точно мать ребенка: «Чепуха какая! Эти так называемые ясновидцы любят нагнать страху. И думать об этом позабудь». Но я не забыл, не забыла и ты. Позже, в ресторане, когда мы стояли у бара с закусками, пытаясь найти забвение в сангрии, ты притихла, даже загрустила. В конце концов, разве не ты затащила меня к гадалке – в отместку за испытание, которому я подверг тебя днем? «Нет-нет, я не могу смотреть, как убивают животных», – твердила ты. Но я настоял на своем, купил билеты. Мы сидели у арены, солнце пекло, матадор в расшитом костюме вонзал в огромных, обреченных на смерть животных одну, вторую, третью, четвертую бандерилью, и на каждый удар толпа отвечала восторженным криком. Я смотрел на тебя, видел, как тебе тяжело, но гнул свою линию: «Ничего с ней не случится. Разве можно побывать в Севилье и не посмотреть корриду?» Так что ты, Фарназ, отомстила мне, и тебя мучили угрызения совести. Как и меня.
Он открывает принесенный Хосейном Коран, читает первый попавшийся аят, вспоминая арабский, который учил в старших классах. Куль аузу бираббиль фаляки Мин шарри ма халяка, «Скажи: „Прибегаю я к Господу рассвета от зла того, что он сотворил“»[51]51
Коран, сура 113-я. Пер. И. Крачковского.
[Закрыть]. Он читает вслух: слабый, хриплый голос кажется чужим, тем не менее чтение успокаивает. Читать вслух непривычно. В последнее время он чаще слушал. Вечером засыпал, слушая Би-би-си под треск коротковолнового приемника, просыпался под звуки утренней программы и национального гимна. Когда дети были маленькими, он слушал, как им читает жена – сказки оказывались занятнее газеты. Почему же сам он, в молодости мечтавший стать писателем, детям не читал? Почему думал, что хоть читать детям и необходимо, ему заниматься этим недосуг, читать должна Фарназ: у женщин уйма времени. Иногда за столом в конторе он вспоминал строчки любимого стихотворения: «Встану я, и пойду, и направлюсь на Иннисфри, / И дом построю из веток, и стены обмажу глиной»[52]52
«Остров Иннисфри» У. Б. Йейтса. Пер. А. Сергеева.
[Закрыть]/ или «Где благочестье – и где я, хмельной? / Длинна дорога между им и мной. /Что общего меж риндом и аскетом? / Там – проповедь, здесь чанг звучит струной»[53]53
Из «Дивана» Хафиза. Пер. Г. Плисецкого.
[Закрыть]. Неожиданно пришедшие на ум стихи радовали, сердце от них щемило, как от воспоминаний о юношеской влюбленности, но он тут же отгонял их – принимался за бумаги, которые требовалось срочно подписать.
Он выглядывает в окно: опять идет снег. Он ложится на матрас, смотрит, как снежинки ласкают воздух, нежные, точно осенняя паутинка. В этот вечер в тюрьме спокойно: не слышно ни лязга замков, ни шагов во дворе, ни топота малыша наверху. Даже муравьи, сгрудившиеся у крупинок сахара, движутся четко, выверенно, будто шагают в такт неслышной ему симфонии. Он засыпает, умиротворенный воцарившимся порядком, и, когда его будит знакомый лязг ключей, думает, что ему это видится во сне.
– Брат Амин! Вставай!
Он открывает глаза: перед ним три охранника.
– Следуй за нами, – говорит один. Двое других подхватывают его под руки, ставят на ноги.
Он пытается заговорить, но не может выдавить ни звука.
– Куда? – наконец удалось ему произнести. – Куда? Куда?
Исаака волокут по темному коридору, освещает его лишь фонарик идущего впереди охранника. Бетонный пол царапает босые израненные ноги, от них по телу расходятся волны боли. Он чувствует, как грудь сжимается, сердце колотится все сильнее.
– Прошу вас, – говорит он. – Мне очень плохо.
– Очень или не очень – неважно, – бросает тот, что идет впереди. Он отпирает одну за другой железные двери, и Исаак оказывается на улице: метет снег, дырявую дерюгу пронизывает холодный ветер. Израненные ноги немеют. Он понимает: его час пробил. Ждет, когда вся жизнь промелькнет перед ним, но ничего похожего – к горлу подкатывают рыдания, и только. Но даже зарыдать он не может.
Его тащат в дальний угол двора, приказывают повернуться лицом к стене, поднять руки вверх. Он, преодолевая усталость, медленно поднимает руки, и вот тут-то его жизнь и предстает перед ним: смутные образы, сливающиеся один с другим, проносятся с такой скоростью, что он не успевает их разглядеть, ощущает лишь горечь утраты.
– Аллаху Акбар! – кричит охранник.
Исаак слышит хруст льда под сапогами, щелчок затвора, выстрел – пуля отскакивает от стены, падает в снег, за ней еще одна, еще… Он стоит, не шевелясь, подняв руки вверх, по ногам стекает моча, он боится сдвинуться вправо или влево.
– Довольно! – орет охранник.
Последняя пуля отскакивает от стены, и Исаак, не веря своим ушам, прислушивается к тишине.
– Пусть этот паразит посидит в своем дерьме и подумает, поймет, что к чему.
Он падает на снег, лежит лицом к стене – не хочет видеть ничего, кроме стены.
Он чувствует под собой лед и вспоминает теплый матрас в камере. В памяти всплывают еще одни строчки: «Память о белизне всегда белее самой утраченной белизны»[54]54
Из поэмы Уильяма Карлоса Уильямса «Патерсон» (1946–1958). Пер. М. Фаликман.
[Закрыть].