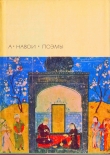Текст книги "Сентябри Шираза"
Автор книги: Далия Софер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Глава двенадцатая
Раз в неделю заключенных на час выводят из камер. Сегодня Исаак сидит возле тюремной мечети вместе с Мехди, Рамином и еще кое с кем из заключенных: среди них Хамид, генерал, служивший в шахской армии; Реза, молодой революционер – он участвовал в захвате американских заложников, а в тюрьму, по всей видимости, попал за то, что помогал своему отцу, шахскому министру, бежать из страны; старик Мухаммад, про которого никто ничего толком не знает, кроме того, что в женском блоке сидят три его дочери – одна как коммунистка, другая как прелюбодейка, а третья как их сестра.
– Чудо что за день! – восклицает старик. – Воздух такой чистый, что можно различить запах жасмина.
– Ну и богатое у вас воображение, Мухаммад-ага, – говорит Реза. – Я так ничего, кроме вони от ног Мехди, не чувствую. – И, оборачиваясь к Мехди, говорит: – Требуй, чтобы тебя лечили, не то останешься с культями. Глянь, большой палец уже чернеет.
Мехди вытягивает ногу, рассматривает забинтованную ступню и пожимает плечами.
– Погоди, Реза-ага, настанет и твой черед, – говорит Хамид.
Исаак слышит в его словах не так предупреждение, как укор. Хамида уже не раз водили на допрос и каждый раз били по пяткам. Его распухшие ноги выпирают из коричневых пластиковых тапочек, на них больно смотреть.
– Да мне вообще здесь делать нечего, – огрызается Реза. – Все знают, что меня арестовали по ошибке.
– Никакой ошибки нет, и посадили нас с тобой по одной причине, – невозмутимо говорит Хамид. – И твой отец, и я верой и правдой служили шаху, так или не так? Все мы знаем, что ты помог отцу бежать.
– Чепуха! Мы с отцом к тому времени давно прекратили разговаривать.
К ним приближается охранник, наставляет на них винтовку:
– А ну молчать! – орет он.
Все замолкают. Исаак притрагивается к ожогам от сигарет на груди и лице, время от времени раны дают о себе знать. Голубь, хлопая крыльями, опускается неподалеку от них. Тычет клювом в землю, но ничего не находит и взмывает в небо.
– Я слышал, Фариборзу передали блок «Мальборо», – говорит Рамин. – К нему недавно приходила жена. Фариборз продает их по пятьдесят туманов.
– За сигарету? – спрашивает Мехди.
– Ну да.
Цена неслыханная, и Исаак усмехается: тюремная торговля озадачивает его. Но до сих пор он не знал, что членам семьи дают свидания, и это озадачивает его еще больше.
– А что, здесь разрешают свидания с родственниками? – спрашивает он.
– Разрешают? – говорит Хамид. – Кому удастся подкупить охранников, тот может проникнуть за ворота. Вот и все разрешение.
– Почему это вас так интересует, Амин-ага? – спрашивает Реза. – Уж не собираетесь ли вы делать дела из тюремной камеры?
Исаак смотрит поверх голов собеседников – на линию горизонта, виднеющуюся за тучами пыли. И ничего не отвечает.
– А знаете, в чем ваша беда? – не унимается Реза. – Вы ни во что не верите, у вас нет убеждений. Вам бы только покупать итальянские туфли, часы с наворотами да приморские виллы, больше вам ничего не надо. «Плевать мне, какой режим, лишь бы он не мешал делать деньги!» Так или не так, а, Амин-ага? Ведь вас больше ничего не интересует!
Исаак чувствует, что все уставились на него. Его бросает в жар. Он понимает: в чем-то Реза прав – у него, Исаака, действительно нет убеждений, по крайней мере, таких убеждений, как у Резы. Конечно, он часами может говорить о политике, что зачастую и случалось, когда друзья собирались у него в гостиной, потягивали виски со льдом, закусывали свежеподжаренными фисташками, засиживаясь далеко за полночь. Но Реза и ему подобные за свои убеждения готовы жизнь отдать, а вот он, Исаак, на такое не способен.
– Ну и что? – Исаак отвечает не сразу. – Что плохого в том, что я хочу жить хорошо? Что плохого в том, что мне нравятся туфли ручной работы, костюм на заказ, прогулки с женой и детьми вдоль моря? Это что, преступление? Знаете, Реза-ага, в чем я убежден? В том, что жизнь дана для того, чтобы радоваться ей. И не надо смотреть на меня так зло, я не виноват, что ваши надежды не оправдались.
Все замолчали. Исааку вспомнились строки Хафиза, он запомнил их давно, еще студентом в Ширазе. И без всяких предварений он читает: «Спасибо тем, с кем ночь была нежна…»
Старик светлеет лицом: стихотворение ему знакомо. Он подхватывает: «Вот дивный дар – на сердце тишина…»
Другие улыбаются, читают отдельные строки – кто что помнит. «О, как светло на сердце лунной ночью / Когда травинка каждая видна»[22]22
Стихи Шамседдина Мохаммеда Хафиза (около 1325–1389 или 1390), персидского поэта, мастера газели. Пер. М. Фаликмана.
[Закрыть].
Заканчивают они на подъеме, особо выделяя последние слова «светло на сердце». С минуту все молчат, затем разражаются нервным смехом. Даже Реза – он к поклонникам Хафиза не присоединился – как-то странно кривит рот, и Исааку кажется, он улыбается.
В камере Исаак думает о Резе и тысячах других революционеров – мужчинах и женщинах, считавших себя частью чего-то большего, чем их будничная жизнь, думавших, что они в силах изменить ход истории. А в результате короны сменили на тюрбаны, только и всего.
Он вспоминает день, когда шах покинул страну, холодный январский день почти два года назад, когда повсюду ликовали толпы народа, водители сигналили фарами, гудели, кондитеры раздавали сласти, таксисты предлагали подвезти за так, чужие люди обнимались, а девушки танцевали. Он стоял на крыше своего дома, смотрел на город: поверх бельевых веревок, раскачивающихся на ледяном ветру, доносились звуки радио– и телепередач, женщина у окна напротив срезала кожуру с яблок, старик на углу, опершись о трость, озирался, не веря глазам своим, уличный торговец раздавал прохожим печеную кукурузу, соседский садовник хлопал в ладоши и улыбался во весь щербатый рот.
– Шах рафт, шах рафт! – Шаха нет! – радовалась толпа.
В тот вечер он смотрел в новостях, как уезжал шах. Исхудавший, изъеденный раком, он стоял в аэропорту, рядом его жена – оба натянуто улыбались.
Так вот как оно кончается, подумал Исаак. Конец Павлиньему трону[23]23
Павлиний трон – трон персидского шаха со спинкой в форме павлиньего хвоста, позднее стал символом верховной власти иранских правителей.
[Закрыть] и Белой революции[24]24
Белая революция – так принято называть события 1963 г., когда шах Ирана Мухаммад Реза Пехлеви с целью интегрировать страну в мировую капиталистическую систему приступил к решительному преодолению феодальных пережитков.
[Закрыть], этой золотой эпохе реформ в экономике и культуре. Глядя на иссохшего шаха, Исаак подумал о Дериануре, Море света, чистейшем, прямоугольной формы бриллианте весом в сто восемьдесят шесть карат, сиявшем на шахском уборе в день коронации. Исаак тогда вместе с Фарназ присутствовал на церемонии в Большом зале дворца Голестан и не сводил с бриллианта глаз. Да, пусть в шахе много неподлинного, даже смешного, зато бриллиант самый что ни на есть подлинный. В отличие от шаха и многих других, носивших этот бриллиант до него, в сверкающем, чистой воды, без единого изъяна бриллианте было нечто вневременное и светлое, нечто от земли, в которой камень родился, долговечность и чистота, недосягаемые ни для одного человека, ни для одной династии.
И не мысль ли о долговечности побудила шаха четыре года спустя после коронации пышно, в течение нескольких дней, праздновать в Персеполе[25]25
Персеполь – город Древнего Ирана, основан в начале правления Дария (522–486 гг. до н. э.), одна из столиц государства Ахеменидов.
[Закрыть] дату основания Персидской империи – две с половиной тысячи лет. Гости со всего мира, главы государств и другие почетные лица, посетили церемонии, где воздавали должное Киру II Великому, основателю Персидской империи, и Дарию III, чей Персеполь с его великолепием некогда знаменовал новый этап великой цивилизации. Неподалеку от Шираза, посреди каменных руин шах повелел раскинуть множество шатров для приглашенных, идею эту шах позаимствовал у Франциска I, разбившего в шестнадцатом веке на западном побережье Франции палаточный городок для приема английского короля Генриха VIII. Велев именовать себя шахиншахом – «царем царей», шах ублажал своих гостей банкетами, которые готовили лучшие парижские повара: на них подавались перепелиные яйца, фаршированные икрой, жареные павлины – символ иранской монархии – с начинкой из гусиной печенки, отборные вина «Шато Лафит Ротшильд» 1945 года и «Дом Периньон Розе» 1959 года. Гости три дня прожили в пустыне среди древних руин, ели, пили, потакая прихоти хозяина изображать наследника Кира Великого. Хотя голубой кровью шах похвастаться не мог: кровь его была не чище мутных вод речного устья – он происходил из самой простой семьи, однако его отец, начав с невысоких армейских чинов, поднимался по служебной лестнице все выше и наконец стал шахом. Положив два венка на могилу Кира Великого, шах торжественно произнес: «Курош, ассуде бехаб ке ма бидарим, Кир, покойся с миром, ибо мы на страже». В минуту молчания, последовавшую за речью, сильный порыв ветра закрутил в воздухе желтый песок и захлопал длинными женскими подолами, в газетах обыгрывали это на все лады, писали: «…и все подумали: „Не дух ли самого Кира Великого ответил шаху?“»
Но это было в 1971 году. Гости, почтившие шаха своим присутствием, его предали, и шаху, покинувшему страну, негде было преклонить голову. И так – в одной руке чемодан, в другой неутешительный медицинский диагноз – он перелетал из Египта в Марокко, из Марокко на Багамы, оттуда в Мексику, из Мексики в Америку, из Америки в Панаму, пока, наконец, не вернулся в Египет, единственную страну, позволившую ему умереть на ее земле, что и произошло летом 1980 года. Десятки лет шах слыл светочем Ближнего Востока, после смерти он вдруг оказался тираном, уничтожавшим любого, кто смел выступить против него. На самом же деле в нем было и то и другое. Однако в последние его дни, когда шах умирал в Каире, Исаак видел в нем не провидца, не деспота, а лишь человека, который хотел, чтобы и он, и его страна были такими, какими они никак не могли быть.
Глава тринадцатая
Здесь они раскладывают пасьянс и слушают старые песни. На проигрывателе крутится пластинка пятидесятых годов, игла царапает, и оттого певец хрипит. Баба-Хаким сидит у окна, смотрит на улицу, рассеянно барабаня пальцами в такт музыке. На столике перед ним недопитый стакан, чай в нем, похоже, остыл. На диване Афшин-ханом сосредоточенно перекладывает карты. Дом пропах тушеным луком и камфорным маслом.
Фарназ сидит у них с утра, но так и не сказала им об аресте сына.
– Еще чаю, Фарназ-джан? – спрашивает Афшин-ханом, перетасовывая карты. Она раскладывает пасьянсы вовсе не для того, чтобы убить время. Карты открывают ей будущее. Каждый раз, раскладывая пасьянс, Афшин-ханом загадывает желание: сойдется пасьянс, значит, желание ее исполнится, не сойдется – нет. Фарназ помнит, как после отъезда шаха старуха дни напролет раскладывала на диване пасьянс, вопрошая: «Вернется ли он?» И каждый раз, когда пасьянс сходился, хлопала в ладоши и приговаривала:
– Карты говорят, что шах вернется.
– Нет, Афшин-ханом, спасибо! Уже три чашки выпила.
– Тогда съешь печенье, азиз[26]26
Дорогая, милая (фарси).
[Закрыть]. Что-то ты исхудала. А, Хаким? Правда ведь, она исхудала?
Баба-Хаким кивает не глядя. Он и так не отличался разговорчивостью, а после того, как врачи запретили ему пить и курить, и вовсе замолчал. Наконец Баба-Хаким отрывается от окна, бросает взгляд на чашку с чаем, потом на запертый бар. И снова смотрит в окно. А Фарназ вспоминает поездку в Исфахан лет двадцать пять назад, почти сразу же после их с Исааком свадьбы. Тогда отец Исаака ей не понравился. Пока она с Исааком и Афшин-ханом осматривали достопримечательности, Баба-Хаким сидел в чайхане и курил кальян. Мозаика Дарб-е-Имама, мавзолея шейха Лотфоллы[27]27
Лотфолла – наставник шаха Аббаса I (1587–1629), его именем названа мечеть, построенная Аббасом I.
[Закрыть], возведенного в семнадцатом веке, оставила его равнодушным. Иллюзорное название дворца – Чехель Сотун, «Сорок колонн», в их число входят не только двадцать деревянных столпов, поддерживающих вход, но и их отражение в пруду – нисколько его не заинтересовало. Исаак стал подтрунивать над ним, сказал:
– Баба-джан, а ты знаешь, говорят: «Исфахан несф-е джахан – Исфахан – половина мира». Вот что ты теряешь!
На что отец усмехнулся и сказал:
– Тем хуже для меня. Значит, буду смотреть на другую половину.
Всю поездку Баба-Хаким не расставался с металлической флягой – виски, эта перебродившая и очищенная апатия, капала из фляги в рот, просачивалась в вены, лишая его воли.
– Хаким все равно что малый ребенок, – говорила Афшин-ханом. – Дашь ему бутылочку, и ему больше ничего не нужно.
Однажды Фарназ спросила, почему он пьет, а он ответил:
– Как болит, Фарназ-джан, так и пьешь. Ну да тебе этого не понять.
Она и впрямь мало что поняла.
– Я должна вам кое-что сказать, – наконец решается Фарназ. – Исаак в тюрьме. Я просто не знала, как к этому приступиться…
Афшин-ханом откладывает карты, в замешательстве поднимает на нее глаза. Баба-Хаким отрывается от окна, вглядывается в Фарназ. Не исключено, что муж с женой впервые испытывают одни и те же чувства, думает Фарназ.
– Уже почти два месяца прошло.
– Почему же ты нам сразу не сказала? – Глаз Афшин-ханом почти не видно из-под тяжелых век. От нее попахивает нафталином.
– Не хотела тревожить. Но слишком много времени прошло. И я решила, что вам следует знать. А еще у меня к вам просьба. Говорят, к нам непременно придут с обыском стражи исламской революции. Вот я и подумала, нельзя ли оставить у вас Ширин на несколько дней, пока я пересмотрю все книги и документы, избавлюсь от всего подозрительного. Не хочу, чтобы Ширин это видела. Не хочу ее пугать.
– Оставить у нас? Да мы и о себе-то не можем толком позаботиться. Хаким серьезно болен. – Афшин-ханом качает головой и шепчет – Господи, сколько напастей… – Солнце высвечивает торчащие на подбородке волоски.
– Баба-Хаким, так вы больны? Что с вами?
– Печень шалит, Фарназ-джан. Да и почки плохо работают. – Голос у него такой, будто он не разговаривал несколько дней, если не недель. Баба-Хаким берет со стола четки, начинает их перебирать. Бусина за бусиной с легким стуком ударяются друг о друга, скользя по невидимой, связующей их нити.
Эти бусины, думает Фарназ, переживут перебирающие их руки. Шерстяную кофту Баба-Хакима, которую он носит, сколько она его помнит, да, похоже, носил и до этого, скоро свернут и уберут в чемодан вместе со шляпой, парадными туфлями и часами. А примирила ее с ним в той долгой поездке в Исфахан одна-единственная фраза:
– Фарназ-джан, прошу тебя, сделай Исаака счастливым – нам это не удалось.
Так он дал ей понять, что при всех своих недостатках, а их немало, есть у него по крайней мере одно достоинство: он признает, что отец он плохой.
– Сейчас научились лечить почки, – говорит она. – Иншалла – даст Бог, поправитесь.
Баба-Хаким подносит ко рту остывший чай, отпивает, ставит стакан обратно на блюдце.
– Нет, Фарназ-джан. Мне недолго осталось.
Афшин-ханом опускает глаза на свои руки, лежащие на коленях. Берет накинутый на спинку дивана черный платок, закутывается.
– Мне очень жаль, Фарназ-джан, что мы не можем взять Ширин, – говорит она. – Но наш дом – неподходящее место для ребенка.
Она поглаживает бахрому платка, пропуская кисточки сквозь скрученные артритом пальцы. Афшин-ханом была лишена многого, поэтому отнять то немногое, что у нее есть, – любящего сына – немыслимо. А лишена она была, и это знали все, надежды после третьего ребенка, Шахлы, родить еще. И все из-за сифилиса, этого подарка на веки вечные, который муж привез из поездки в Индию. Афшин-ханом сцепляет руки на коленях, чуть заметно кивает головой, что-то шепчет себе под нос. Известие об исчезновении сына она, несомненно, перенесет – пасьянсы ей помогут. «Останется ли сын в живых?» – спросит она в надежде, что пятьдесят две карты лягут удачно, дадут желанный ответ.
– Да, Афшин-ханом, я понимаю. Ну что ж, мне пора. А то Ширин только с Хабибе.
Фарназ уходит, закрывает за собой дверь, дверной молоток при этом несколько раз ударяет о дверь. Молоток отлит в виде руки Фатимы, дочери пророка Мухаммеда. Несколько лет назад ее подарил родителям Исаака сосед – считается, что рука приносит хозяевам удачу. Отказаться от удачи не в привычках Афшин-ханом, и она тут же повесила руку на дверь.
Фарназ идет вдоль узкой улочки, по обе стороны ее тянутся невысокие кирпичные стены – на них множество кровавых отпечатков рук – так революционеры обозначают готовность пожертвовать жизнью. Фарназ они напоминают о иерусалимской мечети на Масличной горе – по преданию Иисус, возносясь на небо, оставил там след ноги.
Глава четырнадцатая
В хорошем здании, как и в хорошем мужчине ли, женщине ли, должны сочетаться надежность и красота. Парвиз впервые услышал об этом на занятиях и решил, что так оно и есть. Чтобы здание было надежным, процитировал Джона Рескина[28]28
Джон Рескин (1819–1900) – английский писатель, историк, искусствовед.
[Закрыть] преподаватель, оно должно соответствовать цели, для которой построено, и при этом построено без излишеств, без ненужного нагромождения камня, стекла, стали. Красивое здание должно отражать представление архитектора о красоте, каким бы оно ни было. Только тогда можно утверждать, что архитектор свою работу выполнил достойно.
Лопаты, заступы, тачки, лебедки, десятитонные погрузчики – вот какие инструменты понадобились, чтобы установить опоры на тридцать метров ниже русла реки и камень за камнем, трос за тросом возвести Бруклинский мост, по которому он сейчас идет. Когда время и погода позволяют, Парвиз идет на Манхэттен через мост, а потом уже садится в метро и едет в университет. Путь неблизкий, да и не самый удобный, но вид моста, а он сочетает в себе невесомость и основательность, действует на Парвиза успокаивающе. Только на мосту, думает он, неопределенности есть место, здесь ты не связан ни с землей, ни с человеком и в то же время знаешь, что такая связь возможна.
Протяженность всех жил тросов – чуть не шесть тысяч километров. Одних только подвесных кабелей – 1520, общий вес моста без башен и опор – 14 680 тонн, число несчастных случаев во время строительства – от 20 до 30, считая архитектора. Поначалу Парвиз заучивал все это к контрольной, но в отличие от многих других цифр, которые улетучиваются, как только напишешь работу, эти он запомнил. Он смотрит на воду, на проплывающие паромы и баржи, на машины, которые катятся по мосту, на прохожих – они, как и он, идут в Манхэттен и наверняка думают о том, что им несет грядущий день, – телефонные звонки, перерыв на обед, неожиданные встречи – и решает: да, мост и хорош, и красив, он вспоминает Рескина и с восторгом думает: чтобы построить такое сооружение, сколько нужно было знаний, какая сила воли – необходимо учесть вес каждого камня, силу натяжения каждого троса, скорость течения реки в разное время года… Парвизу даже не верится, что у него когда-либо достанет знаний и силы воли на такое.
* * *
Залман Мендельсон снова приглашает Парвиза – на этот раз на Хануку, и он решает пойти. После занятий, гуляя по улицам, он проходит мимо множества елок – их спилили и привезли в город ради праздника и вскоре выбросят. Парвиз уже представляет, как их закинут в контейнеры мусоровозов, а сухие опавшие иглы сметут с крылечек и тротуаров. Но, оказавшись в предрождественской толчее, среди покупателей, нагруженных тяжелыми сумками, Парвиз ощущает какую-то легкость, как будто и он тоже спешит в эти ярко освещенные магазинчики, где в придачу к белым шарфикам и красным жестяным коробкам сластей прилагается обещание зимних вечеров с семьей и друзьями у камина в гостиной. Он покупает французский шоколад для Мендельсонов, тратит при этом, чего делать никак не следовало бы, большую половину оставшихся у него пятидесяти долларов. Когда он возвращается домой, на крыльце стоит Рохл.
Он машет ей рукой:
– Тебе тут не холодно?
Рохл плотнее запахивает черное шерстяное пальто.
– Дома слишком жарко, – говорит она, глядя прямо перед собой. – Не продохнуть.
– Да, радиаторы пыхтят день напролет.
– Я не про радиаторы. Я про людей. Перед праздниками полным-полно народу. У меня голова разболелась. Ни минуты покоя.
Парвиз снизу смотрит на Рохл – ее фигурка тонет в бесформенном пальто, кожа у нее бледная, в сгущающихся сумерках девушка кажется ему хорошенькой. Он открывает коробку с конфетами, протягивает ей.
– Угощайся.
Она сосредоточенно глядит на коробку, потом на него.
– Не могу, – говорит она, – они не кошерные.
– Шоколад должен быть кошерным?
– Да.
Парвиз захлопывает коробку и решает, что он не пойдет на ужин к Мендельсонам. Что он за еврей, раз не знает, что в хасидский дом французские конфеты не приносят? И что она за еврейка, раз отказывает ему в такой любезности – принять то, чем он хотел поделиться?
Он читает до позднего вечера: сначала газету, от первой до последней страницы, затем всякие буклеты, которые получил по почте и поначалу хотел выкинуть, дальше – каталог какой-то фирмы одежды с трудно запоминающимся названием. Он лежит на кровати на животе, под конец глаза у него начинают слипаться. Сверху доносится хор мужских голосов, смех, хлопают двери, пол под ногами танцующих ходит ходуном.
Все это он слышит уже сквозь сон.
Парвиз просыпается – стукнула входная дверь, в ночной тишине раздался громкий смех. Он садится на кровати, приоткрывает шторы и видит с десяток черных брюк, на них свисают слонового цвета кисти молитвенных покрывал, за брюками следуют женские ноги в чулках, но в ночной тьме их не разглядеть. За женскими ногами семенят дети с волчками и завернутыми в золотистую фольгу шоколадными монетками – такие ему и следовало подарить, знай он, что и как положено. «Счастливой Хануки!» – слышатся голоса. Но что этот праздник значит для него? Не все ли ему равно, отвоевал Иуда Маккавей Иерусалимский храм у правителей династии Селевкидов или нет? Что с того, что оливкового масла в храмовой меноре должно было хватить на один день, а менора чудом горела восемь дней? Как эти ничем не подтвержденные события могут повлиять на жизнь Парвиза Амина? И станет ли он, празднуя их, счастливее?
Парвиз думает об отце, пытается представить день его ареста. Интересно, когда он поправил галстук, съел яйцо на завтрак, слушал на кухне утренние новости, было ли у него предчувствие, что сегодня его привычной жизни придет конец? А когда ей пришел конец, верил ли он, что, как и Иуда Маккавей, однажды вернет ту жизнь, которой хотел жить?
Сидя на кровати, Парвиз открывает красную коробку и откусывает идеально круглую шоколадку. Растопленный шоколад и сливки тают у него на языке, и он, пусть ненадолго, забывает о том, что он совершенно один.