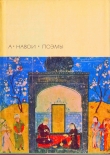Текст книги "Сентябри Шираза"
Автор книги: Далия Софер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Глава тридцать пятая
Идет дождь, и Ширин замечает, что лица прохожих посуровели, женщины плотнее кутаются в платки, мужчины поднимают воротники курток до ушей, город уходит в себя, стискивает зубы. Ярко-оранжевые в свете уличных фонарей такси останавливаются на углу, забирают пассажиров. На газетном стенде заголовок: «Сотни мучеников погибли в водах Шатт-эль-Араб[55]55
Шатт-эль-Араб – река, спорная граница между Ираком и Ираном.
[Закрыть]».
Этим утром в школе говорили про войну: учительница в начале урока развесила по стенам плакаты, изображавшие солдат, иногда чуть ли не детей.
– Кто из вас пошел бы на войну добровольцем? – спросила она, и две из сорока девочек крикнули:
– Я! Я!
Лейла тоже подняла руку, но не слишком уверенно, и сказала:
– Я, наверное, тоже.
Когда прозвенел звонок, учительница объявила: те, кто изъявил готовность идти воевать – пусть даже этого от них и не потребуют – освобождены от домашних заданий.
– Ты и в самом деле пошла бы воевать? – спросила Ширин у Лейлы после уроков. Она помнила, что им лучше бы не общаться, однако мысль о том, что Лейла отправится на войну, ужаснула ее.
– Да, если бы мама пустила. Папа сказал, что не будет против. Но мама, она такая упрямая.
– Моя мама говорит, что детей используют для поиска мин.
– Ну и что? Надо же кому-то их искать. Лучше сохранить жизнь взрослым – они воюют по-настоящему. А ты знаешь, что каждому добровольцу вручают ключ?
– Ключ?
– Ключ к воротам рая. Если тебя убьют на войне, ты становишься мучеником и попадаешь в рай.
– Разве ворота рая открывает не Господь? Зачем в таком случае ключ?
– Откуда мне знать? – отрезала Лейла. – И вообще, нам с тобой лучше не общаться.
* * *
Она идет в толпе женщин в чадрах, под зонтиками, и ей кажется, что в этом черном, насквозь промокшем городе, есть дыры, в которые люди проваливаются и пропадают навсегда. «Тегеран, черный город», – повторяет она про себя. Вспоминает города, где успела побывать, и каждый ей видится и другом цвете: Исфахан – голубой, Париж – красный, Венеция – золотая, Джайпур – розовый, и Иерусалим – цвета слоновой кости. Как-то в Джайпуре они с отцом проходили мимо розового здания, и отец рассказал ей, что в девятнадцатом веке весь город выкрасили перед приездом британского монарха, имени которого Ширин не запомнила. Вот было бы здорово, если бы город менял цвет к чьему-либо приезду, все равно как человек меняет платье перед приемом гостей. В других странах отец становился веселым, беззаботным. В отеле, бывшем дворце, отец рассказал ей, что ночью по его коридорам все еще бродит призрак махараджи, и она поверила. В машине по пути к Тадж-Махалу отец подхватил песню, которую передавали по радио. Хинди он не знал, но придумывал слова на ходу, когда же слова не придумывались, стучал по рулю, подражая звучанию табла[56]56
Табла – индийский музыкальный ударный инструмент.
[Закрыть]. А она, сидя на залитом солнцем заднем сиденье, смеялась, глядела в окно – за окном мелькали разноцветные сари, факиры выманивали змей из корзин. Ее радовало, что факиры и впрямь существуют, что это не выдумка.
– Ширин-джан, что это ты на улице одна? – останавливает ее соседка.
– Иду за хлебом, тут недалеко.
– Слышно что-нибудь об отце? – спрашивает она.
– Нет.
– Бедняжка… – говорит соседка, поправляя платок на голове. – Передай привет маме.
* * *
Когда Ширин возвращается домой, дверь никто не открывает. Она приподнимает край половика: вдруг ключ оставили там. Ключа нет. Стоя у ворот, она заглядывает в сад: сугробы с желтыми пятнами собачьей мочи, изъеденные клыки сосулек, свисающие с бортиков бассейна. Когда-то вода в бассейне была прозрачная, голубоватая: она помнит, как плавала в той части, где помельче, а Парвиз с друзьями нырял с террасы, рисуясь перед красавицей Ясси – та в белом бикини, в темных очках возлежала в шезлонге, вытянув длинные загорелые ноги. Потом все споласкивались в душе, одевались и сходились на кухне – от них все еще пахло мылом и хлоркой, – садились там за стол, ели из решета только что помытую черешню, собранную утром в саду. Ей запомнилось ощущение легкости после долгого купания, сладость первых ягод, которыми они лакомились под гул кондиционеров.
Сьюзи бежит к ней, просовывает морду в ворота. Встает на задние лапы, вытянув длинное, мускулистое туловище, достает до запора и жмет на него, пока ворота не открываются. Потом, виляя хвостом, смотрит, как Ширин входит в сад.
Глава тридцать шестая
Он просыпается, но не от выстрела, а от глухого удара тела о землю. Затем неизменно наступает тишина. Он гадает: что они делают с телами? Наверное, оставляют там, где они упали, а уносят на следующий день, как объедки после званого ужина.
Он лежит без сна, ждет наступления утра, когда принесут бурый кипяток и кусок хлеба – свидетельства того, что он еще жив. Он то и дело задремывает, но каждый раз его будит громко, беспрерывно капающий кран, и он лежит, не двигаясь, смотрит на раковину, на туфли, которые не надевал с тех пор, как его стали избивать, на Коран, раскрытый на том месте, где он остановился, и постепенно они сливаются с вещами из других комнат, в которых ему доводилось спать. Он то засыпает, то просыпается, ему чудятся кисейные занавески в ширазской комнате, где он жил не одно лето, когда учился, фарфоровый кувшин на тумбочке во французском загородном доме, мятные конфеты, будто подброшенные анонимные письма, на подушке в женевском отеле, нефритовый Будда в Токио, нарисованный на потолке дракон в Гонконге, его кровать – в ней он спал, завернувшись в одеяло, и волоски на его руке шевелило дыхание жены, простыни в родительском доме, грубые на ощупь, похожие на тюремную дерюгу.
Он думает: остались ли в тех комнатах его следы, хранит ли занавеска, распахнутая много лет назад навстречу солнечному дню, в своих складках отпечатки его пальцев, будто свидетельствуя, что Исаак Амин был здесь. Теперь он понимает, и чем смысл надписей на памятниках и тротуарах, в кабинках уборных: сохранить имя и дату для тех, кто придет потом, жалкие потуги установить связь с людьми другой эпохи, оповестить их – я жил в этом мире. Он вспоминает, как летом, гуляя по мысу в южном французском городке, некогда излюбленном курорте викторианцев, увидел надпись: Жак 1896, и ему стало грустно. Он живо представил себе, как этот Жак с тросточкой, во фраке, прежде чем вернуться в отель к чаю, дышит прохладным атлантическим воздухом, обсуждает с друзьями новости – прелюдию к «Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси или дело Дрейфуса[57]57
Сфабрикованное в 1894 г. дело по обвинению офицера французского Генерального штаба, еврея, капитана Альфреда Дрейфуса, в шпионаже в пользу Германии. В 1899 г. Дрейфус был помилован, в 1906-м реабилитирован.
[Закрыть]. Он стоял на солнце, глядел на камень с росчерками и, сам не понимая почему, позавидовал тем, кто сотни лет спустя будет здесь прогуливаться.
Когда дверь отпирают, еще темно. Он садится на матрасе. Неужели мой час настал? Входят двое охранников.
– Брат, следуй за нами, – говорит один.
Его ведут вниз по лестнице в ту же комнату, где допрашивали в последний раз. Мохсен сидит за тем же столом, барабанит пальцами. Культя на месте десятого пальца дергается вверх-вниз.
– Эх, брат, – говорит Мохсен, – мы давненько мозолим друг другу глаза. Я, как пить дать, надоел тебе не меньше, чем ты мне.
Он указывает на стул напротив:
– Садись.
Папка перед ним распухла – из нее торчат листки бумаги.
– Что скажешь в свою защиту?
– То же, что и раньше. Никакой вины за мной нет. Правда, я хочу кое-что прибавить: я жил неправильно. Я гнался за материальными благами, а они ничего мне не дали.
– Так уж и ничего? А виллы, ковры, картины все добро, которое ты скопил? И это, по-твоему ничего? А твои путешествия, а машины? Я мог бы продолжать и продолжать. – Он захлопывает папку, поднимает глаза. – Я вот ничем не владею. Живу с женой и сыном в одной комнате. У нас всего один коврик, вечером мы раскатываем матрасы на полу – так и спим. Печи нет, только газовая плитка. Два года подряд мой сынишка носил одни и те же ботинки – купить ему новые я не мог. И конце концов пришлось обрезать носки – ноги-то выросли.
– Все так, но где сейчас вы, а где я. Я сижу перед вами, и моя судьба в ваших руках. В шкафу моей дочери полно обуви, но она не знает, где ее отец. Ни какие туфли ее не утешат. «Да отсохнут руки Абу Лахаба! Да сгинет он сам! Не спасли его ни богатство, ни то, что он обрел»[58]58
Коран, сура 111-я. Пер. М. Н. Османова.
[Закрыть], – читает он по памяти из Корана.
За чтением этой книги – единственной разрешенной в тюрьме – он провел много часов и многое запомнил; как-то бессонной ночью, когда в голове у него вертелись аяты из Корана, его осенило: надо продемонстрировать эти познания – вдруг да и поможет. Что, если прочесть к случаю строки из Корана – ведь это могут истолковать как желание покаяться? Он, конечно, понимал, что рискует – его могут принять за жалкого приспособленца, стремящегося задобрить начальство. Он снова и снова проигрывал в уме, как вести себя на следующем допросе, по всей видимости последнем, и решил: с таким человеком, как Мохсен, стоит рискнуть.
Мохсен кивает:
– Отлично сказано, брат! Вижу, ты разумно распорядился временем. – Он опускает глаза, смотрит на свою искалеченную руку. – Я, когда сидел в тюрьме, тоже начал читать. Нелегкие это были годы, но Коран дал мне надежду. – Мохсен ставит локти на стол, подается вперед: – А ты знаешь, что каждый день я привожу сюда сына? – спрашивает он.
– Да. Я слышу, как вверх-вниз по лестнице бегает ребенок. Брат Хосейн сказал, что это ваш сын.
– У меня не должно было быть детей. После всего, что я перенес. Знаешь, брат, однажды я сидел на том самом месте, где сейчас сидишь ты. Но теперь, когда мы поменялись местами, с какой стати мне тебя жалеть?
– Да просто потому, что я не имею ничего общего с теми, кто мучил вас.
– Имеешь, еще как имеешь! Ты отвернулся, не хотел ничего знать, а раз так – ты их соучастник.
– Да, тут вы правы – я был слеп. Но прошу вас, брат! Вы говорите, что сидели на моем месте, a раз так, вы должны знать, какой страх, да что там, ужас охватывает при мысли, что ты никогда больше не увидишь свою семью. Вы отец, и должны это понять.
– Я не то что знаю, какой страх ты испытываешь, я чую его. Вот только к его запаху я уже привык. – Мохсен встает – стул со скрежетом отъезжает по бетонному полу. Меряет комнату шагами – туда-обратно. – Ты – тяжелый случай, – наконец говорит он. – Дела, в сущности, против тебя нет. Никаких доказательств, что ты шпионил в пользу сионистов, мы не нашли. И все же твой образ жизни свидетельствует против тебя.
– Брат, я изменю свою жизнь. И готов поддержать дело революции, щедрым пожертвованием доказать свою искренность.
Мохсен останавливается.
– Вот как? И насколько щедрым, брат Амин?
– Насколько потребуется.
– Брат Амин, мне и раньше делали такие предложения. Но ни одно меня не устроило. Говори определеннее.
– Я пожертвую все свои сбережения.
* * *
В камере охранник впихивает ноги Исаака в туфли – распухшие ступни еле влезают в них. Шнурки он не завязывает и хлопает Исаака по спине:
– Давай, поторапливайся.
Туфли нещадно стискивают ноги, Исаак хромает, изо всех сил стараясь не отстать. В коридоре к нему подбегает охранник в маске.
– Брат Амин! Тебя выпускают? – говорит он.
Исаак узнает голос Хосейна.
– Пошел, пошел! – орет другой охранник. Вытаскивает из кармана черный платок, завязывает Исааку глаза, пихает его в спину винтовкой. – Живей!
Его ведут вверх по лестнице, отпирают железные ворота, волокут через двор – той же дорогой он шел в ту ночь, когда казнили Рамина и Вартана. Со скрежетом открываются еще одни ворота, его вталкивают в машину. Он сидит у окна, оказывается, что через небрежно завязанный платок можно кое-что увидеть – опустив глаза, он видит свои распухшие ноги, рядом – черные ботинки охранника. У его ног лежит полиэтиленовый пакет, в нем золотые часы и всякие украшения.
Несмотря на ранний час, через повязку пробивается яркий свет: значит, день будет солнечным. Сквозь трещину в окне лицо обдувает прохладный ветерок; машина едет под гору, и ему видны островки пробивающейся из-под снега зелени, крепкие бороздчатые стволы деревьев. Он чувствует невероятную легкость. Глядя на убегающую под колеса машины дорогу, он снова проигрывает в уме свой разговор с Мохсеном. Это он хорошо придумал процитировать Коран. Они придали разговору другой оборот, превратили допрос в беседу. «А вы смекалистей меня, Амин-ага, – сказал Рамин. – Я бы не смог так соврать».
Так как – я смекалистый, спрашивает себя Исаак, или просто удачливый лжец? Может, одно с другим связано? А вот Рамин, он что, дурак? Или не хотел врать, даже чтобы спастись? И на что пойдут мои деньги? Как ими распорядятся? Настроят еще больше тюрем, купят еще больше оружия? Не покупаю ли я себе жизнь, губя других?
Он чувствует – город уже недалеко. На дороге пробка, но сквозь выхлопные газы доносится запах пекущегося хлеба, только что доставленного с бойни мяса, привезенной ночью из портовых городов рыбы, выгруженных у ларьков фруктов в коробках… Его будоражат нетерпеливые гудки машин, он откидывается на сиденье, слушает: по тротуару шагают прохожие, мимо едут автобусы, открывают магазины, дети идут в школу. Он представляет себе жену – она сидит в кухне, пьет чай, читает газету.
Человек хочет жить, он имеет на это право.
* * *
– Где банк? – спрашивает водитель.
– Рядом с конторой. Но сначала надо заехать ко мне домой – взять удостоверение. Мой адрес вы, наверное, знаете.
– У тебя что, нет с собой водительских прав?
– Брат, мой бумажник мне так и не вернули.
Повязку снимают, и он видит свою улицу – на ней все по-прежнему. Охранник с ним рядом кусает губы, рот его кривится. У Исаака екает сердце. Машина медленно едет по улице: мимо проплывают номера над железными воротами, еще немного – и он дома. Вот занавеска в «огурцах» в кухонном окне семейства Сабати, вот красный велосипед маленькой дочки Горбани – он все еще стоит на веранде, хотя девочку давно отправили к родственникам в Лондон. Он прикидывает: дома ли жена с дочерью или уже уехали в школу? Жаль, что он не умылся и не причесался, – может, охранники бы и позволили, но мысль об этом попросту не пришла ему в голову.
Машина приближается; он представляет себе дом таким, каким оставил его: газеты на журнальном столике, кровать застелена голубым покрывалом, на спинке зеленые пижамные штаны, на полу в гостиной сабо дочери – они вечно о них спотыкаются. Когда они подъезжают, ворота уже открыты, и они свободно сворачивают во двор, останавливаются за машиной Фарназ. Значит, она дома, думает он, и с души у него сваливается груз, как у мальчика, который после долгого, полного напастей дня попал наконец домой, к маме.
Лает собака; Исаак выходит из машины, собака бросается к нему, оглушает радостным лаем.
– Заткни ей пасть! – говорит охранник, наводя винтовку на собаку.
Исаак присаживается на корточки, обнимает собаку – она кладет морду ему на плечо, ее теплое, влажное дыхание щекочет ему ухо. Дверь открывается. Прямо перед ним оказываются такие знакомые, крепкие ноги Фарназ в черных лодочках. Она наклоняется, помогает ему встать.
– Господи, Исаак! Ты ли это!
Он сжимает ее руки. Впервые со дня ареста на глаза наворачиваются слезы. Он понимает – если не сдержаться, он разрыдается. Фарназ плачет, подносит его руку к губам и, к его удивлению, целует то самое место, которое он целовал в тюрьме.
– Будет вам обниматься! – говорит охранник. – Сначала надо дело сделать.
Фарназ опускает руки, отступает. Исаак входит в холл; вдыхает запахи стирального порошка, свежезаваренного чая, эти забытые запахи возрождают в нем надежду, что жизнь еще не кончилась. Превозмогая боль, он цепляется за перила, медленно поднимается по лестнице. Охранник следует за ним по пятам, Фарназ идет рядом, смотрит на его ноги, но вопросов не задает.
В его кабинете все вверх дном. Папок и документов нет и следа.
– Фарназ-джан, а где же мой паспорт?
– Паспорт конфисковали, – говорит она.
– Мне нужно какое-нибудь удостоверение личности для банка.
Фарназ выдвигает и задвигает ящики, руки не слушаются ее.
– Может, подойдет свидетельство о рождении? Вот только где оно.
– Брат, – говорит Исаак охраннику, – прошу прощения, что задерживаю. Свидетельство должно быть где-то здесь.
– Я не собираюсь торчать тут весь день, – рявкает охранник. Он расхаживает по кабинету, держа винтовку дулом вверх, разглядывает книги на полках, фотографии, коллекцию сабель на стене. – Откуда это у тебя? – спрашивает он, показывая дулом на сабли.
– Я долгие годы собирал их. Они из разных мест, – говорит Исаак.
– Увлекаешься саблями?
– Мастерство оружейника – вот что мне нравится.
– Мастерство, говоришь? А применить саблю по делу не хочется?
– Никогда не пробовал, – Исаак через силу улыбается.
Охранник подходит к одной из сабель, проводит свободной от винтовки рукой по золотой чеканке рукояти:
– Ну-ка, сними.
– Но, брат… Это ведь так… украшение. В смысле…
– Я сказал – сними!
Фарназ прекращает поиски, поднимает лицо – она бледна, в ярком утреннем свете заметны глубокие морщины вокруг глаз. Она постарела за время его отсутствия.
Исаак снимает саблю; на стене остается след в виде полумесяца, похожий на улыбку.
– Взгляните, брат, какая чеканка на рукояти. – Он пытается отвлечь охранника, выиграть время. – Эта сабля времен Чингисхана.
Охранник зажимает винтовку между ног, протягивает руки ладонями вверх, как паломник в ожидании благословения. Исаак осторожно опускает саблю ему на ладони, отходит, давая охраннику полюбоваться оружием. А сам оборачивается к Фарназ. Она качает головой: «Свидетельство потерялось», – шепчет она и снова опускает голову.
Ну почему, почему каждое полотенце, каждый носок, каждая майка – все на своих местах, а свидетельство о рождении, которое нужно позарез, потерялось? Исаак вскипает, но это не гнев – на гнев его уже не хватает, – а отчаяние, уверенность, что никто, даже жена не в силах ему помочь.
Охранник приставляет кончик лезвия к шее Фарназ, слегка надавливает.
– А ну-ка, найди бумажонку, сестра, да побыстрее! – орет он ей прямо в ухо.
Фарназ застывает. Исаак через стол тянется к ее руке, сжимает ее.
– Прошу вас, брат, еще минуту, – просит он охранника. И уже ей: – Подумай, Фарназ, когда ты видела свидетельство в последний раз?
– Когда приходили с обыском. Я положила его вот сюда, – она показывает на выдвинутый ящик. – А потом… погоди-ка! – Она выпускает руку Исаака, идет в угол, где высятся стопки папок и бумаг. – Ящики вытряхнули, но на место бумаги не вернули. Так что все здесь. – Она обрушивает стопки на пол, роется в бумажной куче. Запропастившийся документ, думает Исаак, – еще одно доказательство того, насколько его жизнь зависит от случая.
– Вот! – наконец говорит она. – Нашла!
– Вот и отлично! А теперь пошли. И так столько времени потеряли. – Охранник одной рукой берет винтовку, другой – саблю.
– Брат, а сабля? – говорит Исаак. – Вы не вернули саблю на место.
– И не верну. Я ее забираю.
– Но… брат, поймите, это не боевое оружие, это старинная, антикварная вещь. Вы же это понимаете?
– Пошли! Совсем недавно твоя жизнь висела на волоске. А теперь ты раскипятился из-за какой-то сабли. Знаешь, что я тебе скажу? – шепчет он на ухо Исааку. – Рано радуешься свободе. Когда скажу, что ты свободен, тогда будешь свободен. Понял?
* * *
Вид мраморных полов банка, отмытых перед утренним наплывом посетителей, успокаивает его. Зажатый между водителем и охранником, он подходит к стойке, за которой сидит Фариборз Джамшиди, его давний знакомец.
– Чем могу служить?
– Фариборз, это я, Исаак Амин.
Фариборз вглядывается в Исаака, хмурит брови.
– Исаак? Исаак Амин? Но что случилось… – Он оглядывает охранника, водителя, снова переводит взгляд на Исаака. – Чем могу служить?
– Я хочу снять все свои сбережения, наличными. – Исаак подписывает бланк, кладет его на стойку вместе со свидетельством о рождении.
Кассир глядит на документы, но не берет их.
– Брат, ты слышал, что тебе сказали? – говорит охранник.
– Да, сию минуту. – Фариборз берет бланк, свидетельство и уходит в глубь помещения, откуда за их переговорами уже наблюдают несколько служащих. Исаак всех их знает: Кейхани, Фарманиан, молоденькая, кокетливая Гольназ. Он кивает им, через силу улыбается, но мужчины отворачиваются, лишь Гольназ улыбается ему в ответ.
Кассир возвращается с пятью битком набитыми брезентовыми сумками, ставит их к ногам охранника.
– Отлично! – говорит охранник. Глаза его блестят – так же они блестели, когда он взял в руки раззолоченную саблю.
* * *
На улице вовсю светит солнце; пока охранник забрасывает сумки в багажник, Исаак стоит в стороне. Вот оно – уходит все, скопленное тяжким трудом: то, ради чего он безвылазно сидел в конторе, пропускал школьные вечера, опаздывал к ужину. Когда-то он надеялся, что его дети ни в чем не будут нуждаться, надеялся, что он никогда не станет таким, как отец, но этим надеждам не суждено сбыться.
– А ты что же, в машину не сядешь? – говорит охранник.
– Разве мы не закончили? – По коже пробегает холодок. Неужели они убьют его и после того, как обобрали?
– Ну да, брат, ты свободен. Но, может, тебя подбросить до дома?
– Нет, я сам доберусь.
– Как знаешь. – Охранник берется за ручку дверцы. – Поздравляю, брат Амин. Ну ты и везунчик.
Исаак стоит на тротуаре, смотрит вслед отъезжающей машине. Прохожие обтекают его справа и слева – он только сейчас замечает, что загораживает вход в банк, и отходит в сторону. Снова смотрит на выпирающие из туфель ноги, подтягивает брюки – они стали ему велики. Пятна на одежде при свете дня заметнее, чем в полутемной камере. Исаак шарит в кармане в поисках монеты, чтобы позвонить Фарназ, но ничего не находит. И вспоминает, как в детстве стоял перед кинотеатром – в поношенных штанах на вырост, с пустыми карманами – и ждал, когда же подойдет Ахмад-ага с криком: «Шахрефаранг[59]59
«Волшебный фонарь» – особый стереоскоп, в котором показывались диапозитивы и фотографии.
[Закрыть] – иностранный город»! За спиной у старика был расписанный металлический короб с трехмерными видами – там имелся и средневековый английский замок, и парижское кафе летним днем – как далеки были эти страны от пустынной улицы его захолустья. И хотя поглядеть на неведомые края можно было за пустячную плату, с Исаака Ахмад-ага денег никогда не брал.
– Вот увидите, Ахмад-ага, – говорил он старику, – однажды я пришлю вам открытку из таких вот мест.
На что старик отвечал:
– Иншалла, сынок! А еще лучше возьми меня с собой!