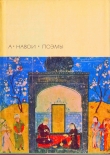Текст книги "Сентябри Шираза"
Автор книги: Далия Софер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Глава сорок третья
В машине по дороге к морю – весенние каникулы решено провести на побережье – родители сообщают ей о предстоящем отъезде. С контрабандистами, которые переправили Шахлу и Кейвана, все обговорено. В сентябре они должны перейти турецкую границу. Но только об этом никому ни слова, предупреждает отец, даже подругам.
У меня не осталось подруг, Баба, так что тебе не о чем беспокоиться.
В это раннее утро она, сонная, сидит на заднем сиденье, смотрит, как меняется дорога – из серой становится желтой, постепенно принимает бледно-золотистый оттенок. Мама, постелив на колени кухонное полотенце в красную клетку, очищает фрукты от кожуры – салон наполняет аромат апельсинов. Включен проигрыватель – поет популярный певец, он уже давно бежал из страны.
– И все-таки, Исаак, зря мы затеяли эту поездку к морю, – говорит мама, передавая отцу ломтик апельсина. – Не стоит привлекать к себе внимание.
– Мы и не привлекаем, – отвечает отец. – Живем себе, как жили, как будто все у нас нормально. В каникулы Ширин мы всегда ездили отдыхать на море. К тому же у нас на лбу не написано, что мы задумали побег.
Задумали побег. Ширин размышляет: каким будет их побег – как у Людовика XVI и Марии-Антуанетты с их любимой собачкой? Или же как у семейства Трапп[66]66
Фон Траппы – семейный ансамбль певцов. Когда в Австрии установился нацистский режим, участника семейного ансамбля капитана фон Траппа пытались вернуть на военную службу, но он сказал, что сначала должен выступить на городском музыкальном фестивале. После выступления вся семья бежала через горы в Швейцарию.
[Закрыть] – без особой спешки, по живописным местам? И что с ними станется, если Лейлин отец узнает о папках до сентября? Их всех арестуют, посадят за решетку? А детей тоже сажают? Если их отправляют на войну, то наверняка и сажают.
Она смотрит в окно и сознает: они в последний раз едут по этой дороге. Асфальт убегает под колеса машины, их пути к морю скоро конец, так же как и их жизни в этой стране. Но грусти нет, одна опустошенность, и оттого она чувствует себя немного виноватой. Ведь покинуть родную страну навсегда – это такое горе. А она не горюет. Только пытается запомнить все, что видит: горные хребты, дорогу, освещенную солнцем, море, то появляющееся, то исчезающее за очередным поворотом, потому что знает – она еще будет тосковать по родным местам. Но запомнить все зараз трудно, и что бы ей быть внимательней раньше, а она верила, что будет здесь вечно, как горы, как солнце, как море.
В их саду на веревках развешено белье. Рядом с домом – черный «джип».
– Это еще что такое? – спрашивает отец, выходя из машины. Он пробует открыть дверь, но ключ не подходит. Дверь открывает бородатый мужчина.
– Добрый день, брат. Это мой дом. Могу я поинтересоваться, что вы в нем делаете? – доносится в окно машины голос отца.
Бородатый пожимает плечами:
– Теперь он мой.
– Ваш? С какой стати? Я дом не продавал, и уж точно не дарил.
– Мне его дало правительство. А у вас есть дом. Зачем вам еще один?
– Как вас понимать, брат?
– А вот так. Я служу делу революции, но жить мне негде. А вы революции не служите, но домов у вас два. Логично, чтобы у меня, как и у вас, был дом со всеми удобствами. Ясно? – Мужчина смотрит поверх головы Исаака на машину, щурит глаза, чтобы лучше разглядеть пассажиров. – А если вы чем-то недовольны, предлагаю всем нам, вместе с вашей женой и дочерью, прокатиться в моем «джипе» до отделения стражей исламской революции.
Отец идет к машине, качает головой, что-то бормочет себе под нос.
– Ну что ж, – он хлопает дверцей, включает зажигание, – похоже, в этом году нам придется снимать дом! – Выезжая со двора, он невесело усмехается. – «У вас два дома, так что один я взял себе!» Ха-ха! Вот так вот, запросто! Нет, как вы это понимаете? – Он резко жмет на газ – аж колеса визжат – и ни разу не оборачивается, чтобы взглянуть на отобранный у него дом. – Ну что ж, подыщем домик на берегу, и никто не помешает нам отдохнуть в свое удовольствие. Море-то они конфисковать не могут. – Он снова смеется, захлебывается смехом, так что ему приходится съехать на обочину. Успокоившись, он смахивает слезы и ведет машину дальше, но теперь уже медленно – поглядывает направо, налево, высматривает, нет ли где таблички с надписью «Сдается». И вскоре находит у самой кромки моря белый домик с синими ставнями и колышущими на ветру кисейными занавесками, с гамаком в саду, с террасой, с отличным видом.
– Ну, дамы, – говорит он, – пойду поищу хозяина, договорюсь насчет платы. А потом лягу в гамак. И чур меня не будить, разве что к ужину. – Он выходит из машины, вдыхает солоноватый воздух. – Эх, Исаак, – говорит он, ударяя кулаком по крыше машины. – Живи дольше, чего только ты не увидишь!
А Ширин думает: вот оно – воздев руки к небу, отец читает газель собственного сочинения и в конце, как и положено, называет себя.
Глава сорок четвертая
Уже который день в доме Мендельсонов царит праздничное настроение. На восьмой день со дня рождения близнецов, Гот цу данк[67]67
Хвала Господу (идиш).
[Закрыть], на этот раз мальчиков, в дом нескончаемым потоком текут поздравляющие, чтобы присутствовать на обрезании. Парвиз смотрит из своего полуподвала на проходящие мимо ноги, особенно внимательно на одни, худые, почти мальчишеские – лодочки на маленьком каблуке, с бантиками ему знакомы – это Рохл. Он надевает чистую рубашку, поднимается наверх.
В доме полно гостей: мужчины в черных костюмах сгрудились в гостиной, они подходят к длинному столу с закусками, накладывают еду на тарелки; женщины в столовой и кухне готовят все новые блюда для мужчин, но и себя не забывают, жуют без передыха. Залман стоит в углу, в окружении мужчин, смеется. После размолвки с Рохл Парвиза не отпускает чувство вины, особенно острое в присутствии Залмана. Но он старается вести себя так, будто ничего не случилось.
– Мистер Мендельсон, – говорит он, – поздравляю вас!
– Парвиз, ты пришел!
– Как Ривка? Что-то ее не видно.
– Она устала. Прилегла. Вот почему мы решили праздновать дома, а не в синагоге. Роды были тяжелые. Эти чертенята не хотели появляться на свет! Ты ел? Дай-ка я тебе положу чего-нибудь.
– Нет-нет, спасибо. Я сам.
Но Залман уже идет к стойке, и Парвизу ничего не остается, как следовать за ним.
– А у меня тоже хорошие вести – отца освободили. Той ночью, когда родились ваши близнецы, я говорил с ним.
– Вот это да! – Залман останавливается, смотрит на Парвиза во все глаза: – Мазл тов! И ты до сих пор молчал!
– Вам хватало хлопот с младенцами. А раз мастерская была закрыта, я…
– Чудо что за день! – говорит Залман. – Благодатный день! – Он кладет на тарелку всевозможные салаты, кусок лосося, бублики. – Вот, сынок. Подкрепись!
Звучит музыка, зажигательная музыка восточноевропейских евреев, – и мужчины пускаются в пляс – обхватив друг друга за плечи, они встают в круг, разом подбрасывают ноги. В столовой, взявшись за руки, танцуют женщины, когда они кружатся, их пестрые юбки образуют узор, точно в калейдоскопе. В углу, у полок с тяжелыми коричневыми томами на иврите, стоит Рохл. На ней голубое платье; заложив руки за спину, она смотрит на танцующих женщин, время от времени косится на мужчин. Заметив Парвиза, она отводит глаза, затем подходит к женщинам, встает в их круг – и вот ее уже не различить в этом разноцветном вихре.
Перед началом церемонии Рохл занимает место у порога гостиной – наблюдает за церемонией оттуда. Парвиз снова и снова вспоминает, как все было: снег, улица, рука Рохл, ее губы. Залман с молодым человеком, очень похожим на него, только моложе и стройнее, братом Рохл, догадывается Парвиз, подходят к раввину, каждый несет на белой подушке спеленутого младенца, позади раввина стоит, прислонясь к стене осунувшаяся Ривка. Близнецы и не подозревают о том, что их ждет, они крепко спят. Но Парвиз знает: через несколько минут их пронзительные крики заглушат и молитву раввина, и «Аминь» членов общины. Он вспоминает свои фотографии – отец точно так же нес его на подушке – и думает, что и его дед в свое время так же нес отца, каждое поколение отмечало появление следующего остающимся навечно шрамом, знаменующим завет с Богом и со страданием, тем самым новорожденный, еще пахнущий молоком и присыпанный тальком, причащался страданиям, прошлым и грядущим.
После чего измученных младенцев уносят в спальню, туда же удаляется и их мать. Остальные разбредаются: кто возвращается к столу с угощением, кто на диван. Красное вино, сладкое и совсем не крепкое, течет рекой – Парвиз поначалу принимает его за виноградный сок и осушает один бокал за другим, пока кто-то не предостерегает его: «Не налегайте так на вино, молодой человек, не то как бы вас не пришлось уносить отсюда на белой подушке, совсем как близнецов».
– Вино? Вот это? Тоже мне вино! – Он снова наполняет бокал – чем он хуже других – смеется, чокается, выкрикивает: – Лехаим – за жизнь!
Рохл стоит в дверях, оглядывая то одну комнату, то другую. Парвиз наблюдает за ней через стекло бокала; наконец ее глаза останавливаются на нем, и губы растягиваются в улыбке.
– А тебе, я смотрю, нравится моя Рохл, – говорит Залман, дружески хлопая Парвиза по спине.
– Мистер Мендельсон, и напугали же вы меня! – Парвиз чуть не расплескал вино. – Мне? Нравится? Да нет, то есть, конечно, нравится, это же ваша дочь, но… – Он вспыхивает, его прошибает пот.
– Ну-ну, не тушуйся! Рохл хорошенькая. Хоть я и ее отец, я не слепой.
Парвиз прячет лицо за бокалом.
– Ну да, нравится, – бормочет он.
– А вот это ни к чему, – говорит Залман уже серьезно, – если, конечно, ты не готов жить, как живут хасиды, строго соблюдать все предписания веры. Рохл, – он смотрит на нее, взгляд у него печальный, встревоженный, – и без того запуталась. Ее сердце и здесь, с нами, и за пределами общины. Не хочу, чтобы у нее возникали новые соблазны.
– Но разве не ей решать? – Парвиз старается совладать с дрожью в голосе. – Нельзя же заставить человека жить, как тебе хочется, вопреки его стремлениям.
– Можно. И я тому пример. Однажды я чуть было не отрекся от всего ради девушки – я тогда был молод и думал только о своем счастье.
– О чьем же еще счастье и думать, как не о своем?
– Видишь ли, в этом-то и разница между тобой и мной. Я смотрю на себя не как на отдельную личность, а как на часть целого, кирпичик в кладке дома. Достаточно выбить пару-тройку кирпичей, и дом рухнет. Мне пришлось пожертвовать сиюминутным счастьем, зато посмотри, что я получил взамен. У меня восемь детей, считая близнецов – да благословит их Господь, – и не исключено, что я успею прибавить к ним еще парочку. Предположим, каждый мой ребенок произведет на свет еще десяток, а те в свою очередь тоже по десятку, получится, что от старика Залмана пойдет тысяча достойных, твердых в вере евреев! Разве этого мало?
– Наверное, вы правы, – улыбается Парвиз. – Если принять вашу точку зрения.
– Парвиз, это единственный способ противостоять уничтожению нашего народа. Мы не имеем права поддаваться соблазнам.
– Но, мистер Мендельсон, я ведь тоже еврей. И что плохого, если Рохл выберет меня?
– Да, ты еврей. Но буду с тобой откровенен. Если вы поженитесь, скорее Рохл отойдет от нашей веры, чем ты примешь ее. Постепенно ваш союз, каким бы безобидным он ни казался, размоет, ослабит устои нашей веры, и через три-четыре поколения некогда густые сливки превратятся в обезжиренное молоко. Понимаешь?
– Думаю, да.
– Вот и хорошо! Если ты по-настоящему, всерьез намерен стать хасидом, приходи – поговорим. Но только, пожалуйста, не думай, что на это можно пойти ради девушки. В таком случае тебя хватит ненадолго.
Да, тут Залман прав. Как бы ни нравилось Парвизу семейство Мендельсонов, жить так, как живут они, он бы не смог: нет в нем той силы веры. И не смог бы он, как Залман, строить свою жизнь, подходя к ней с глобальными мерками, подсчитывая возможных отпрысков, что твой демограф. Ему ясно: он не может жить по заранее намеченному плану, он открыт будущему.
Он выходит на крыльцо, перегибается через перила: сейчас пять, но солнце еще яркое. Парвиз смотрит на красные помидоры, желтые бананы в продуктовом ларьке на углу, и на него нисходит покой. Дни все длиннее, и так будет до июня, потом они – мало-помалу – начнут убывать, но заметно это станет лишь в конце октября, и тогда в пять часов кто-нибудь глянет на сумерки за окном и вздохнет: «Скоро зима! Включи свет!» На смену теплым весенним и летним дням придут унылые осенние и зимние вечера, а после них снова будет ярко сиять солнце. Он понимает: со временем мрак в его душе рассеется так же, как зимний мрак. Стоя на крыльце, Парвиз наслаждается последними минутами перед закатом и думает, что то же солнце всего восемь часов назад светило отцу, пока тот пил в саду чай или по обыкновению прогуливался перед ужином.
Глава сорок пятая
Исаак понимает: отец может умереть в любую минуту. А потом он будет стоять над ним, смотреть на его тело и думать: чего бы он некогда ни ожидал от отца – любви или хотя бы просто ласки – этим ожиданиям уже не сбыться.
– Исаак, – говорит мать, – азиз, почему ты сидишь на траве? Там же грязно!
– Ничего, мам. Зато не так жарко, как в доме.
Мать промокает лоб салфеткой.
– Хорошо бы хоть сегодня пошел дождь.
В саду родительского дома, где кипарисы хоть как-то спасают от не спадающего вот уже вторую неделю зноя, он следит, как струйка дыма, выходя из ноздрей, медленно растворяется в удушливом воздухе. Смотрит на мать – тщедушную, сморщенную, как сушеный абрикос.
– Мама, уезжай с нами, – говорит он. – Что ты будешь делать здесь одна?
– С вами? Ты что, думаешь, у меня достанет на это сил?
– Но не могу же я оставить тебя одну?
– Тебе надо думать о своей семье. Да и вообще, сколько мне осталось… – Мать ерошит волосы сына – так она ерошила их в детстве. – Исаак-джан, давай зайдем в дом, – говорит она. – Чувствую, отец вот-вот отойдет.
Исаак тушит сигарету, встает – от долгого сидения у него затекли ноги. Он задумывается: достанет ли у него самого сил для такого путешествия.
В комнате запах тяжелый, как в больничной палате. Он подходит к отцу, берет его за руку.
– Вот и все, – говорит отец.
– Баба-джан, не сдавайся, не теряй надежды.
– Надежды? – Отец еле слышно смеется. – Какая еще надежда? Все кончено. – Он пытается приподняться на кровати, но руки у него дрожат, и голова падает на подушку. – Какая боль! – говорит он.
– Тебе что-нибудь нужно? Может, ты хочешь пить?
– Не надо. Да и к чему мне вода – из меня ничего не вытекает, я же лопну! – Он пытается смеяться.
Исаак вымученно улыбается. Раз конец уже виден, ожидание – вот что невыносимо: смерть может наступить в любую минуту, но не наступает, и оттого каждая минута длится вечность.
– Утром приходил врач. – Отец еле говорит. – Спросил: «Как вас зовут, какой сейчас год?» Я ответил – я же еще в своем уме. Тогда он спросил: «Что такое Каспий?» Я долго смотрел на него. И ведь знаю я это слово, а вспомнить не могу… «Вода, – сказал я. – Это вода». А он: «Да, это вода, она называется – море». Море, Исаак! Я не мог вспомнить слова «море»! – В волнении отец выпускает руку Исаака и дважды тычет пальцем в воздух. – Всю жизнь… думаешь… задаешься вопросом… Умру ли я в своей постели… или погибну от глупой случайности? Впрочем, какая разница. Пока не пришел твой час, никто не может представить, что это такое. Ужас, ужас… вот это что.
– Успокойся, Хаким, – говорит Афшин. – Гляди, как разволновался.
– Говорят, в последний час на тебя нисходит покой. Но покоя нет, нет…
С этими словами он умирает. Афшин в слезах уходит из комнаты, Исаак остается один, смотрит на отца – вся его поза говорит, что он не приемлет смерть – руки повернуты ладонями вверх, пальцы скрючены, брови нахмурены. До чего же похож отец, думает Исаак, на некачественный алмаз – твердый, но с плохой «спайностью». Такие легко раскалываются.
* * *
Хакима Амина, этого несчастного человека, расточившего все, что успели скопить его дед, торговец шелком, и прадед, раввин из Мешхеда, хоронят в последний день августа в Тегеране на еврейском кладбище, рядом с его отцом. Кроме раввина, отца хоронят только Исаак с матерью и Фарназ. Исаак смотрит, как отца опускают в землю, как на него горсть за горстью падает земля, пока он не скрывается с глаз.
Отец – последний из Аминов, кто покоится здесь.
Глава сорок шестая
Они получают письмо от некоего Жака Аманда, на конверте – парижский штемпель:
Привет!
Спешу сообщить, что у меня все в порядке. Хаджи Голям передает привет; он извиняется, что не дал знать о себе раньше. Дети выросли и обосновались на новом месте. Ну а я поселился в Париже на Монмартре, у меня квартирка с видом на Сакре-Кёр. Небольшая, но уютная. Надеюсь, еще увидимся.
Всего наилучшего,Жак
Фарназ дважды перечитывает письмо, затем бежит в спальню – там Исаак складывает камни в мешочек.
– Исаак! Письмо от Джавада. Он в Париже! У него квартира на Монмартре.
– Вот чертяка! – смеется Исаак. – Небось поселился поближе к кабаре. Ну дает! – Его лицо проясняется, глаза озорно блестят. – Теперь наш черед, Фарназ-джан! Наш черед.
– Да, наш. – Люди выстраиваются в очередь, чтобы пересечь границу и рассеяться по карте мира, как пыль. – Но если мы уедем, не позаботившись о нашем достоянии, кто в Женеве, Париже, да хоть и в Тимбукту поверит, что мы занимали высокое положение в обществе? – Об этом же когда-то говорила и Шахла; как знать, может, она и была права. Фарназ задумывается: даже если они пересекут границу, как сложится их жизнь там?
– Мостафа принесет остальные деньги сегодня, – говорит Исаак.
– Хорошо бы. Этот выжига получает дом, можно сказать, даром!
– Радуйся, что нам вообще удалось продать его в такой короткий срок.
– Да, я рада. Но дом стоит раз в пять дороже той цены, на которую ты согласился.
Исаак швыряет мешочек на кровать.
– Согласился, говоришь? А у меня был выбор? Фарназ, мы уезжаем. Как ты не понимаешь? Уезжаем через две недели. Благодари Бога, что нам вообще удалось найти покупателя. Контрабандисты названивают каждый день – требуют деньги. А я отвечаю: подождите, вот-вот будут!
– Ну и отлично! И не кричи на меня.
– Как мне не кричать? – Исаак идет в ванную, ополаскивает лицо. – Как не кричать, если у меня больше нет сил! – Он склоняется над раковиной, смотрит на свое отражение в зеркале. – Я больше не могу, – говорит он уже спокойнее. – Если бы не ты и дети, я бы не уехал, доживал остаток дней с матерью.
– Какой еще остаток дней? Что на тебя нашло? Тебе нет и шестидесяти!
– Будет. Через пару лет будет.
– Тебе еще жить и жить, так что кончай эти стариковские разговоры. – Она садится на кровать, развязывает мешочек, высыпает камни – голубое шелковое покрывало оттеняет их блеск. Пробегает по ним рукой – их твердые, не отшлифованные края колются. – Ты что, думаешь, мне хочется ехать?
– Ну вот, теперь ты уже не хочешь ехать. Ведь сама настаивала, вспомни. О чем ты говоришь?
– О том же, что и ты. Что я не хочу ехать, но еду, потому что выбора нет. Вот только я почему-то не имею права сказать об этом. Почему? Получается, что я неблагодарная – вот почему. Но я тоже устала и, как и ты, многого лишилась. – Она сдвигает камни в сторону, ложится. От жары не спасают даже включенные на полную мощность кондиционеры. Она смотрит на Исаака – он стоит над раковиной. И понимает: теперь не муж будет утешать ее, а она его, потому что – и этого отрицать нельзя – он сидел в тюрьме, ему не раз грозила смерть, он видел и слышал, как рядом умирают люди. Ее страдания несравнимы с его, и ей, если она хочет остаться с ним, придется их скрывать, потому что такой груз никакая близость не выдержит. Она слышит, как он плачет – так же, как плакал в тот день, когда узнал о казни Куроша. Она лежит и слушает, но не пытается его успокоить.
Она выходит на улицу; когда она вернется, дом уже не будет принадлежать им. Долго кружит на машине по городу, руки на руле дрожат, солнце бьет в лобовое стекло, ослепляет. Она понимает: все когда-нибудь да кончается, но, избавляясь от вещей, подписывая договор о продаже дома, они будто сами готовят себе конец, выбирают гроб, своей волей ложатся в него и заколачивают крышку изнутри.
Она останавливает машину: осталось еще одно дело – вернуть миниатюру шестнадцатого века другу Джавада. Ей предстоит провести какое-то время среди старинных вещей, и это утешает ее, она надеется, если Шахрийар Бехешти окажется свободен, выпить с ним чашечку-другую чаю. Но, подойдя к магазину, она видит, что тот пуст и двери его заперты. Проверяя свою память, она идет по улице – туда-сюда: уж не перепутала ли она адрес.
– Вы Бехешти ищете? – окликает ее продавец ковров – он курит в дверях лавки.
– Да. Он закрыл магазин?
– Вернее, его закрыли, – продавец подходит к ней. И уже тише продолжает: – Ханом, за ним пришли. Забрали у бедняги все, вплоть до последней старинной вещицы. А когда он попробовал возразить, завязали ему глаза, посадили в фургон и увезли.
Фарназ заглядывает в окна. Внутри остались лишь пыльные полки, стаканчик с мутным чаем да облепленный муравьями недоеденный бутерброд на прилавке – последний обед Шахрийара Бехешти.
– По-видимому, его забрали недавно.
– Да, на прошлой неделе.
Она благодарит продавца и уходит, унося миниатюру под мышкой. Она решает увезти ее с собой. Как знать, вдруг антиквар тоже перейдет границу и окажется в Америке, а там попытается разыскать ее или наткнется в парижском кафе на Джавада. Тогда она вернет ему миниатюру – антиквар обрадуется ей, как потерянному и найденному ребенку: ведь, кроме нее, у него ничего не останется от прошлого.