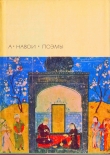Текст книги "Сентябри Шираза"
Автор книги: Далия Софер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
– До чего же много у вас вещей, сестра! – говорил солдат. – Зачем так много?
* * *
Кухню и остальные спальни они обыскивают не так тщательно. Около полуночи солдаты собираются уходить, но тут вспоминают, что забыли про сад. Стоя у стеклянных дверей, они смотрят в ночь. По ту сторону дверей яростно лает собака.
– Сестра, привяжите эту бешеную псину – мы по-быстрому осмотрим сад.
Фарназ вспоминает, что Ширин вернулась в запачканных землей туфлях и брюках. И ее осеняет: а ведь дочь не просто вышла поиграть, что, если она и впрямь что-то спрятала в саду.
– Брат, да я сама боюсь эту собаку, – говорит Фарназ. – Вообще-то она мужнина. В его отсутствие за собакой приглядывает служанка, ее сегодня нет. Может, вы сами привяжете собаку?
Солдат переглядывается с напарником, потом смотрит на часы.
– Уже поздно, – говорит он. – Думаю, мы и так неплохо поработали.
Они уходят, унося тяжелые сумки с уликами. Фарназ запирает дверь, берет дочь за руку, ведет наверх.
– Ширин, что ты делала в саду? – спрашивает она, когда обе уже лежат в кровати.
– Ничего.
– Почему же ты так испачкалась?
Ширин переворачивается, ложится на бок, натягивает одеяло до подбородка.
– Одеяло пахнет папой, – шепчет она.
Фарназ тоже ложится на бок, обнимает исхудавшее тельце дочери и закрывает глаза. Лежа так, она вспоминает первые дни войны, когда жуткий вой иракских бомб, сыпавшихся на темный Тегеран, загонял их под лестницу – это место казалось надежным, хотя на самом деле было ничуть не безопаснее других. Они сидели под лестницей при свете свечи и ждали, когда кончится бомбежка, Исаак пытался их развлечь: его ловкие руки, отбрасывавшие тени на стене, изображали поющих котов, ссорящихся лягушек.
Глава восемнадцатая
Нью-Йорк любит простор. Город растет вверх, раскидывает щупальца в стороны – остров захватывает соседствующую сушу, перекидывается на нее многочисленными мостами и тоннелями. Тот, кто склонен предаваться праздности – а именно так теперь думает о себе Парвиз, – может бродить из одного только желания побродить, однако при этом обязан вписываться в общую схему – как электрон в потоке электричества. Не менее важно, понимает Парвиз, полагаться только на себя, недаром, прощаясь, друзья говорят: «Береги себя!». В прежние же времена друзья сказали бы: Хода хафез, храни тебя Господь.
Парвиз укрывается от города в шляпной мастерской Залмана Мендельсона, где три дня в неделю отпаривает неотличимые одна от другой шляпы. Работа отупляет его, недодуманные мысли вылетают из головы так же быстро, как пар из паровой машины. Время здесь течет медленно и мучительно, как в старших классах школы с ее отупляющими уроками, на которых живой, подвижный ум вынужден гнать вольные мысли, чтобы запомнить, сколько выращивают риса в Исфахане или экспортируют фисташек из Рафсанджана. Тем не менее в нем самом произошли перемены, причем настолько серьезные, что ему теперь доставляют удовольствие медленно текущие, похожие один на другой часы, требующие от него усилий не больше, чем от рыбки в аквариуме. Парвиз смотрит на Залмана Мендельсона – тот склонился в углу над конторскими книгами и высчитывает прибыли и убытки своей жизни. Парвизу кажется, что он счастлив, из-за круглого лица Залман производит впечатление человека щедрого и благодушного. Если бы не бледная, сероватая кожа – явное следствие долгих лет в темноватом, сыром помещении – Мендельсон мог бы являть собой образец человека, жизнь которого удалась.
– Мистер Мендельсон, вам нравится Бруклин?
Залман отрывается от книг, очки съезжают на кончик носа.
– Конечно. Почему бы он мне не нравился?
– Ну да, здесь замечательно. Но вы никогда не думали, как вам жилось бы где-нибудь еще?
– С чего вдруг мне жить где-то еще? Я живу здесь. – Залман кладет ручку, снимает очки. – Мальчик, к чему ты клонишь? Что имеешь в виду?
– Не знаю. Просто мне интересно: вы никогда ни о чем не жалели?
– Жалел? О чем, например?
– Ну… не хотели бы, чтобы все обернулось иначе?
– Нет, не жалел, – говорит Залман. – Да и о чем жалеть? Господь дал мне замечательную семью, все мы здоровы, и я каждый день возношу Господу благодарность.
– Да, да, это так. Ну а в остальном? Вам не жаль, что вашему отцу после тюрьмы пришлось оставить Россию? Вы не задумывались, какой была бы ваша жизнь, живи вы не в Бруклине, а в Ленинграде?
– Парвиз! – Залман Мендельсон смеется. – Как можно задаваться такими вопросами – ведь на них нет ответа. На все воля Божья. Могу ли я усомниться в ней? К тому же сложись все иначе, останься мой отец в Ленинграде, он не оказался бы во Владивостоке, не встретил бы мою маму, и я бы не родился. Отец женился бы на другой, у них появились бы другие дети. Все происходящее в мире имеет смысл, и ведом он одному лишь Богу.
Порыв ветра возвещает о появлении Рохл, она раскраснелась, сквозь рукава свитера видно, какие у нее длинные, тонкие руки. К чему такие красивые, изящные руки в этой ортодоксальной среде, думает Парвиз. К чему, раз им не обнять тех, кто ценит красоту. Рохл, как обычно, ставит пакет с отцовым обедом на прилавок.
– Рохл, ты почему не в пальто? – спрашивает отец. – Ты же наверняка замерзла?
– Забыла в лавке.
– Забыла в лавке? Господи, Рохл, вечно ты витаешь в облаках… Сходи за ним, не то завтра придется идти в школу без пальто.
– Некогда. Надо помочь маме приготовить ужин. Скоро придут Довид и Хана.
Парвиз сквозь клубы пара смотрит на Рохл.
– Я могу после работы заскочить в лавку, – вызывается он. – Отнесу пальто к вам.
Впервые за все это время Рохл останавливает на нем взгляд.
– Спасибо! Вы очень любезны.
Когда девушка уходит, Парвиза вдруг захлестывает волна счастья: он надеется, что поручением вечер не закончится.
– Спасибо, Парвиз! – благодарит его Залман. – Вообще-то, тебе приятно будет познакомиться с мистером Брухимом, хозяином лавки, где работает Рохл. Он, как и ты, иранец. Они с женой приехали в Америку, тут она его бросила, и бедняга в таком почтенном возрасте оказался на улице. Жена выжала из мужа все, что можно! Они тридцать лет прожили вместе, и тут – на тебе, он ей больше не нужен. Само собой, опекунство над обеими дочерьми присудили ей. Несколько месяцев мистер Брухим жил в машине, питался консервами: фасолью и тунцом. Дочь, примерно одного возраста с Рохл, иногда тайком приходила к отцу, приносила поесть. В конце концов он пришел в нашу общину, мы помогли ему. И он обосновался здесь. У него квартира, цветочная лавка и, благослови его Господь, собака. Он говорит, что на женщин даже не смотрит. Оно и понятно, после всего пережитого.
* * *
Парвиз заходит в цветочную лавку; звякает колокольчик. За прилавком приземистый, усатый мужчина в твидовом пиджаке обрезает стебли цветов. Парвиз представляется, они жмут друг другу руки.
– Так, значит, вам здесь нравится? – спрашивает мистер Брухим. – И что вы изучаете?
– Архитектуру.
– В самом деле? Мой брат был архитектор. И чем, по-вашему, он занимается сейчас? Дома красит. – С лица мистера Брухима не сходила улыбка, но глаза у него грустные. – Я вам вот что скажу. Не ограничивайтесь архитектурой, учитесь чему-нибудь еще. Архитектуру одной страны не перенести в другую. Люди ее не примут.
– Зачем переносить, мистер Брухим? Я же теперь живу здесь.
– Да, теперь вы живете здесь. Но кто знает, где вы окажетесь через несколько лет. Вам и впрямь так нравится эта страна, что вы не представляете жизни где-то еще? Стоит покинуть родину, как начинаешь переезжать с места на место, и никогда не знаешь, куда тебя забросит. – Мистер Брухим уходит в подсобку, выносит пальто Рохл, отдает его Парвизу. – Я вот был врачом. А теперь, как видите, торгую цветами. – Он улыбается, обхватывает себя руками. – Хочется думать, что это временно. Но, между нами, – шепчет он, – не нравятся мне эти бородачи, сдвинутые на религии. Жду не дождусь, когда скоплю немного и съеду отсюда. Но ничего не поделаешь. Они помогли мне, вот я и устроился здесь. Ну что ж, Парвиз-джан, не буду отягощать вас своими трудностями. Передавайте привет Рохл и ее родителям.
– Вам же вроде не по душе бородачи? – Парвиз смеется.
– Против них я как раз ничего не имею! Ну, идите же, идите!
* * *
По дороге домой Парвиз прижимает пальто к груди. От него исходит сладковатый цветочный аромат, и это удивляет его: он никак не думал, что от Рохл может так пахнуть. Он утыкается в пальто носом, на мгновение застывает, но замечает на другой стороне улицы зеленщика Янки и поднимает голову.
– Эрев тов! – Янки машет ему. – Как жизнь?
– Спасибо, ничего! Про долг помню. Как только смогу, сразу расплачусь.
– Как же, расплатишься, – ворчит Янки. – Машиах[33]33
Мессия (иврит).
[Закрыть] явится, прежде чем ты расплатишься! – И зеленщик сворачивает за угол.
К длинному списку потерь Парвиз добавляет чувство собственного достоинства. Ну кто бы позволил себе говорить с ним так, как Янки? Парвиз вспоминает мистера Брухима, его морщинистое лицо, твидовый пиджак, думает о том, что наверняка в свое время пациенты были ему благодарны, думает о том, какую жизнь мистер Брухим оставил позади. Теперь у старика цветочная лавка на одной из улочек Бруклина, и ему приходится учить, чем отличаются простые фиалки от узамбарских.
Парвиз подходит к крыльцу Мендельсонов, звонит в дверь. Конечно, Рохл может послать к двери кого-нибудь из братьев-сестер. Но когда дверь наконец открывается, перед ним стоит Рохл.
– Спасибо! – Она с улыбкой берет пальто.
– Не за что! Ну, как званый ужин?
– Званый? – смеется Рохл. – Никакой он не званый. Просто одна молодая пара отправляется завтра эмиссарами в Лондон.
– Эмиссарами?
– Ну да. Разве ты не слышал про наших эмиссаров? Их тысячи. Они разъезжаются по разным странам, помогают еврейским общинам. Организовывают кошерную кухню, строят школы, синагоги и все такое прочее.
– Прямо хорошо налаженное производство. Экспорт иудаизма.
– Да нет, все не так. – Улыбка с лица Рохл исчезает – так же легко, как и появилась. – Ну что ж, спокойной ночи. Спасибо за пальто, – прибавляет она, уже закрывая дверь.
Стоя на крыльце, Парвиз сует руки без перчаток в карманы, вглядывается в темноту улицы. До чего же зыбка грань между общением и разобщенностью – один неверный шаг, одно неверное слово, и тебя отторгают.
Глава девятнадцатая
Музыкальные стулья у Лейлы заменяют музыкальные подушки. Ширин с девочками – они пришли к Лейле на день рождения – раскладывают подушки на полу, Фариде-ханом стоит у стереосистемы, она отвечает за музыку. Ширин никогда не нравилась эта игра, цель которой, как ей кажется, дать понять, что в любой компании всегда кто-то лишний.
Музыку включают в четвертый раз, и Ширин выбывает. Теперь она стоит в сторонке с тремя другими выбывшими и наблюдает за игрой. Неразбериха раз за разом усиливается, девочки визжат, смеются, торопясь занять свободное место. Ширин смотрит в окно. Сегодня утром обещали снегопад. Уже падают крупные снежинки, быстро облепляют деревья, крыши домов. Ширин вспоминает, как зимой по выходным, когда и отец, и Парвиз были еще дома, они все вместе шли обедать в любимую кебабную отца, или в тот русский ресторан, где из котлеты по-киевски, если ее проткнуть ножом, текло масло. После чего, сытые и полусонные, они возвращались домой, а там их убаюкивали теплые батареи. Мама заваривала им чай, пела; все, кто слышал ее чудный голос, говорили, что ей следовало бы стать певицей. На что она отвечала: «Следовало бы, следовало бы… да мало ли кем еще мне следовало бы стать…» Отец брал ворох газет и читал, что случилось на прошлой неделе: землетрясения, политические убийства, поножовщина, кражи… Ширин уютно сворачивалась на диване рядом с отцом, мужской запах – табака, лосьона после бритья и типографской краски – был такой уютный.
* * *
Семь девочек еще не выбыли из игры, Ширин осеняет: у нее есть время спуститься в подвал и забрать еще несколько папок. Фариде-ханом поглощена игрой: то и дело жмет на кнопки «вперед» и «стоп». Отца Лейлы, скорее всего, нет; будь он дома, никакой музыки не было бы. Но где же спрятать папки, ведь у нее нет с собой портфеля? Что, если кто-нибудь из девочек ее увидит? Она вспоминает, как в тот день, когда к ним пришли с обыском, она закопала папку «Али Реза Расти» в саду под вишней. Она тогда едва не попалась – запачкала брючины землей. Долго ли еще ей будет везти? Но ведь она здесь, и уже выбыла из игры. Так что, по крайней мере, стоит попытаться.
Ширин на цыпочках выходит из комнаты, забирает из спальни Лейлы свое пальто и по скрипучей лестнице спускается в подвал. Топот ног наверху заставляет сердце учащенно биться. Она отворяет дверцы шкафа, вынимает вещи. Стопка с папками выросла. Ширин берет три верхних папки, заворачивает в пальто, прокрадывается назад. Пальто вместе с папками Ширин запихивает в шкаф Лейлы.
А в гостиной две девочки вовсю соперничают за последнее место. Соперницы описывают круги, но вот музыка обрывается, и на подушке оказывается Элахе, дочь начальника тюрьмы. Интересно, подыграла ли Фариде-ханом Элахе? Вполне возможно: расположить к себе девочку из такой семьи никогда не помешает.
Но вот уже спели песню, поздравили с днем рождения, Лейла задула свечи, теперь Ширин ест торт, но мысли ее заняты папками. Как бы забрать пальто так, чтобы никто не заметил? А что, если об этом станет известно всему классу? Что бы сделала Элахе, если бы узнала? Уж точно рассказала бы своему отцу. А что сделал бы ее отец? К горлу подкатывает тошнота, у непереваренного жирного крема кислый привкус. Она перестает жевать. Остальные девочки уминают уже по второму и даже третьему куску и обсуждают, во что еще поиграть. Предлагаются классики, «Монополия», испорченный телефон.
– Ширин-джан, тебе что, не нравится торт? – спрашивает Фариде-ханом.
– Торт очень вкусный. Просто… мне что-то нехорошо. – Под свитером Ширин вся взмокла, капельки пота стекают по груди к животу. Она извиняется и выходит – позвонить маме, чтобы та заехала за ней.
– Можно подумать, у тебя аллергия на наш дом! – Фариде-ханом смеется. – Стоит тебе прийти к нам, как ты заболеваешь.
– С ней и в школе так, – вставляет Элахе. – Вечно сидит в медицинском кабинете. – Элахе теперь, когда статус ее повысился, говорит больше всех и ведет себя легко и свободно не только со сверстницами, но и со взрослыми.
– Вот так так, Ширин-джан, – говорит Фариде-ханом. – Все время болеешь? Что ж, есть такие дети.
За последние две недели Ширин пять раз отправляли в медицинский кабинет; сверстницы, учителя, а теперь и мать Лейлы считают ее болезненной. Но сама Ширин болезненной себя совсем не считает. Просто иногда накатывает тошнота, а с ней и острая боль в животе; но как-то раз, пока Ширин сидела в медицинском кабинете и школьная медсестра Сохейла-ханом поила ее чаем, живот перестал болеть, и рвотный позыв прошел. Сидя в тихом, залитом солнцем кабинете с белыми стенами, вдали от других детей, Ширин позволила медсестре, доброй женщине, ухаживать за собой, поговаривали, что она потеряла дочь в революцию, в один из самых кровавых мятежей. Черная пятница – так потом назвали тот день. Однако для Сохейлы-ханом, подумала Ширин, черными стали не только другие дни, но и другие недели и месяцы. Интересно, не одиноко ли Сохейле-ханом в этом кабинете, чья тишина постоянно напоминает ей о дочери. Кажется, Сохейла рада, что Ширин так часто нарушает ее одиночество.
Девочки затевают игру в испорченный телефон, Ширин приносит пальто, расправляет его на коленях так, чтобы папки не были видны. Ожидая маму, она наблюдает, как одноклассницы, хихикая, по очереди шепчут друг другу на ухо какую-то фразу. В конце фраза выходит перевранной, совсем не похожей на первоначальную.
С улицы слышен гудок – мама приехала. Ширин одной рукой держит пальто, другой машет на прощание одноклассницам.
– Поправляйся! – кричит кто-то, и Ширин говорит спасибо, хотя не уверена, что их пожелания искренние.
По снегу машина едет медленно, то и дело норовя пойти юзом.
– Колеса без цепей, – говорит мама.
Ширин боится, что мама не справится с управлением и врежется в дерево. Но вскоре они добираются до дома, целыми и невредимыми.
У себя в комнате Ширин раскладывает папки на столе, увидев на одной из них имя Джавад Амин, она бежит в ванную, и ее выворачивает. Пока мама умывает ее, Ширин смотрит на свое отражение в зеркале, видит заколки с вишенками – последний подарок дяди Джавада. Ей хочется рассказать маме о папках, о папке дяди Джавада, но она не решается. Мама и без того расстроена, думает она, а от такого известия, чего доброго, может и умереть. Горе ужасает Ширин еще и тем, что оно незримо.
Немного поспав, выпив чая с мятой, Ширин относит папки в сад и закапывает поверх папки «Али Реза Расти».
– Удачи тебе, дядя Джавад! – говорит она, забрасывая его папку землей со снегом.
Глава двадцатая
Исаак рассматривает свои руки – кожа да кости, темные вены, пальцы, они всегда казались ему коротковатыми. Эти руки, думает он, – его связь с окружающим миром. Исаак глядит на свои ноги – они не красивые и не уродливые – ноги как ноги, свою задачу они выполняют – не дают ему упасть. Сколько еще им удастся избегать побоев? Чем дольше Исаак смотрит на свои руки и ноги, тем больше ему кажется, что они живут отдельной от него жизнью; интересно, случись землетрясение, авиакатастрофа или что-то еще в этом роде, и их бы ампутировали, узнал бы он их? Человек живет в своем теле годами, однако редко обращает внимание на это вместилище с его мудрено устроенными, служащими ему верой и правдой членами. Свой дом лучше помнишь, чем свое тело: ты можешь с легкостью сказать, сколько у тебя комнат, окон, назвать цвет обоев и плитки в ванной.
Что случится с его телом, если ему суждено умереть здесь? Завернут ли его тело в саван и положат ли в деревянный гроб, как того требует его вера, или бросят куда-нибудь, скажем, в общую могилу? Что произойдет с его верными руками и самыми что ни на есть обычными ногами, к которым он вдруг испытывает горячую любовь? Будет ли шомер, страж сидеть над его трупом и читать псалмы, пока его не предадут земле? Станут ли его домашние соблюдать семидневный траур, занавесят ли зеркала, вернется ли сын? Прочтет ли кто-нибудь над ним кадиш?[34]34
Еврейская поминальная молитва.
[Закрыть] Исаак подносит ко рту правую руку, целует ее, касаясь губами костяшек.
– Амин-ага, что с вами? – спрашивает Рамин.
– Нет-нет, ничего. – Он сидит во дворе тюрьмы среди тех же заключенных, к ним присоединился только Вартан, тот самый пианист, но он не очень-то разговорчив, во всяком случае, в тюрьме. Исааку тоже особо нечего сказать. К еженедельным прогулкам на свежем воздухе он равнодушен. В первое время он в этот час старался дышать как можно глубже, можно подумать, если дышать часто и глубоко, запасешься кислородом на все сто шестьдесят семь часов недели. Но если наесться до отвала накануне Йом Кипура[35]35
Йом Кипур (иврит) – Судный день, последний из Десяти дней трепета, первых десяти дней года. В этот день не пьют и не едят от заката солнца до вечера следующего дня.
[Закрыть] – голод к концу этого долгого дня ощущается не менее остро. Так что, как глубоко ни дыши, выдержать нескончаемые дни в промозглой камере это не помогает. Уж так устроено тело человека. Чтобы выжить, ему необходимо регулярно получать еду, воздух, любовь. Тело не аккумулятор, его не подзарядить. И ни еду, ни воздух, а также все прочее не накопить – они либо есть, либо их нет.
– Ну, маэстро, расскажите-ка нам еще про Вену, – говорит Рамин.
Заключенные прозвали Вартана маэстро – насмешливо и в то же время уважительно. Прежде они цеплялись к Исааку, теперь его место занял Вартан.
– Я уже рассказывал про город, про кафе, про оперный театр… Что еще вас интересует?
– А женщины? – шепчет Рамин. – Какие они, красивые?
– Ну, для кого-то, наверно, красивые. Мне они показались довольно невзрачными.
– Ладно, хватит о Вене, – говорит Реза. – Лучше расскажите, как вы играли для шаха. Каково это – быть шутом при дворе?
– Я не был шутом. Я играл в Театре оперы и балета.
– Реза-ага, что это ты тут допрашиваешь всех подряд? – говорит Хамид. – Своди тебя отец разок-другой в театр, не был бы таким дикарем.
В свое время при шахе Хамид был министром, и на допросы его вызывают чаще других. Но он убежден в своей невиновности и смотрит в будущее с надеждой, возможно, потому, что иначе просто не выжить.
– Хамид-ага, а вы думаете, что, если ты наряжаешься да рассиживаешь на бархатных стульях под хрустальными люстрами, так ты и культурный человек? – говорит Реза. – Вы прямо как мой отец – он такой же недоброжелательный и заносчивый.
– Если ты считаешь отца недоброжелательным и заносчивым, зачем помог ему бежать?
– Маэстро, а свою музыку вы сочиняете? – Рамин пытается снять напряжение, точно ребенок, оказавшийся между взрослыми спорщиками.
– Давным-давно я начинал писать симфонию. Но так и не закончил.
– Чтобы написать целую симфонию, надо влюбиться, – заключает Рамин. – Уверен, иначе ничего не получится.
– Может быть.
Вартан бросает взгляд на Исаака и тут же отводит глаза. Исаак чувствует, как в нем вскипает гнев. Что означает этот взгляд? Неужели Вартан хочет сказать, что любил Фарназ, или наоборот хочет уверить, что до любовных отношений у них дело не дошло? И понимает: это уже не имеет никакого значения. Между Вартаном и Фарназ наверняка что-то было, может, всего лишь мимолетное увлечение, но этого ему уже никогда не узнать. Сейчас и он, и Вартан осуждены и сидят в одной тюрьме. Не исключено, что они и погибнут вместе, и их тела бросят в общую могилу – одно на другое. Как знать?
Охранник – его зовут Хосейн – стоит неподалеку. Он самый добродушный из всех надсмотрщиков: как правило, он не мешает заключенным разговаривать, если только разговор не касается запретных тем.
Он подходит к заключенным, озирается – не смотрят ли другие охранники – и, понизив голос, говорит:
– В последнее время казнят все больше. Так что если вас вызовут на допрос, советую раскаяться.
– Раскаяться? – говорит Мухаммад-ага. До этого старик уже несколько недель не проронил ни слова. – Раскаяться в чем, а, брат Хосейн? В том, в чем не виновен, в том, чего не совершал?
– А вам-то чем это плохо, Мухаммад-ага? – говорит Хосейн. – Если будете молиться и вести себя как правоверный, вас отпустят. Вы пожилой человек. Вам и жизни-то осталось всего ничего – зачем вам лишние мучения?
– Затем, брат Хосейн, что, как я молюсь, это дело мое и Божье. К тому же возвращаться мне некуда. Жена умерла, три дочери в тюрьме.
– Всех нас убьют, – говорит Мехди, когда Хосейн отходит. – Хорошо хотя бы они потом выплатили нашим семьям кровные откупные.
– Кровные откупные выплачивают, только когда один правоверный нечаянно убьет другого, – говорит Хамид. – А нас убьют вовсе не нечаянно, так что какие там откупные.
– Даже если откупные и выплатят, за вас, Амин-ага, и за вашего дружка маэстро дадут лишь половину того, что за любого из нас, – Реза усмехается. – Вам это известно?
Исаак не отвечает. Кровь еврея, христианина да и любого неверного ценится не так, как кровь мусульманина, – это он, разумеется, знает. Однако закон этот, как и многие другие законы страны, раньше казавшийся ему устаревшим и даже смешным, вдруг ужасает его. Кровные откупные. Плата за пролитую кровь. Исаак смотрит на Вартана, тот сидит, обхватив колени – он понурился, сник. Что там было или не было в их жизни, их сближает одно – их предки пережили резню: евреев резали нацисты, армян – турки. И не означает ли причастность к сообществу, пережившему резню, какое-никакое родство?
– Во времена Кира и Дария, – говорит Хамид, – в нашей стране царили добро и справедливость. Все считались равными. Мы были великой нацией, империей.
– Хватит с нас высоких слов, Хамид-ага! – говорит Мехди. – Именно в этом корень всех наших бед. Мы считаем себя особенными, потому что некогда наша страна была великой. Кир, Дарий, Персеполь. Но когда это было? А кто мы теперь? Теперь мы варвары.
– Далеко не все из нас варвары, – говорит Хамид. – Года два назад, когда революционеры вздумали было сровнять Персеполь с землей, губернатор Фарса[36]36
Фарс – одна из южных провинций Ирана, ее административный центр – Шираз.
[Закрыть] и жители Шираза силой остановили их. Когда революционеры хотели запретить празднование нашего Нового года, народ не подчинился. Потому что это – неотъемлемая часть нашего зороастрийского прошлого, и мы не отступимся от него, какой бы режим ни возобладал.
– Прекратить разговоры! – говорит Хосейн и берется за винтовку. – И вообще, ваше время истекло. Возвращайтесь в камеры. И помните, что я вам сказал.
По дороге в камеру Исаак раздумывает, может ли он раскаяться. В чем бы его ни обвинили, он не виноват, и раскаяться он может разве что в том, что родился на свет.