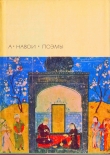Текст книги "Сентябри Шираза"
Автор книги: Далия Софер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Глава двадцать четвертая
«В ней не меньше пяти и не больше двенадцати двустиший-бейтов, начало рифмовки – в первом бейте, в дальнейшем – однозвучная рифма идет через строку, т. е. первый стих каждого последующего бейта остается незарифмованным. Количество строк всегда четное. В конце обязательно упоминается поэтическое имя автора».
Ширин читает определение газели, старинной стихотворной формы, которой замечательно владел Хафиз, чьи стихи часто читал отец после ужина, пока брился, в долгих поездках, прерывая наступившее молчание. Иногда отцу вторила мама, тогда они читали стихи дуэтом.
Переворачивая страницы старого отцовского учебника, Ширин читает приводимые образцы газелей, но их смысл ей непонятен. Как-то раз, после того, как отец растолковал ей, в чем смысл одного стихотворения – речь в нем шла о том, что и время, и красота неверны, – она спросила:
– И к чему это ведет, а, пап?
Он сказал:
– Ни к чему, Ширин-джан. Вот что надо понять, и про газели в первую очередь. Они не дают решений. Представь себе, что оратор просто-напросто размахивает руками, без слов.
Может, и жизнь как газель – не дает решений. Ширин утешает мысль, что можно просто помахать руками. Может, выхода и нет, может, ничего нельзя поделать. Она откладывает отцовский учебник вместе с домашним заданием и забирается в кровать, под одеяло. Ну и что, что день в разгаре. Если ничего по-настоящему не начинается и не кончается, к чему дорожить временем?
Звонок в дверь выводит ее из дремы. Кто бы это мог быть? Очередной обыск без предупреждения? Или посыльный с известием о казни отца? Ширин вылезает из кровати, идет к двери спальни, но выйти не решается.
– Какая приятная неожиданность, – слышит Ширин голос мамы. – Фариде-ханом, может, все же зайдете, выпьете чаю? Да-да, Лейла-джан, входи. Ширин наверху, делает уроки.
Ширин спускается встретить Лейлу.
– Что-нибудь не так? – спрашивает она, едва они остаются одни.
– Отец весь день кричал на нас с мамой, – шепчет Лейла. – Говорит, после моего дня рождения из подвала исчезло несколько папок.
Ширин хочет что-то сказать, но голос ее пресекается.
– Что за папки? – наконец выдавливает она из себя.
– Точно не знаю. Отец сказал, что в папках были дела тех, кого собирались арестовать. Я ведь говорила тебе, что отец связан со стражами исламской революции?
Ширин осеняет: исчезла папка дяди Джавада, а раз так, кого же и подозревать, как не ее. Почему это не пришло ей в голову раньше? Неужели в конце концов найдут те четыре папки в саду?
– А он знает, какие именно папки пропали?
– Понятия не имею. А что?
– Да так, ничего. Просто любопытно. – На лбу Ширин выступает испарина.
– И знаешь что еще? – продолжает Лейла. – После того как он накричал на нас, я видела, как он пил виски, – помнишь бутылки в подвале? А сам вечно твердит, что спиртное запрещено.
– И что он собирается делать?
– Хочет, чтобы мама выяснила, кто взял папки. Мы должны допросить всех, кто был у меня на дне рождения. Папа говорит, если мы их не допросим, он допросит их сам. Но вообще-то он подозревает Элахе.
– Элахе?
– Да. Папа недолюбливает ее отца. Считает, что не отца Элахе, а его должны были назначить начальником тюрьмы. Наверно, они поцапались из-за этого назначения. И теперь папа уверен, что отец Элахе хочет ему подгадить.
– Да, похоже, что это Элахе, – говорит Ширин.
– Ужас какой-то, – говорит Лейла. – И что же – мне теперь допрашивать всех по очереди? Так я без подруг останусь. – Она сидит на первой ступеньке лестницы, обхватив голову. – У меня никогда не было такого дня рождения, – она поднимает глаза на Ширин. – Я так ждала его! И почти все девочки пришли. Мне даже не верилось. Наверно, они пришли не ради меня. А потому что знают, кто мой отец. – Лейла поднимается вверх по лестнице.
– Ну что ты, конечно, ради тебя, – говорит Ширин – она утешает подругу, но все мысли ее о том, в какой она попала переплет.
На середине лестницы Лейла останавливается.
– Знаешь, до революции отец работал в морге. Как-то раз он рассказал мне, как обмывал мертвых, как оборачивал их в чистые, белые саваны перед тем, как передать родственникам. Он сказал, что из тюрем привозили много искалеченных трупов – от этого он потерял покой. Раньше над ним потешались. Даже меня в школе дразнили. А теперь, когда он со стражами, его уважают. «Я прошел весь путь – с низа мусоропровода наверх, – говорит отец. – И теперь я, а не кто другой, решаю, кого отправить вниз».
Ширин представляет, как трупы сбрасывают в мусоропровод, и ее охватывает ужас.
– Он так и сказал?
– Ну да. Только, пожалуйста, никому ни слова. Мне не следовало тебе такое рассказывать. Я просто поверить не могу, что отец пойдет на такое. Ну как мне допрашивать девочек?
Ширин гадает – станет ли она первой. Голова у нее кружится, она хватается за перила.
– Хорошо, хоть тебя не придется допрашивать, – говорит Лейла. – Родители думают, что раз твой отец в тюрьме, тебе незачем брать папки. К тому же ты такая болезненная, слабенькая… Мама тоже думает, что это Элахе. «Мне эта девочка никогда не нравилась» – так она сказала отцу. Странно, мне-то казалось, что, когда мы играли в музыкальные стулья, мама подыграла Элахе.
– А если Элахе станет запираться?
– Конечно, станет. Любой на ее месте стал бы. Мне велено смотреть, как девочки поведут себя. Отец научил меня кое-каким приемам.
– И каким же?
– Ну, скажем, если человек отводит взгляд – значит, обманывает. Или если он сжимает руки, постукивает ногой…
Ширин запоминает: Не отводить глаза. Не сжимать руки, не постукивать ногой…
– Слушай, я тебя никогда не спрашивала, – говорит Лейла. – Ты знаешь, за что твоего отца посадили в тюрьму?
– Нет.
– Он ведь не работал на САВАК, правда?
– Что такое САВАК?
– Тайная полиция шаха. Отец вечно говорит о них. Говорит, они пытали и убивали тысячи тысяч людей.
– Нет, мой отец там не работал.
– Откуда тебе знать? О такой работе не рассказывали даже родным. Тайная полиция она и есть тайная. Знаешь, Ширин, я вот что поняла: люди всегда говорят одно, а делают другое. Взять хотя бы моего отца. Твердит, что спиртное запрещено, а сам пьет. Или маму. Говорит, Элахе ей не нравится, а сама подыграла ей…
«Или меня, – думает Ширин. – Говорю, что не брала папки, а на самом деле взяла».
* * *
Поздно вечером, уже лежа в кровати, Ширин думает об отце. Если о папках станет известно, отца наверняка убьют. Маму тоже могут посадить в тюрьму.
С чего она решила, будто ей это сойдет с рук? Ширин смотрит на луну – яркий крут висит в небе совсем низко. Интересно, видит ли отец луну из окна камеры?
Ну и дура же я, думает Ширин. Мне девять лет. Доживу ли я до десяти, заслуживаю ли этого? У меня всего одна подруга, и ту я боюсь. Больше друзей у меня нет. Брата я не видела вот уже два года, даже начинаю забывать, как он выглядит. Да и лицо отца вспоминаю с трудом.
Она натягивает одеяло до подбородка, но озноб все равно не проходит.
Глава двадцать пятая
Воздух в кухне только что не кипит – батареи пышут жаром, на сковороде скворчит лук. Окна запотели изнутри – пар застит город. Фарназ сидит на стуле, смотрит, как Хабибе орудует поварешкой.
– Как твоей маме, лучше? – спрашивает она.
– Спасибо, ханом, гораздо лучше. Врач говорит, у нее высокий сахар – надо есть поменьше сладкого. Ну да разве она послушается. Вот давеча на дне рождения племянника съела два куска торта зараз. – Хабибе забрасывает в горшок все равно как конфетти петрушку, помидоры, перец. – Но племянник, скажу я вам, растет красавцем. Вот увидите: еще немного – и прекрасный будет жених для Ширин.
Фарназ улыбается. Конечно же, Хабибе отлично понимает: такая девочка, как Ширин, не пойдет за сына сапожника. Года два назад Хабибе не посмела бы так шутить.
– А Мортаза тоже был на дне рождения? – интересуется Фарназ.
– Нет, он на семейные праздники не ходит. Считает, есть дела поважнее.
– Ну да, вроде мародерства, – бормочет Фарназ, прихлебывая чай.
– Что, что?
– Он не рассказал тебе, как за компанию с другими работниками разграбил контору Исаака?
– Что? – Хабибе ополаскивает руки, вытирает их об передник. – Мой Мортаза? – Она тычет себе в грудь пальцем.
– Да. Не знала, как тебе и сказать.
– Не может быть, ханом, это какая-то ошибка.
– Нет, не ошибка. Я там была. И все видела. Мортаза сказал, что они увозят имущество в надежное место, но я-то понимаю, в чем дело.
– Вот как? Понимаете? Почему вы всегда все понимаете? – взвивается Хабибе. – Отчего вы думаете, что вы все видите, как оно есть? А что, если вы что хотите, то и видите?
Фарназ смотрит на Хабибе, на ее неряшливо высветленные, прилизанные маслом волосы, на щербинку между передних зубов, на черную юбку, заляпанную несводимыми пятнами от соуса и моющих порошков. Она пытается представить, каково это быть Хабибе – так же выглядеть, так же пахнуть, так же неряшливо одеваться.
– Хабибе, я говорю то, что видела.
– Ну да, видели то, что видели. Женщина вы, конечно, добрая, что и говорить, но вы на нас смотрите сверху вниз. Вы что ж думаете, когда я говорю, что мой племянник женится на Ширин, я это всерьез? Конечно же, шучу. Я знаю: вы никогда не скажете, что на самом деле думаете, оттого вы или молчите в ответ, или улыбаетесь. Потому что не хотите походить на вашу золовку, Шахлу-ханом, которая вечно задирает нос и чванится. Вы над ней частенько подшучиваете, но ведь, если приглядеться, вы мало чем отличаетесь от нее. Она-то хоть не притворяется. А вы, Фарназ-ханом, свои чувства прячете.
Фарназ пьет чай, смотрит в окно – на белый просвет на небе, все еще виднеющемся сквозь окутавший кухню пар. Все что-то скрывают, думает она: в этой стране можно попасть в беду, если не так на кого-то посмотришь, не то скажешь, не тому богу молишься. Двуличие въелось в нас, мы говорим одно, а имеем в виду другое.
– Ну, Хабибе, если ты такого мнения обо мне, выходит, ты такая же двуличная, как и я, разве нет? Вот уж не думала, что ты считаешь, будто я задираю нос и чванюсь. Ну да ладно. А я говорю о том, что видела: твой сын с другими работниками забирал драгоценные камни, картины, стулья, столы, даже телефоны. Когда я потребовала у него объяснений, он сказал, что Исаак расплачивается не только за свои грехи.
– Он так сказал? – Хабибе скрестила руки на груди, покачивает поварешкой. – Может, так и должно быть, – говорит она. – Может, для кое-кого настало время расплаты.
Фарназ пьет успокоительный чай, а его заварила женщина, для которой смерть Исаака – нечто вроде возмездия, притом за грехи целого класса. И все-таки она пьет этот чай, выпила не меньше тысячи чашек, даже не подозревая, что женщина, насыпавшая в чайник заварку, желает ей зла. Как же так: ведь они столько лет жили под одной крышей, вместе встречали и суровую зиму, и быстротечное лето, собирали вишни в саду, приносили с базара арбузы, держа их в руках как маленьких детей?
– Исаак никому не причинил вреда, – говорит Фарназ. – А уж вам с сыном и подавно. Ему не за что расплачиваться.
Хабибе поворачивается к раковине, обдирает кожу с куриной тушки.
– Не знаю, ханом, не знаю… Да, вы с Амином-ага были к нам щедры. И все равно так не должно быть. Почему одним с рождения прислуживают, а другим суждена разве что уборка туалетов?
– Никому ничего не дается с рождения. Много работаешь, много получаешь. Ты что, думаешь, Исаак родился богачом?
Хабибе оборачивается, размахивает ножом.
– Разве я мало работаю? – возражает она. – И сын мой тоже много работает.
– И ты многого добилась. Забыла уже, что, пока мы тебя не взяли к себе, ты жила вместе с сыном в тесной каморке с протекающей крышей? Ты продавала цветы на углу улицы, грудь у тебя была едва прикрыта, и было неясно, чем именно ты торгуешь. Но Исаак посмотрел на тебя, на твоего сопливого сына, ковыряющего болячки на ногах, и сказал мне: «А что, если взять их к себе? Ты говорила, нам нужна служанка». Вот и скажи теперь – должен ли мой муж за это расплачиваться?
Хабибе не отвечает. Продолжает сдирать кожу с курицы с такой силой, что прихватывает и мясо. И снова Фарназ мучают подозрения: уж не Хабибе ли взяла кольцо с сапфиром? Но про кольцо не спрашивает. Глядя на сутулую спину Хабибе, Фарназ вспоминает, как они повезли ее с сыном к себе на виллу на севере – Ширин тогда была еще грудной, а Парвиз изводил всех вопросами по истории. Пока они ехали в машине, юный Мортаза, который уже начал засматриваться на девочек, всю дорогу хотел слушать кассету Исаака с испанской гитарой: «Concierto de Aranjuez»[39]39
Аранхуэсский концерт (исп.). Сочинение для классической гитары и оркестра испанского композитора Хоакина Родриго.
[Закрыть].
– У меня от этой гитары голова разболелась! – жаловалась Хабибе. – Может, что-нибудь повеселей?
Но Мортаза шикнул на мать.
– Ты ничего не понимаешь в любви, – заявил он.
– Это я не понимаю? А как, позволь тебя спросить, ты появился на свет, а, ага-песар?[40]40
Буквально: господин сын.
[Закрыть] – Хабибе отвернулась к окну. – Подумать только, я не понимаю в любви! – бубнила она. – Из-за любви-то мне и пришлось пойти в прислуги.
Глава двадцать шестая
Парвиз стоит под деревьями, у статуи Шекспира, смотрит, как Рохл идет ему навстречу, и понимает: до чего восхитителен Нью-Йорк, в особенности Центральный парк ранним воскресным утром. Парвиз опасается, что мистер Мендельсон не одобрил бы его поведение, но он решает, что тревожиться незачем – у него же нет бесчестных намерений. К тому же Рохл сама предложила здесь встретиться. Неделю спустя после того, как он оставил букет на крыльце, Парвиз увидел Рохл; пока он искал ключи, она крикнула ему с крыльца:
– Спасибо! – И улыбнулась: – Они просто замечательные!
Одна-единственная улыбка развеяла все сомнения. Парвиз смотрел на Рохл снизу вверх в поисках верных слов, а она тем временем продолжала:
– Пойдем как-нибудь в парк – я покажу тебе, какие там интересные растения.
Рохл уже зашла в дом, а Парвиз все стоял на ветру, и в раздававшемся у соседских дверей перезвоне колокольчиков ему чудился мелодичный смех мамы.
– Привет! – говорит Парвиз, протягивая Рохл руку.
Рохл отступает.
– Ой, прости! Совсем забыл.
Стоит февраль, но день необычайно теплый; ветерок обещает, что вот-вот еще больше потеплеет, солнечные лучи ласкают замерзший город, и от этого хочется безумствовать.
– Как-то непривычно видеть тебя здесь, за пределами твоего района, – говорит Парвиз.
– Мне и самой непривычно. Папа не любит, когда я ухожу далеко от дома.
Какое-то время они идут молча; Парвиз борется с желанием взять Рохл за руку.
– Вот это дерево, – Рохл показывает на высокие деревья, – американский вяз. Листья облетели, но ты посмотри, какие у них красивые нижние ветки – ни дать ни взять танцующие в воздухе руки.
Парвиз смотрит на ветви и видит воздетые к небу обнаженные руки.
– Летом, – продолжает Рохл, – их густая листва образует тенистые кроны.
До чего здорово было бы смотреть на мир ее глазами, думает Парвиз. Видеть тенистые кроны там, где он видит всего лишь листья, а там, где оголенные, дожидающиеся лета ветки, – танцующие руки. Они идут к западной части парка, минуют велосипедистов, бегунов трусцой, спящих в колясках младенцев; Парвиз понимает: люди здесь, как и он когда-то, не боятся будущего, ведь и он тогда прогуливался по берегу Каспийского моря, мимо детворы, строящей замки из песка, мимо пловцов, покачивающихся на волнах. Тебе так покойно только тогда, когда ты сроднился со своей страной, знаешь ее своеобычие, ее особенности, как знаешь близкого человека.
Парвиз и Рохл подходят к укромному уголку, здесь вперемешку растут деревья и густой кустарник.
– Вот он, Сад Шекспира, – говорит Рохл. – Он запущен, но я хочу показать тебе вот что. – Опережая Парвиза, она указывает ему дорогу. – Это привой тутового дерева, посаженного Шекспиром в Стратфорде-на-Эйвоне аж в 1602 году. Вот это да!
Парвиз трогает дерево, ощущает шероховатость коры.
– Откуда ты все это знаешь?
– Как тебе сказать. Люблю разглядывать растения – они меня успокаивают. Мне кажется, я с ними сроднилась. Если папа разрешит, буду изучать ботанику. Но пока не решаюсь подступиться к нему. А вообще-то моя мечта – свой цветочный магазинчик.
– Вот только держать магазин, родив десять детей, ты вряд ли сможешь.
– Да уж. Есть над чем подумать. Придется делать выбор. Между традициями и увлечениями. Не хотелось бы отказываться ни от того, ни от другого.
– А у меня трудности иного рода, – говорит Парвиз. – От традиций я отошел, а теперь, похоже, и увлечение прошло. Так я и остался ни с чем. – Парвиз прислоняется к дереву, солнце светит ему прямо в лицо. – Хотелось бы, чтобы этот город – хотя бы часть его – так же запал мне в память, как тебе. А то здания прекрасны, но родства с ними я не чувствую.
Рохл отрывает от куста лист, нюхает его.
– Ты прямо как мой хозяин, мистер Брухим. Он часто жалуется: «Скучаю по жасмину и кипарисам». Я говорю: «А вы посмотрите на плакучие ивы, на дубы. Их тоже можно любить». А он качает головой. Говорит: «Плакучие ивы слишком печальные, а дубы слишком могучие и выносливые – их не полюбить. Эта страна, Рохл, она такая холодная, такая необъятная, как мрачный замок из гранита».
– Мистер Брухим прав. Страна действительно и холодная, и необъятная.
– Тебе так кажется, потому что ты один. И потому что твой отец в тюрьме. Ничего, что я про это знаю? – робко спрашивает она. – Мне папа рассказал.
При мысли о том, что Рохл посвящена в так мучающую его тайну, Парвизу становится легче.
– Да нет, ничего, – говорит он.
Парвиз глядит в темно-карие глаза девушки – ему так хотелось бы ее поцеловать. Он вспоминает, как от ее пальто на него пахнуло сладковатыми духами, и думает о том, какими духами она сегодня подушила за ушами, тонкие запястья, – теми же или другими?
– Ну и проголодалась я, – говорит Рохл.
– Я тоже. Только тебе, наверное, ваши законы не позволяют есть сосиски, – смеется Парвиз. – А ничего другого в парке не продают.
– Ну да, мне не позволяют. Но тебе-то позволяют, если только ты сам не хочешь соблюдать наши законы. А я взяла с собой фрукты, так что не умру с голоду.
Они подходят к ближайшему киоску. Продавец готовит сосиски, Рохл достает из сумки фрукты, и это снова напоминает Парвизу, какие они разные. Ему не хочется жить в ее безопасном, но полном ограничений мире, правда, и он не ждет, что она станет жить в его мире – этой дороге без разметки, где не видно, что тебя ждет за углом.
Они снова идут, теперь уже молча. Рохл больше не показывает ему растений, не рассказывает ни об их истории, ни об их преображениях. Бродя без цели, они запутываются в кровеносной системе парковых тропок, пока не находят дорогу по солнцу, которое уже тускнеет и клонится к западу.
Глава двадцать седьмая
Исаак вытягивает ноги, похлопывает по ним, чтобы восстановить кровообращение. Хорошо, что в камере есть умывальник – время от времени он споласкивает лицо и снова ложится. Хорошо и то, что здесь есть колония муравьев, он сберегает для них крупинки сахара, хлебные крошки, весь день понемногу скармливает их муравьям и наблюдает, как они маршируют, утаскивая пропитание. Сидя в одиночке, он потерял счет дням. Возможно, и недели не прошло, потому что его еще ни разу не выводили в душ или на прогулку. Похоже, здесь, как и в общих камерах, и душ, и прогулка раз в неделю, хотя он может и ошибаться.
Окно его камеры выходит во двор, но из полуподвала проходящих не видно, видны только их ноги, и, когда ему надоедает смотреть на муравьев, он коротает время, глядя на ноги. На них, по большей части, кроссовки, хотя встречаются кожаные туфли и коричневые пластиковые шлепанцы. У кого-то шаг твердый, кто-то еле ковыляет. Бывает, что он опознает обувь – по пятнам или сбитому каблуку, – и тогда считает, сколько раз ее владелец пройдет туда и обратно. При этом загадывает: если четное число раз, значит, он выйдет из тюрьмы живым, не четное – не выйдет. И четное, и нечетное число выпадало уже столько раз, что очевидно – гадать бессмысленно, однако каждый раз, когда выпадает нечетное число, у Исаака тяжело на душе, и, засыпая, он убеждает себя, что разок мог и пропустить, скажем, пока умывался или глядел на муравьев.
Этим утром он не встает – у него нет сил смотреть на проходящих. Сверху доносятся знакомые шаги – по лестнице кто-то бегает вверх-вниз, шаги легкие, как у ребенка. Но откуда в тюрьме взяться ребенку, он понять не может.
После завтрака из чая и хлеба дверь камеры отпирают.
– Брат, пора в душ, – говорит охранник в маске.
Исаак встает с трудом – суставы и мышцы одеревенели. Поясница так затекла, что ничего не чувствует. Исаак глядит в серые глаза охранника:
– Брат Хосейн? – спрашивает он.
– Ну да, – говорит охранник. – Сегодня утром я дежурю здесь.
Исаак идет за Хосейном по коридору к душевым кабинам.
– У тебя пять минут, – говорит Хосейн.
Вода холодная. Исаак быстро моется и успевает сполоснуть рубашку и белье. Натягивает влажную одежду и выходит.
Хосейн дает ему бальзам для губ:
– Вот, возьми.
– Спасибо, брат.
Исаак берет тюбик, выжимает каплю на палец, втирает в губы – они потрескались и кровоточат. Затем возвращает тюбик охраннику.
– Оставь себе, – говорит Хосейн. – А теперь пошли – тебе пора проветриться.
Он поднимается вслед за Хосейном, останавливаясь чуть не на каждом этаже, чтобы отдышаться, но вот они уже перед железной дверью на крышу. Вокруг с десяток скамей, на каждой заключенный, рядом с ним – охранник. Еще утро, но солнце светит ярко, слишком ярко для того, кто привык к сумраку полуподвала. Хосейн подводит его к одной из скамей, они садятся.
Он чувствует на еще влажном лице чистый горный воздух, вдыхает запах высыхающего на коже мыла.
– Брат, – спрашивает Исаак, – почему меня определили в одиночку?
– Кто-то попадает в одиночку сразу, а потом его переводят в общие камеры, кто-то – наоборот. А вот почему так, не знаю.
– А кто-нибудь вышел отсюда живым?
– Конечно. Если за тобой нет вины, тебя выпустят.
– Если бы так. Но ведь гибнет много невиновных.
– Верно, случается, гибнут и невиновные. А виновные выходят на свободу. Но в конце концов счет уравняется.
«Нет, именно что не уравняется, – хочет он сказать. – Меня не утешает, что моя жизнь всего-навсего икс в одной части уравнения, предназначенной уравнять другую ее часть». Он смотрит на руки Хосейна – мозолистые, корявые, с заросшими ногтями. Потирая руки, Хосейн глядит через прорези маски вдаль.
– Брат, можно спросить, чем вы занимались прежде?
– Был каменщиком. Вот этими руками построил много домов. Красивых, с крылечками, террасами, садами… – Он опускает глаза и долго смотрит на руки, водит пальцем по венам, словно запоминает дорогой сердцу пейзаж.
– И что, по-вашему, лучше: класть кладку или охранять?
– Всему, брат, свое время. Время строить, время разрушать, чтобы построить заново. Глядишь, я когда-нибудь вернусь к своей работе, ну а пока я нужен здесь. Мы должны очистить землю от сорной травы.
* * *
Вернувшись в камеру, он снова ложится. После душа и свежего воздуха ему стало легче. Сверху снова доносится топот: наверняка это ребенок. Бегать так быстро, так легко может только тот, у кого вся жизнь впереди, у кого есть надежда. Он вспоминает, как носились дома его дети – Парвиз съезжал по перилам, а Ширин возмущалась: «Это нечестно, съезжать нельзя!» – пока Фарназ не прикрикивала, мол, так они себе шею свернут. Ему нравилась эта какофония семейной жизни, хоть сам он оставался лишь сторонним наблюдателем, читал себе в уголке газету да попивал чай. Звуки эти подтверждали, что он существует, доказывали: он настолько верит в окружающий мир и в себя, что обзавелся детьми. И теперь, в тюрьме, он рад, что в нем жила эта вера – так садовник, когда сажает дубок, верит: хоть ему и не увидеть взрослый дуб, саженец вырастет.
Дверь в камеру распахивается, входит охранник.
– Брат, следуй за мной.
Его ведут вниз по лестнице в пустую комнату, в ней два стула и стол. По одну сторону стола сидит Мохсен.
– Ну вот, брат Амин, мы и встретились снова, – говорит он.
Исаак не отвечает, и Мохсен продолжает:
– Может, в этот раз наша встреча пройдет удачнее. – Он протягивает Исааку бумагу и ручку. – Опиши-ка ты свою жизнь.
– Описать мою жизнь? – Исаак колеблется, прежде чем взять бумагу.
– Да, – говорит Мохсен. – Не торопись – времени достаточно.
Исаак садится, берет ручку – он давно не писал, уже отвык. Он уверен: Мохсен что-то затеял, впрочем, скоро все выяснится. Играй они в покер, Исааку, хотя на руках у него не бог весть какие карты, пришлось бы либо повысить ставку, либо выйти из игры. Итак, он соглашается играть по правилам Мохсена. Но как рассказать обо всей жизни в нескольких строчках? И тут его осеняет: он напишет некое подобие некролога – читая в газетах такие статейки в несколько абзацев, обычно думаешь: «Наверное, о жизни этого человека можно бы рассказать и побольше».
Он приступает к делу: «Меня зовут Исаак Амин. Я родился в портовом городе Хорремшехре, моих родителей зовут Хаким и Афшин. Я старший из троих детей. В юности я работал в конторе при нефтеперерабатывающем заводе в Абадане. Изучал литературу, поэзию, затем геммологию, после чего открыл собственное ювелирное дело. Хотел стать поэтом, но понял: словами сыт не будешь. Живу в Тегеране. Женат, имею двоих детей. Надеюсь еще увидеть семью».
Перечитав написанное, он думает: похоже, последнюю фразу я написал зря. Но если ее зачеркнуть, это может вызвать подозрения. И он передает лист Мохсену.
Пробежав лист глазами, Мохсен заключает:
– Уж очень коротко, брат Амин. Возможно, тебе есть что рассказать сверх этого.
– Я вам уже говорил, брат: я человек простой.
– А почему у твоих родителей всего трое детей? В прежние времена рожали много.
– Мои родители – нет.
– Как получилось, что твой брат – контрабандист, нарушитель закона? Ты будешь и дальше покрывать его?
– Клянусь, брат, я понятия не имею, где он.
Мохсен читает дальше.
– Хотел стать поэтом? Как романтично. И вот что любопытно, как это из поэтов получаются такие богачи?
– Брат, не исключено, что как для сочинения стихов, так и для огранки камней требуется известная толика идеализма.
– Тут ничего нет о друзьях, знакомых. Кто они? Кого ты приглашал на ужин…
– Брат, я по натуре человек замкнутый. У меня нет близких друзей. Я люблю проводить время с семьей, а то и вообще один.
– Значит, ты предпочитаешь одиночное заключение! Тогда тебе здесь понравится. – Он смеется, не отрывая глаза от листа. – А как насчет поездок в Израиль? – продолжает он. – О них ты не написал.
– Я не писал и про другие поездки, хотя много где побывал.
Мохсен подходит к двери, которую Исаак поначалу не заметил, открывает ее.
– А теперь послушай-ка, брат.
Он не сразу понимает, что это за звук. Собака, что ли скулит. Минута-другая, и голоса стихают. Слышны шаги, шорох бумаг. В комнату доносится резкий запах пота и крови. Кто-то говорит:
– Ну что, не передумал?
Ему что-то едва слышно отвечают, что – непонятно. И начинается: он отчетливо слышит, как кожаный ремень хлещет по телу, стоны – это их он поначалу принял за собачий вой. Удары становятся все сильнее, стоны – все слабее; с каждым взмахом кто-то повторяет:
– Отвечай, не то сдохнешь…
Мохсен, не закрыв двери, отходит к столу, стоит, скрестив руки на груди.
– Понял? – Нависает он над столом. – Вот что тебя ждет. А ну говори!
– Брат, что вы от меня хотите? Мне нечего сказать.
– Рассказывай, как шпионил на Израиль! И про братца своего не забудь. Где он?
Исаак молчит. Мохсен подходит к двери, за которой снова установилась тишина.
– Брат Мостафа, следующий.
Господи, нет, не надо! Только не это! К голове приливает кровь, грудь болит, дышать невозможно. У меня сердечный приступ. Пускай. Уж лучше умереть так, чем под ударами, где твоей надгробной речью будут крики истязателя. Кто-то в маске хватает его за руку, тащит в соседнюю комнату, бросает ничком на деревянную доску. Стягивает с него туфли, носки. Он чувствует, как резиновые жгуты змеями обвиваются вокруг лодыжек, пригвождая к двум штырям. Господи, сжалься надо мной! Значит, это все-таки случилось. С ним, Исааком Амином из Хорремшехра, сыном Хакима и Афшин Амин. Меня зовут Исаак Амин, меня зовут Исаак Амин. Фарназ, где ты? Приди, посмотри, что они делают со мной. Моя маленькая Ширин. Приди, глянь на своего папу. Глянь, во что его превратили. Парвиз, приди. Посмотри на своего отца – босого, ничком на доске – сейчас его побьют как собаку. Жгут разрезает воздух, ходит по ногам, рассекая кожу. Неописуемая боль отдается во всем теле. Раз, два, три, считает он. Четыре, пять, шесть, семь. «Будешь говорить?» Восемь, девять, десять. Ноги уже онемели. Он продолжает считать. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. «Молчишь? А ну говори, собачье отродье!» Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать…
Амин-ага, вам приготовить чаю? Да, Хабибе, спасибо. Шахла и Кейван в четверг вечером устраивают прием – пометь в ежедневнике. Вот как? Они ведь совсем недавно собирали гостей. Что ж, это твоя сестра, не моя. Баба-джан, назови столицу Египта. Каир. А не Александрия? Нет, не Александрия. Но огромную библиотеку сожгли именно в Александрии? Да. А кто? Сначала римляне, потом христиане, после – арабский халиф [41]41
Умар I ибн ал-Хаттаб, правил в 634–644 гг.
[Закрыть] . Кого я вижу – Амин-ага! Входи, входи! Вас только двое? Нет, подойдут еще наши друзья, Курош и Хома. Отлично! Проходите. Фесенджан [42]42
Жареное мясо или птица с гранатовым соусом и грецкими орехами, подается к плову.
[Закрыть] сегодня удался на славу.
Кто-то трясет его за руку.
– Брат Амин, проснись.
Он открывает глаза. В камере темно. Охранник ставит поднос около матраса.
– Подкрепись. Не будешь есть, совсем ослабнешь.
Дверь захлопывается.
Исаак садится, прислоняется к стене. Ноги как будто не его. Он трогает ступни: кожа слезла, голое мясо. Жгучая боль ползет от ступней вверх. Он думает о Мехди, представляет его безногим в кресле-каталке. Вспоминает Рамина и видит его голым, с дыркой во лбу – он лежит в морге. Перед глазами встает несчастный Вартан в металлическом отсеке рядом с Рамином – длинные пальцы покоятся на посеревшем, распухшем теле. Он берет с подноса миску, зачерпывает ложкой рис. Заставляет себя есть.