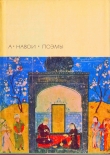Текст книги "Сентябри Шираза"
Автор книги: Далия Софер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Глава пятая
В окно задувает ветерок. Похоже, день будет прохладный, даже для конца сентября в Бруклине. Но под одеялом так тепло, и Парвиз вспоминает маму – как он маленьким мальчиком забирался к ней в кропать. Утром, стоило заскрипеть гаражным воротам, затарахтеть мотору отцовой машины, как Парвиз перебирался к матери, она была теплая и все еще сонная.
– Ну вот, Парвиз, сынок, жизнь идет своим чередом без нас с тобой, – говорила мама со смешанным чувством вины и облегчения, – только ты никому не рассказывай, какие мы с тобой бездельники.
Очень хочется поговорить с ней, но в последнее время никто не снимает трубку, даже Хабибе. В последний раз они звонили ему в конце августа. Вечер тогда выдался душный, и когда раздался звонок, Парвиз, чертыхаясь и обливаясь потом, гонялся по комнате с ботинком в руке за тараканом. О таракане он не стал говорить. Сказал, что у него все хорошо, спросил, как дела дома, а они ответили, что у них тоже все хорошо, все в порядке.
* * *
Прохладное утро, Парвиз идет, засунув руки в карманы, подняв воротник пальто. В университетском городке полным-полно студентов, они сидят на ступеньках, стоят группками на газоне, но среди них нет ни одного знакомого лица. Было время, когда он заводил дружбу с легкостью. А теперь даже не помнит, как это делается. Перемена произошла незаметно, подкралась как уродующая лицо болезнь. Говорит он без ошибок, но как-то книжно, это годится для уроков, для того, чтобы завязывать дружеские отношения – нет. А шутки в переводе и вовсе не кажутся смешными. Да, жизнь идет своим чередом, но без меня, говорит себе Парвиз.
На занятиях, когда демонстрируют слайды с изображениями различных сооружений, Парвиз сочиняет письмо родителям. В полутьме аудитории он пишет, что все у него хорошо, что с занятиями полный порядок, хозяин, у которого он снимает квартиру, славный человек и обеспечивает его всем необходимым. Парвиз заканчивает письмо и поднимает голову. Однокурсники сидят в слабом свете проектора, завороженные сменой диапозитивов, монотонной речью преподавателя, яркими картинками – на экране калифорнийские дома: отделка деревом, дворы-атриумы, огромные окна, выходящие в сад. Все дома такие чистые, простые, солнечные, радостные, их незатейливые очертания сулят десятки лет безмятежной жизни в одном и том же городке, на одной и той же улице, в одном и том же доме, однако от скуки не спасают. Глядя на слайды, Парвиз вдруг понимает, что его однокурсники, такие похожие друг на друга, такие жизнерадостные, не знавшие горя в жизни, родились в таких вот домах.
* * *
Днем Парвиз вынимает из почтового ящика целый ворох счетов и письмо от сестры, вскрытое, затем заклеенное клейкой лентой. Он разрывает конверт, быстро проглядывает листок – ищет фразу «У дяди и ребят все хорошо», это своего рода пароль: так родители дают знать, что выслали деньги. Парвиз переворачивает листок, подносит его к флуоресцентной лампе, но, не обнаружив фразы и в ее желто-зеленом свете, кладет письмо в карман, спускается по лестнице в свою комнату в полуподвале. И тут вспоминает, что не прочел письмо Ширин толком – все заслонила мысль о деньгах. Уже в комнате Парвиз разворачивает письмо и читает, на этот раз не торопясь:
8 сентября 1981 года
Дорогой Парвиз!
Сегодня первый день в школе. Училки – жуть, да и только. А так ничего. Скучаю по тебе.
В конце Ширин нарисовала красное сердечко – тщательно, с идеально ровными половинками – и подписалась по-английски, хотя перекладина буквы «и» повернута не в ту сторону. Парвиз улыбается – как будто желая доказать и себе, и сестре, что рад письму, с деньгами оно там или без.
Он снимает пальто и проходит в кухню. В холодильнике вздувшийся, давно просроченный пакет с молоком. Он знает, что пакет надо выбросить, но не выбрасывает. Из промороженного нутра холодильника на него пялятся кетчуп, горчица и банка пива. Парвиз хватает банку, кетчуп, сгребает со стола пакет с плесневеющими картофельными булочками и плюхается перед телевизором, даже не зажигая свет в комнате. Переключает каналы, но на экране сплошная пурга, чего собственно и следовало ожидать – наверняка «плохой прием на уровне цокольного этажа». Временами на экране появляются уродливые фигуры – такие отражаются в кривых зеркалах, а временами изображения на экране и вовсе нет, а звук есть – за какой-то шуткой в ситкоме следует взрыв механического смеха. Прислушиваясь к ситкому, Парвиз замечает, что смеются там одинаково: отчетливо слышно, как каждые десять секунд смеется, даже не смеется, а взвизгивает какой-то мужчина. Парвиз вгрызается в булочку с кетчупом – поначалу она ужасно сладкая, потом безвкусная.
В дверь стучат, но Парвиз не откликается. Слышен голос хозяина квартиры:
– Сынок, я знаю, что ты там. Пожалуйста, открой.
Будь это сказано не так вежливо, не так по-отечески, Парвиз не двинулся бы с места. Однако он встает и открывает дверь, даже не зная, как оправдаться на этот раз. В коридоре стоит Залман Мендельсон, высокий, в черном костюме и широкополой фетровой шляпе, его рыжая борода разметалась по мощной груди.
– Добрый день, сынок! Как поживаешь?
– Спасибо, мистер Мендельсон, ничего. А вы?
– Хвала Господу, все в порядке. Ты ведь знаешь, почему я зашел?
– Да, мистер Мендельсон. Но у меня нет денег.
– Ты задолжал за два месяца. Что будем делать?
Парвиз смотрит в голубые глаза мистера Мендельсона: как бы ему хотелось сказать, что деньги уже выслали или что он придумал, как заплатит, но ему нечего сказать.
– Видишь ли, сынок, – говорит Залман, – у меня шестеро детей, да еще близнецы на подходе. А ведь я не богач. И комнату сдаю тебе потому, что мне нужны деньги. Так что если ты не платишь, мне приходится туго.
– Прошу прощения, мистер Мендельсон. В последнее время родители ничего не высылают. Пересылать деньги оттуда бывает непросто.
– Хорошо. Даю тебе еще две-три недели. Постарайся что-нибудь придумать. – Залман выходит, но уже в коридоре оборачивается: – Кстати, Парвиз, вот о чем хотел тебя спросить… Тебе есть где отметить шабат?
– Шабат? По правде сказать, мистер Мендельсон, я никогда не отмечал шабат.
– Если передумаешь, приходи – будем рады. – Некоторое время Залман стоит, сложив руки на груди. Но, так и не дождавшись ответа, уходит.
Парвиз отхлебывает из банки с пивом. Пиво кислое, совсем как таблетка аспирина, если ее пососать. Парвиз выключает телевизор, идет в спальню и падает навзничь на кровать, на груду мятой одежды, которую он никак не может убрать: то времени не хватает, то сил. С трудом верится, что когда-то все делалось само собой: брошенная на стул одежда на следующий день оказывалась волшебным образом развешенной в шкафу, простыни менялись раз в неделю, полотенца дважды, ковры пылесосились, полы мылись, окна протирались, неизвестно, как часто, однако достаточно часто: во всяком случае, клубков пыли на полу он не заметил ни разу, сейчас же два клубка из ниток, волос и пыли перекатываются между кроватью и тумбочкой, игриво вальсируя под слабый ветерок, дующий в открытое окно.
Сверху доносится топот ног – Парвиз представляет, как дети Мендельсона бегают из комнаты в комнату: старшие носят из кухни в столовую тушеное мясо, младшие гоняются друг за дружкой, все предвкушают сытный семейный ужин. Промаявшись целый год в университетском общежитии – сосед по комнате, прыщавый юнец из Висконсина, был фанат хоккея, а еще ходил в уборную, не закрывая за собой двери, – Парвиз подумал, что стоит снять квартиру: будет не так тоскливо. Из всех районов Нью-Йорка, одинаково незнакомых и наводящих страх, Парвиз остановился на этом, а все благодаря объявлению в школьной столовой: «Сердечная, дружная семья сдаст квартиру (цокольный этаж с отдельным входом) порядочному студенту». Когда Парвиз пришел к Мендельсонам, он с удивлением обнаружил, что они – хасиды, те самые ортодоксы из Восточной Европы в черных одеждах, над которыми подшучивали родители, называя их «польскими бородачами». Глянув на веснушчатое лицо мистера Мендельсона – он облокотился о железную ограду терраски, а за его полы цеплялись трое детей, – Парвиз подумал: «Нет, здесь я жить не буду». Но мистер Мендельсон пожал ему руку, его голубые глаза смеялись, а дородная миссис Мендельсон подала ему стакан лимонада и сказала: «Ну а меня зови Ривка!» – и вот уже Парвизу объясняли, как пользоваться стиральной машиной и куда выбрасывать мусор.
Ну да, Мендельсоны и в самом деле сердечная, дружная семья – все как в объявлении, – вот только не его это семья. К тому же они какие-то замшелые, и от их черных костюмов, чулок и париков несет затхлостью. Войти в их квартиру все равно что вернуться в гетто, где воспоминания о гонениях на евреев годами кипят на медленном огне, загустевая и превращаясь в блюдо, которое не переварить.
Парвиз решает, что как ни тяжело одному, он никогда не сядет с ними за стол, никогда не будет отмечать день, для него ничем не отличный от других.
* * *
Перед сном Парвиз набирает номер родительского дома и с облегчением слышит величавый голос Хабибе.
– Хабибе, это я, Парвиз!
– Парвиз-ага! Боже ты мой, до чего я рада вас слышать!
– Как вы там?
– Ну… – Хабибе откашливается. – В общем, ничего.
– Мама дома?
– Нет, Парвиз-джан. Она вышла.
– Вышла? У вас ведь раннее утро, разве нет? А что отец?
На том конце молчат, и Парвиз уже думает, что их разъединили.
– Вашему отцу, – говорит наконец Хабибе, – пришлось неожиданно уехать по делам, и когда он вернется, пока неясно. Вы меня поняли?
«Пришлось неожиданно уехать» – это кодовая фраза: значит, у них неприятности. Никогда нельзя с уверенностью сказать, прослушивается линия или нет, так что, звоня в другую страну или даже просто город, все говорят так, чтобы посторонние ничего не поняли.
– Ясно.
– Но вы не волнуйтесь. Это всего лишь деловая поездка, он обязательно вернется. Такие вот дела… Ну а вы-то сами как? Здоровы?
– Да, здоров.
– Парвиз?
– Что?
– Кийя! – выкрикивает вдруг Хабибе, сильно топая ногой об пол – так, что Парвизу слышно. Он смеется. Хабибе всегда так делала, когда они с ней дурачились, изображая каратистов. – Давайте там, тренируйтесь, – продолжает Хабибе. – У меня скоро будет черный пояс, так что вам меня не одолеть!
– Хорошо, хорошо! – смеется Парвиз.
Вешая трубку, он включает свет по всей комнате – лампочку без абажура под потолком, настольную лампу, даже ночник. Некоторое время Парвиз сидит на кровати, но, не в силах переносить полночную тишину, выходит на улицу.
Снаружи воздух чистый, гораздо чище, чем в полуподвальной квартирке, где влажные испарения клубятся как в машинном отделении корабля. Парвиз идет по темной улице, мимо сонных домов с опустевшими террасами – их не отличить друг от друга. На дверях у соседей позвякивают колокольчики, их звук успокаивает Парвиза: ему чудится в нем нечто сказочное.
Выйдя за пределы квартала, Парвиз обнаруживает, что пиццерия все еще открыта, и заходит. Он задается вопросом, разумно ли тратить целый доллар на кусок пиццы, но решает, что оно того стоит. Садится и медленно откусывает от пиццы, продлевая насколько возможно удовольствие. Откинувшись, он рассматривает разрисованные стены – скучные сценки: венецианская гондола, сицилийская деревушка, средиземноморский пейзаж. Из радио доносится сладкий голос Синатры, Парвиз узнает эту песню – по выходным отец ставил такую пластинку у себя в кабинете. Он входил в кабинет как в святилище: шел на цыпочках по причудливым узорам ковра, вставал за спиной отца, ожидая, когда тот заметит его и обернется. Иногда – Парвизу тогда было лет шесть – стоял так минут пять, разглядывая стены, на которых висели газетные вырезки с пожелтевшими краями, семейные фотографии, поздравительные открытки, древние мечи, кинжалы полумесяцем: одни времен Кира, другие более современные. Мечи Парвиза занимали. Глядя на позолоченные и выложенные драгоценными камнями рукояти, он размышлял: неужели этим оружием и впрямь пользовались солдаты Персидской империи или средневековые рыцари. Его воображение будоражило и одновременно ужасало то, что эти клинки обагряла кровь человека пусть даже человека, давно погребенного. В конце концов отец оборачивался и, увидев сына, обнимал его за худенькие плечи, открывал верхний ящик стола и вытаскивал красную жестяную коробку с разноцветными мятными конфетами. Парвизу конфеты казались волшебными, он никогда не просил их в обычные, будние дни.
* * *
В последний раз Парвиз видел отца октябрьским утром в аэропорту; тогда же он впервые увидел, как тот плачет.
– Парвиз, сынок, будь счастлив! – сказал тогда отец; у него болел правый глаз – сосудики полопались, глаза покраснели.
– Баба-джан[10]10
Папа (фарси).
[Закрыть], обязательно сходи к врачу, – попросил его Парвиз. – Глаз еще хуже стал.
Отец через силу улыбнулся.
– Да-да, обязательно. За меня не беспокойся. Береги себя.
Уже перед самой посадкой, обнимая отца, Парвиз впервые почувствовал, как сгорбились его плечи.
– Поезжай в Америку, разузнай, как там, – потом нам расскажешь, – отец похлопал сына по спине. – Только не слишком увлекайся жвачкой и не носи ковбойские шляпы, – со смехом сказал он.
В самолете Парвиз прислонился головой к овалу окна и попытался сдержать слезы.
– Они отправляют вас из-за войны? – поинтересовалась сидящая рядом пожилая дама.
Он кивнул. Из-за войны, призывной кампании, революции – из-за всего.
– Вот и правильно, – сказала дама. – В вашем возрасте нельзя оставаться в этой стране. От мулл никому спасения не будет.
Да, в его возрасте нельзя оставаться. А в возрасте отца можно? Парвиз вспоминает воспаленный глаз, сутулую спину. Наконец самолет отрывается от земли, и Парвиз смотрит, как город все отдаляется и отдаляется: дома, окруженные мощенными кирпичом дворами, маленькие машины, окутанные смогом, а над всем этим – горы Эльбурс, затянутые призрачно-белым туманом. Он видит, как отец ведет машину домой, напрягая больной глаз. Видит мать в кухне у окна – она глядит в небо, как будто ожидает увидеть его самолет, она всегда так делала, когда улетал кто-нибудь из дорогих ей людей. Видит сестренку с синим от конфет языком – она раскладывает фломастеры по цветам, готовясь стребовать плату с любого, кому понадобится хоть один.
Парвиз, сынок, будь счастлив!
Баба-джан, я так несчастен. Где ты?
Глава шестая
Вот уже несколько дней, как мамино кольцо с сапфиром куда-то запропастилось.
– Первый подарок твоего папы, – сказала мама в то утро, когда заметила пропажу.
Она искала на туалетном столике, среди флаконов с духами и матрешек – самая маленькая стояла с краю, только что не падала. Потом опустилась на колени и принялась шарить по ковру. На четвертый день, отчаявшись найти кольцо, мама заплакала. И повернувшись к дверному проему, где стояла Ширин, повторила:
– Первый подарок твоего папы.
Когда всего два дня спустя с полки в столовой исчез серебряный чайник, Ширин не стала говорить матери. Хватит с нее огорчений, подумала Ширин; к тому же она боялась, что каким-то образом причастна к пропажам. Нет, она ничего не брала, но как знать? Вдруг она уничтожила эти вещи во сне, а может, брала, да забыла: в последнее время у нее неладно с памятью.
– Как ни противно, – утром за чаем сказала мама, – но я начинаю подозревать Хабибе. Кто еще мог взять кольцо?
После этого Ширин еще сильнее уверилась в своей виновности.
– Не может быть, – сказала она. Но, не зная, как иначе объяснить исчезновение кольца, добавила: – Наверное, оно куда-то закатилось. И обязательно найдется.
Тем временем ее не оставляла надежда, что мама не хватится пропавшего чайника.
* * *
Ширин думает о кольце, глядя на веревку, которую – вверх-вниз – крутят одноклассницы, держа за концы. Она прыгает – раз, второй, третий, – вовремя подгибая колени, чтобы веревка прошла под ней. На четвертый раз ноги не хотят оторваться от земли – Ширин подпрыгивает слишком поздно. Девочки кричат:
– Выбыла! Выбыла! Проиграла!
Ширин отходит, платок душит ее, от малейшего движения его ткань шуршит, шорох отдается в ушах. Ширин представляется, что под платком угнездились крошечные эльфы, они весь день напролет комкают бумагу у ушей, чтобы ей досадить. Ну и ладно, что выбыла, все равно она устала. Ширин переходит на ту сторону игровой площадки, что ближе к входу в школу, там прикорнул на полуденном солнцепеке привратник Джамшид. Она смотрит на старика – кожа у него задубела, он высокий, худой, борода клочковатая. Ширин достает бутерброд с курятиной и протягивает старику; потом угощает его бананом, с утра дозревавшим в школьном ранце. Джамшид пробуждается от полуденной дремы, тянется за угощением.
– А ты что же, не хочешь есть?
– Нет. Угощайтесь.
Пропавшее кольцо отбивает всякую охоту есть. Сначала кольцо, потом чайник. А теперь отец – его нет вот уже почти две недели.
Джамшид-ага, не чинясь, берет бутерброд и банан.
– Спасибо! – благодарит он. – Но вообще-то девочке в твоем возрасте надо есть. Сколько тебе? Девять? Десять?
– Девять.
– Конечно, не такая уж ты и маленькая. В девять замуж выходят. Когда я женился, моей жене было всего тринадцать.
Ширин бродит по площадке; ей вспоминается, как однажды она с родителями проходила мимо школы.
– Ну, прямо Монте-Карло в миниатюре! – скатала тогда мама. Дети сбились в стайки, каждая стайка придумывает игры, в каждой свои крупье и игроки. Под конец у тебя может остаться несколько розовых фишек, но все знают, что по-настоящему победить нельзя…
Отец тогда так смеялся. А потом сказал:
– Может, настоящих победителей и нет, зато здесь они узнают кое-какие трюки, а это уже неплохо.
Ширин наблюдает за одноклассниками, за этими крупье и игроками – они увлеченно играют в «бутылочку», «камень, ножницы, бумагу», кидают мячи, катают стеклянные шарики. Ее эти игры больше не интересуют.
Ширин прислоняется к стене, сползает на землю, у ее ног ветер гоняет туда-сюда конфетные фантики. А чуть дальше – целое море мусора: фантики, апельсиновая кожура, огуречные очистки, надкусанные бутерброды, даже яичная скорлупа. Раньше она ничего этого не замечала. Небо над головой бледно-синее, без единого облачка, пустое – разительный контраст с игровой площадкой. Куда же оно могло запропаститься, это кольцо? Отец много чего рассказывал о сапфирах: в Средние века их носили архиепископы, буддисты верили, что камень защищает от болезней и прочих напастей, а благочестивые считали, что Десять заповедей были вырезаны на сапфире. Мама называла кольцо «кольцом удачи». Значит ли это, что теперь удача отвернулась от нее?
Ширин видит приближающуюся пару кроссовок – это подруга Лейла, на левой кроссовке у нее наклейка с Дональдом Даком.
– Ты почему сидишь на земле? – спрашивает Лейла, хрустя картофельными хлопьями.
– Устала.
Лейла садится рядом, протягивает Ширин пакетик с хлопьями.
– Я тоже, – признается она.
– Ты веришь в привидения?
– Привидения? Не знаю. Отец говорит: шахидан зендеанд, мученики продолжают жить.
– Нет, в самом деле? У нас дома стали пропадать вещи.
– Пропадать? Наверно, они просто не на месте – засунули куда-нибудь.
– Может, и так.
Ширин думает: вот и отец наверняка не на месте и однажды вернется на свое место, в кожаное кресло в гостиной, будет читать книгу, курить сигарету, отхлебывать чай, заваренный мамой в серебряном чайнике, а на мамином пальце по-прежнему будет кольцо с сапфиром.
Глава седьмая
В доме, взгромоздившемся на изгиб холма в районе Ниаваран, горит свет. Фарназ вспоминает, как часто они с Исааком ужинали в доме Шахлы, сестры Исаака, и ее мужа Кейвана. Одно время они задавали замечательные приемы – ужин готовил парижский повар, после ужина устраивался фортепианный концерт, для него приглашали молодых музыкантов из Вены, Берлина, а то и какую-нибудь восходящую звезду из Тегерана. Подойдя к железной ограде, Фарназ нажимает на кнопку звонка.
– Фарназ-ханом! – служанка отпирает ей ворота. – Вот так сюрприз! Входите, входите! Вы нас испугали. Мы подумали, кто это мог прийти в такой час…
– Надеюсь, они не спят? Зря я не позвонила.
– Ну что вы! Кто спит в такое время? Просто сейчас, вы же понимаете, все по-другому. Вот люди и нервничают. Как поживает Амин-ага?
– Кто там, Масуме? – кричит с порога Шахла.
– Это Фарназ-ханом!
– Так ты одна, Фарназ-ханом? А где Исаак? – уже в дверях спрашивает Шахла.
– Мне надо с тобой поговорить.
* * *
Они проходят в дом, там светло и тепло. Кейван читает, попивая, как обычно, черный кофе; при виде гостьи он отрывает глаза от книги. Тихо звучит скрипка – Моцарт.
– Надо же, кто к нам пожаловал! – Кейван захлопывает книгу. Встает, за руку подводит гостью к любимому креслу Шахлы, изгибы кресла так и манят опуститься в него, ножки у него витые, обивка шелковая, с узором из виноградных листьев: они коллекционируют мебель в стиле рококо. Фарназ снимает платок, садится.
– А где Исаак? – спрашивает Кейван.
– Его забрали.
В просторной комнате воцаряется тишина. Ее заполняют звуки аллегро Моцарта.
– Когда? – спрашивает Шахла.
– Почти две недели назад. Мне позвонил твой брат, Джавад. Видно, ему рассказал кто-то из знакомых.
– Ужас какой! – Шахла вздыхает. – Но почему ты не пришла раньше?
– Не хотела вас впутывать. Как только кого-то забирают, за родными и друзьями устраивают слежку. Я даже твоим родителям не сказала. Да и как я могла сказать Баба-Хакиму и Афшин-ханом, что их сын в тюрьме? Но вас я должна предостеречь. Ты, Кейван-джан, и так уже в опасности – из-за связей твоего отца с шахом.
– Знаю, – говорит Кейван. – Но сейчас мы не можем уехать. Отец попросил сначала продать его дома и остальное имущество и только потом ехать в Швейцарию, к ним с мамой.
Служанка вносит серебряный поднос, ставит его на журнальный столик. На подносе знакомый чайный сервиз из желтого фарфора с изображением сада – он достался Кейвану по наследству от прадеда, придворного художника еще при шахе Насир ад-дине[11]11
Насир ад-дин – шах Ирана (1831–1896). Каджарская династия (из тюркского племени каджаров) правила Ираном с 1796 по 1925 г.
[Закрыть] из Каджарской династии. Сервиз этот шах подарил художнику по возвращении из Европы. Фарназ смотрит на сервиз, на тарелку со сластями – подрумянившимся, смазанным маслом печеньем мадлен, его золотит мягкий свет настольной лампы – и думает: здесь, на этом подносе, взлет страны и вместе с тем ее закат, стремление к единению с миром и отказ признать, что с каждым столетием империя уменьшается, уступая в великолепии другим странам. Иначе стала бы прислуга по имени Масуме, родившаяся в городе Урмия, в провинции Западный Азербайджан, печь мадлен, самое популярное во Франции печенье.
Фарназ помнит коронацию шаха и его супруги – это было пятнадцать лет назад, в октябре 1967-го. Они с Исааком получили приглашение благодаря Кейвану, чей отец был министром. Они вместе с другими приглашенными стояли в Большом зале дворца Голестан, бывшей резиденции Каджаров, и смотрели, как монаршая семья шла по красной ковровой дорожке, залитая светом бесчисленных хрустальных люстр: впереди сестры и братья шаха, за ними его младший сын, супруга и, наконец, сам монарх. Приглашенные улыбались и, когда процессия приближалась к ним, приседали. Фарназ, в серебристом атласном платье из Парижа тоже улыбалась, но никак не могла заставить себя сделать реверанс. Она скосила глаза на Исаака, он шепнул ей на ухо: «Экая помпа! Ни дать ни взять Наполеон с Жозефиной! Не мешало бы напомнить им, что на наших рынках все еще полно ослов…» Фарназ тогда испытала досаду – зачем он рассмешил ее: ведь в благодарность за приглашение им следовало вести себя, как приличествует такому торжеству. А еще ей было обидно, что он развеял иллюзию, высмеял то, чем она в глубине души восхищалась. Там, в зале, где ее со всех сторон окружали короны и диадемы, изукрашенные сотнями драгоценных камней, она испытывала гордость: ведь она часть этой горстки избранных и церемония происходит прямо у нее на глазах. Фарназ понравилось, что шах надел корону не только на себя, но и на супругу – впервые за историю страны было провозглашено право женщины унаследовать престол. И все же Фарназ понимала, что потом, разговаривая с Исааком или с теми, кому не посчастливилось присутствовать на коронации, она непременно будет критиковать ее за чрезмерную пышность.
– Может, ну их, дом и вещи? Возьмем да и уедем? – говорит Кейван. Он побледнел и похудел, через тонкий свитер проглядывают ключицы, и Фарназ подумалось, что Кейвану живым из тюрьмы не выйти. Шахла разливает чай.
– Это невозможно, – возражает Шахла. – Одной любовью сыт не будешь.
Она протягивает чашку Фарназ, но смотрит на мужа, тот возвращает жене взгляд и переводит глаза на картину на стене – на ней изображен шах Насир ад-дин, его прадед написал шаха в 1892 году.
– Из-за одной этой картины следует остаться, – говорит Шахла. – Как можно бросить историю всей нашей семьи?
Кейван потирает лоб, пальцы его застревают на вздувшихся на висках венах.
– А что, если меня арестуют? Поможет ли мне в тюрьме эта картина, сколько бы о ней ни писали в этих никчемных журналах по искусству? А также этот чайный сервиз, люстра или дурацкое кресло восемнадцатого века… чем они мне помогут?
Кейван чуть не кричит, голос его срывается: он не привык говорить на повышенных тонах.
– Тсс! – шепчет Шахла. – Хочешь, чтобы тебя услышали соседи?
Она отпивает чай, берет печенье, медленно, с нарочитым спокойствием подносит его ко рту.
– Только представь, что скажет отец, когда мы объявимся на пороге их дома в Женеве с пустыми руками! – Шахла откусывает печенье, подставляет ладонь, чтобы не дай бог не накрошить на пол. – У мулл нет причин нас преследовать, – говорит она уже в который раз: она любит настоять на своем.
– А какие у них были причины забрать Исаака? – спрашивает Фарназ.
Кейван рассеянно помешивает чай.
– Единственное мое преступление в том, что я сын своего отца, – говорит он, не поднимая глаз.
Шахла вытирает руки, тянется за сигаретой, закуривает.
– К чему так драматизировать, профессор? – Она пускает дым в сторону мужа, а вместе с ним и заряд желчи. – Кем бы ты был без отца? Без деда и прадеда? Чего бы ты добился, если бы не предки? Думаешь, будь у тебя другая фамилия, твои рассуждения об искусстве имели бы вес? Явись мы в Женеву, Париж, да хоть в Тимбукту, не позаботившись о своем имуществе, какое положение мы займем?