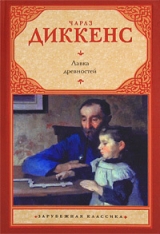
Текст книги "Лавка древностей"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
Слушая его, старик медленно отступал к двери соседней комнаты. Когда же до нее остался какой-нибудь шаг, он поднял руку и прошептал дрожащими губами: – Вы сговорились… вы хотите отнять у нее мою любовь. Но пока я жив, пока я дышу, вам это не удастся! У меня нет ни родных, ни друзей – только она одна. Нет, и не будет! Она для меня все. Слишком поздно вы вздумали разлучать нас!
Он отмахнулся от них и, тихо окликая ее по имени, переступил порог комнаты. А они, оставшиеся позади, сбились в кучку и, обменявшись несколькими словами прерывистыми, произнесенными с трудом, – последовали за ним. Они ступали бесшумно, но их горестные стоны и рыдания нарушали тишину.
Горестные – потому что она умерла. Вот она, перед ними – недвижно покоится на своей маленькой кроватке. И торжественное безмолвие этой комнаты перестало быть загадкой для них.
Она умерла. Что могло быть прекраснее этого сна, пленяющего глаз своей безмятежностью, не омраченною следами страданий и мук. Казалось, смерть не тронула ее, казалось, она, только что из рук творца, ждет, когда в нее вдохнут жизнь.
Ее ложе было убрано зелеными ветками и красными ягодами остролиста, сорванными там, где она любила гулять. «Когда я умру, положите около меня то, что тянется к свету и всегда видит над собой небо». Так она говорила в последние свои дни.
Она умерла. Кроткая, терпеливая, полная благородства, Нелл умерла. Птичка – жалкое, крохотное существо, которое можно было бы раздавить одним пальцем, – весело прыгала в клетке, а мужественное сердце ее маленькой хозяйки навсегда перестало биться.
Где же они, следы преждевременных забот, следы горя, усталости? Все исчезло. Ее страдания тоже умерли, а из них родилось счастье, озаряющее сейчас эти прекрасные, безмятежно спокойные черты.
И все же здесь лежала она – прежняя Нелл. Да! Родной очаг улыбался когда-то этому милому, нежному лицу; оно появлялось, словно сновидение, в мрачных пристанищах горя и нищеты, и летним вечером у дома бедного учителя, и у постели умирающего мальчика, и сырой, холодной ночью у огнедышащего горна. Вот как смерть открывает нашим глазам ангельское величие усопших!
Старик взял безжизненную руку и, грея, прижал ее к груди. Эта рука протянулась к нему, когда по ее губам скользнула прощальная улыбка; эта рука вела его, когда они странствовали вместе. Он поднес ее пальцы к губам, потом опять прижал их к груди, шепнул: «Потеплели!» и, словно умоляя помочь ей, оглянулся на тех, кто стоял рядом. Нелл умерла, и помощь была не нужна ей. Ветхий дом, который она наполняла жизнью, хотя ее дни быстро подходили к концу, сад, за которым она ухаживала, глаза, которые радовались ей, места, которые знали ее тихие задумчивые шаги, тропинки, по которым она, казалось, ходила только вчера, – все это потеряло ее навеки.
– Не на земле, – сказал учитель, касаясь губами ее щеки и не сдерживая слез, – не на земле свершается небесная справедливость. Что земля по сравнению с тем миром, куда так рано воспарила эта юная душа! И если бы нам достаточно было одного слова, чтобы вернуть ее к жизни, кто из нас решился бы выболтать его?
Глава LXXII
Наступило утро. И, успокоившись немного, они выслушали рассказ о последних часах ее жизни.
Прошло уже два дня, как она умерла, зная, что конец близок, друзья не покидали ее. Смерть наступила вскоре после рассвета. Всю ночь с ней разговаривали, читали ей вслух, а к утру она уснула. По словам, изредка слетавшим с ее уст, можно было понять, что ей снятся недавние странствия, но не тяжелые их часы и дни, а радостные, так как она часто шептала: «Да благословит вас бог!», видимо вспоминая тех добрых людей, которые помогали им. Проснувшись, она не бредила и только раз сказала, что слышит нежную тихую музыку. Кто знает может, так оно и было?
Снова спокойный сон, а потом она открыла глаза и попросила, чтобы все, кто был в комнате, поцеловали ее. И когда эту просьбу исполнили, повернулась к старику с мягкой улыбкой – такой улыбкой, забыть которую нельзя, – и обеими руками обняла его за шею. Вначале никто не заметил, что она перестала дышать.
Последние дни ее часто навещали воспоминания о двух сестрах, и она называла их своими милыми подружками. Ей хотелось, чтобы эта девушки узнали, как много она думала о них и как гуляла по вечерам вместе с ними у реки. И повидать бы еще Кита! Пусть кто-нибудь передаст ее привет бедному Киту. И даже в последние часы, вспоминая о нем, она, как и встарь, смеялась веселым серебристым смехом.
За все это время ни слова, ни единого слова жалобы! Полная кротости, спокойствия и благодарности к друзьям, она только становилась все серьезнее и серьезнее и угасала, как угасает дневной свет летом, переходя в сумерки.
Мальчик, с которым она была так дружна, прибежал чуть свет и принес засушенные цветы, прося положить их ей на грудь. Это его голос слышал Кит, разговаривая с кладбищенским сторожем, и следы его же маленьких ног виднелись на снегу под окном ее комнаты, где он долго стоял накануне вечером, прежде чем пойти спать. Бедняжке все казалось, что Нелл оставили там одну, и эта мысль не давала ему покоя.
Он рассказал им свой сон – будто она вернулась к ним, будто она такая же, как прежде, – и стал просить, чтобы его пустили к ней. «Я не боюсь, я не буду плакать. Ведь когда умер мой маленький брат, я весь день просидел рядом с ним!» Просьбу мальчика исполнили, и он сдержал слово, по-своему, по-детски, преподав им всем полезный урок.
До сих пор старик молча сидел возле умершей и лишь изредка нарушал молчание, обращаясь к ней с ласковыми словами. Но при виде ее маленького любимца лицо у него изменилось, он поднял руку, подзывая мальчика к себе, показал на кровать и впервые за все это время залился слезами. И тогда те, кто стоял рядом, поняли, что этот ребенок облегчит его горе, и оставили их наедине.
Умиротворенный бесхитростными рассказами мальчика – рассказами о ней, старик исполнял почти каждую его просьбу, отдыхал, ходил гулять. И в тот день, когда эта смертная плоть должна была навеки скрыться с глаз смертных, маленький друг Нелл увел старика из дому, боясь, как бы он не узнал, что ее отнимут у него.
Они пошли вдвоем нарвать свежих листьев и ягод. Был ясный зимний день – воскресенье. Когда они проходили по деревенской улице, встречные уступали им дорогу, ласково здоровались с ними. Некоторые по-дружески пожимали старику руку, другие обнажали голову, когда он неверными шагами проходил мимо. «Да благословит его бог!» – слышалось со всех сторон.
– Соседка! – сказал старик, когда они остановились у дома, где жила мать его маленького поводыря. – Почему сегодня чуть ли не все в черном? Я вижу траурные повязки, ленты…
Женщина ответила: – Не знаю.
– Да на вас самой черное платье! – воскликнул он. – И окна везде закрыты, а ведь до ночи еще далеко! Что это значит?
И женщина снова ответила ему: – Не знаю.
– Пойдем домой! – забеспокоился старик. – Пойдем узнаем, что случилось.
– Нет, нет! – воскликнул мальчик. – Помните свое обещание! Нам надо туда, в тот зеленый уголок, где мы плели с ней венки и где вы часто заставали нас. Идемте, идемте!
– Где она? – прошептал старик. – Скажи мне!
– Да разве вы не знаете? – ответил мальчик. – Мы же только что ушли от нее!
– Да, правда… правда. Ведь это была она? Он поднес руку ко лбу, огляделся по сторонам и, видимо, пораженный какой-то новой мыслью, торопливо заковылял через дорогу к дому кладбищенского сторожа. Тот сидел у очага со своим глухим помощником. Увидев, кто вошел в комнату, оба встали.
Мальчик сделал им быстрый знак рукой. Взглянув на старика, они поняли все.
– Сегодня… сегодня кого-нибудь хоронят? – торопливо заговорил он.
– Нет, что вы, сэр! Кого же нам хоронить? – ответил сторож.
– Да, – правда – кого? Вот я тоже думаю – как будто некого!
– Сегодня у нас работы нет, – продолжал сторож. – Сегодня мы отдыхаем.
– Тогда веди меня куда хочешь, – сказал старик, поворачиваясь к мальчику. – Но вы правду говорите? Это не обман? Я так сдал за последние дни, что мне трудно вас понять.
– Идите, сэр, идите с ним! – воскликнул сторож. И да благословит господь вас обоих!
– Ну что ж, пойдем, – сказал старик. – Пойдем, дитя мое. – И он покорно позволил увести себя на улицу.
И вот колокол – тот самый колокол, к голосу которого она столько раз с благоговейным чувством прислушивалась и днем и ночью, словно это был голос живого существа, – зазвонил по ней, такой юной, такой доброй, полной такого очарования.
Дряхлая старость, уверенная в себе зрелость, цветущая молодость, беспомощное детство – все вышли ей навстречу, и – кто на костылях, кто в расцвете здоровья и сил, кто полный надежд, кто на заре жизни – отправились следом за ней, в ее последний путь. Немощные, едва бредущие старики; старухи, которые, умри они десять лет назад, все равно встретили бы смерть в преклонном возрасте; глухие, слепые, хромые, разбитые параличом – живые мертвецы всех видов, всех обличий потянулись к ее ранней могиле. Так неужели же эта смерть, которую готовилась поглотить темная яма, была горше той, что еще кое-как ползала по земле!
По узкой, забитой народом тропинке несли ее, чистую, как свежевыпавший снег, которому суждена столь же краткая жизнь. Снова та паперть, где она сидела не так давно, когда милосердное небо привело ее в эти безмятежно тихие места; снова навстречу ей лился спокойный сумрак древней церкви.
Ее бережно опустили на каменные плиты в том уголке, где она часто таилась, задумчивая, притихшая. Свет проникал сюда сквозь разноцветные стекла окна, за которым летними днями деревья шелестят листвой и птицы поют не умолкая, от зари до зари. И когда ветерок дохнет на эти ветви, их кружевная, зыбкая тень узором ляжет на ее могилу.
Тлен тлену, земля земле, прах праху! Скромные венки в детских руках, глухие рыдания, склоненные колени. Горе – искреннее, неподдельное горе!
Заупокойная служба кончилась, друзья отошли в сторону, уступая место тем, кто хотел в последний раз заглянуть в могилу, прежде чем ее закроют надгробной плитой. То тут, то там слышались голоса – кто вспоминал, как она сидела вот на этом самом месте, опустил книгу на колени и задумчиво глядя в небо; кто дивился ее смелости – такая маленькая, а не боялась заходить в церковь по вечерам, мало того, что не боялась, – любила посидеть тут в тишине, любила подниматься на колокольню, когда только лунные лучи освещали ступеньки, скользя сквозь глубокие амбразуры в стенах. А старики, перешептываясь между собой, говорили: «К ней слетались ангелы, она беседовала с ними». И, вспоминая ее лицо, ее голос, ее раннюю смерть, многие думали: а может быть, это правда? По двое, по трое люди приближались к могиле, заглядывали туда, уступали место другим, обменивались тихими словами, и, наконец, церковь опустела и в ней остались только друзья покойной и кладбищенский сторож.
Склеп замурован, плита легла на место. Наступили сумерки, нерушимая, торжественная тишина овеяла высокие своды, яркий свет луны щедро залил надгробья, памятники, колонны, арки – и щедрее всего (как им казалось) ее безмолвную могилу. И в эти полные спокойствия минуты, когда и внешний мир и мир внутренний пронизывает одна мысль – мысль о бессмертии, перед которой рассеиваются прахом и суетные страхи и надежды, – они, смирившись сердцем, покинули старую церковь и оставили девочку наедине с богом.
Труден урок, преподанный такой кончиной, но усвоить его должен каждый, ибо в нем заложена глубокая, всеобъемлющая истина. Когда смерть поражает юные, невинные существа и освобожденные души покидают земную оболочку, множество подвигов любви и милосердия возникает из мертвого праха. Слезы, пролитые на безвременных могилах, рождают добро, рождают светлые чувства. По стопам губительницы жизни идут чистые создания человеческого духа – им не страшна ее власть, и угрюмый путь смерти сияющей тропой восходит в небеса.
Было поздно, когда старик вернулся домой. На обратном пути мальчик под каким-то предлогом завел его к себе, и, устав от длинной прогулки, он крепко уснул у очага. Ему не мешали – пусть спит. И он спал до вечера, а когда проснулся, в окно уже светила луна.
Младший брат, встревоженный такой долгой отлучкой, поджидал старика у двери и еще издали увидел, как маленький поводырь ведет его по тропинке. Он поспешил ему навстречу, бережно взял под руку и медленными неверными шагами повел к дому.
Старик сейчас же ушел в ее комнату. Увидев, что там пусто, он, растерянный, вернулся назад. Потом, окликая ее по имени, бросился к дому учителя. Друзья последовали за ним и, когда он и там не нашел той, кого искал, привели его домой.
Вкладывая в свои слова всю жалость и любовь, которыми были полны их сердца, они упросили его сесть и выслушать все. Потом, стараясь исподволь подготовить несчастного к страшному удару и горячо убеждая его, что счастливее ее участи нет и не может быть, наконец сказали ему правду. Лишь только это слово было произнесено, он как подкошенный упал к их ногам.
Беспамятство продолжалось долгие часы, и окружающие уже начали опасаться за его жизнь. Но у горя есть сила, ее не одолеешь, – и он пришел в себя.
Если найдутся на свете люди, не знакомые с чувством пустоты, которое несет за собой смерть, – чувством томительной, гнетущей пустоты и одиночества, которое преследует даже самых сильных духом, когда им на каждом шагу недостает кого-то близкого, дорогого, когда каждый, сам по себе ничего не значащий предмет сливается в их воспоминаниях с любимым существом, каждая вещь в доме становится памятником и каждая комната – могилой, – если найдутся на свете люди, не знакомые со всем этим, не испытавшие всего этого на себе, им не понять, как медленно влачилось для старика время, в какой тоске изнывал он, не обретая того, что искал.
Все душевные силы, еще не окончательно изменившие ему, были целиком отданы ей. Он так и не узнал и, видимо, не старался узнать брата и ко всем его ласкам и заботам относился равнодушно. С ним можно было говорить на любые темы – кроме одной. Он терпеливо слушал, потом отворачивался и снова уходил – продолжать свои тщетные поиски.
Того, что неотступно занимало его мысли, в разговоре с ним трогать было нельзя. Умерла! Само слово казалось ему непереносимым. Достаточно было малейшего намека, и у него начинался припадок, как в ту минуту, когда это страшное слово произнесли впервые. На что старик надеялся, никто не мог сказать. Но в том, что надежда, смутная, призрачная надежда теплилась у него в груди, что он жил ею изо дня в день и с каждым днем томился все больше и больше, – сомнений не было.
Может статься, его лучше увести из этих мест, где все напоминает. ему о недавнем горе? Может статься, такая перемена принесет облегчение? Младший брат обратился к тем, на чей совет можно было положиться. Они приезжали, беседовали со стариком, наблюдали, как он, одинокий, безмолвный, бродит по деревне. Приговор был таков: куда бы его ни увезли, он все равно будет стремиться назад, в эти места. Ему уже не оторваться от них душой. Держать его взаперти, под строгим присмотром? Что ж, можно и так. Но если ему удастся убежать, он вернется в эту деревню или же умрет в пути, не добравшись до нее.
Мальчик, которого он беспрекословно слушался вначале, теперь потерял над ним всякую власть. Иной раз старик позволял своему прежнему спутнику сопровождать себя и даже давал ему руку, целовал его, гладил по голове. Но это случалось редко, большей же частью он хоть и ласково – просил мальчика уйти, не перенося его присутствия. И один ли, со своим ли покорным маленьким другом, или в обществе тех, кто ничего бы не пожалел, пошел бы на любую жертву, лишь бы успокоить его, – он оставался ко всему равнодушным, ко всему безучастным, убитым горем стариком.
И вот однажды утром он встал чуть свет и, взяв свой мешок, палку, ее соломенную шляпу и корзинку, с которой она не расставалась во время их скитаний, ушел из дому. Только они собрались за ним вдогонку, как на пороге появился мальчик из здешней школы; встревоженный, испуганный, он рассказал, что видел старика минуту назад, что старик в церкви – у ее могилы.
Они поспешили туда, осторожно отворили дверь и действительно, он сидел у могилы, будто терпеливо поджидая кого-то. Не мешая ему, они наведывались в церковь весь день. Когда стемнело, он вернулся домой и лег в постель, тихо прошептав: «Она придет завтра».
И весь следующий день он пробыл в церкви до позднего вечера, а ночью, ложась спать, снова сказал: «Она придет завтра».
И с тех пор каждый день он ждал ее, ждал у могилы. Кто знает, какие картины вставали перед ним в этой тихой, сумрачной старой церкви! Новые странствия по прекрасным местам, отдых под открытым небом, прогулки по полям и лесам и нехоженым тропинкам? А может быть, ему слышался знакомый голос, чудилось: вот знакомая фигурка, вот платье и волосы, весело развевающиеся на ветру? О чем были его думы – о прошлом? Или он ласкал себя надеждами на будущее? Он ни с кем не делился своими мыслями, никому не говорил, куда ходит. А по вечерам сидел в кругу друзей и с затаенной радостью, не ускользавшей от их внимания, раздумывал о побеге – с ней, вдвоем… ночью, следующей ночью; и, ложась спать, шептал снова к снова: «Боже! Молю тебя, сделай так, чтобы она пришла завтра!» В последний раз он ушел из дому теплым весенним днем и не вернулся в обычный час; они пошли искать его. Он лежал мертвый на каменной надгробной плите.
Его положили возле той, кого он так любил. И в этой церкви, что часта слышала их молитвы, часто видела, как они рука об руку молча сидят здесь, старик и девочка покоились теперь вечным сном, рядом друг с другом.
Глава последняя
Волшебный клубок, который, разматываясь, уводил рассказчика в глубь повествования, катится все медленнее и медленнее и, наконец, останавливается. Он лежит у цели – дальше ему спешить некуда.
Нам осталось теперь отпустить на все четыре стороны тех, кто сопровождал нас в ртом путешествии, и сказать, что оно закончено.
Сладкоречивый Самсон Брасс и Салли, взявшись под ручку, требуют, чтобы мы прежде всего занялись ими обоими.
Как нам уже известно, мистер Самсон задержался у судьи и, покоряясь настоятельным просьбам этого джентльмена продлить свой визит, довольно долгое время пользовался его гостеприимством, причем хозяин уделял ему столько внимания, что он был совершенно потерян для общества и нигде не показывался, если не считать коротких прогулок (исключительно ради моциона) по маленькому мощеному дворику. Те, с кем мистеру Самсону приходилось теперь иметь дело, не преминули оценить его застенчивость и склонность к уединению, и им так не хотелось расставаться с ним, что они потребовали, чтобы два солидных домовладельца внесли за своего друга залог в размере полутора тысяч фунтов каждый, дабы он не покинул сей гостеприимный кров навсегда, если его выпустить на волю на других условиях. Восчувствовав эту милую шутку и решив подыгрывать ее зачинщикам до конца, мистер Брасс отыскал среди своих многочисленных знакомых двоих джентльменов, общий капитал коих равнялся пятнадцати пенсам минус какая-то мелочь, и выставил их в качестве поручителей (обе стороны почему-то остановились именно на этом забавном словечке). Однако поручительство вышеупомянутых личностей было отклонено после веселой и вполне дружеской перепалки, длившейся ровно двадцать четыре часа, вследствие чего мистер Брасс согласился остаться на своей временной квартире до тех пор, пока некая компания остряков (именуемая Большим Жюри) не свела его с двенадцатью другими забавниками, а те, покатываясь с хохоту, в свою очередь вменили ему в вину мошенничество и клятвопреступление. Впрочем, веселились не только они, ибо, когда мистер Брасс следовал в кэбе к тому зданию, где заседали эти шутники, уличные толпы встретили стряпчего градом тухлых яиц, забросали дохлыми кошками и, кажется, готовы были растерзать его на клочки, что еще больше подчеркнуло комизм положения мистера Брасса и, вероятно, доставило ему немалое удовольствие. Войдя во вкус, мистер Брасс решил продлить эту комедию и через своего адвоката обжаловал Приговор суда, сославшись на то, что ему было обещано помилование, если он чистосердечно во всем признается, и потребовав поблажек, кои делаются излишне доверчивым простакам, давшим поймать себя на удочку. После всестороннего обсуждения этого вопроса в совокупности с другими, не менее смехотворными, жалобу мистера Брасса передали в суд, а он сам тем временем снова отправился на свою прежнюю квартиру. Наконец кое-что разрешилось в пользу Самсона, кое-что против него, и путешествие за море ему заменили пребыванием на родине – правда, предъявив этому ее достойному сыну некоторые не столь уж суровые требования.
Требования эти заключались в следующем: мистер Брасс должен был прожить положенный срок в одном весьма поместительном здании совместно с другими джентльменами, которые получали там даровую квартиру и стол за счет общества, ходили в строгого покроя сером мундире с желтыми выпушками, стригли голову наголо и питались по большей части жидкой кашицей и. похлебкой. Кроме того, ему вменялось в обязанность принимать участие в общих упражнениях – то есть ежедневно отсчитывать бесконечные ступеньки некоего колеса, а чтобы ноги у него не ослабли с непривычки – носить на правой железный амулет, или талисман.
Когда все вышеизложенное было обусловлено, мистера Брасса препроводили на его новое местожительство в компании девяти других джентльменов и двух леди, причем они удостоились высокой чести совершить это путешествие в одном из собственных его величества экипажей.
Мы не можем умолчать и о более суровой каре, постигшей Самсона Брасса: имя его было вычеркнуто, изъято из списка стряпчих, что считается в наше время величайшим унижением и позором и свидетельствует о причастности к каким-то уж очень страшным злодействам, ибо в означенном списке наряду с именами почтенными благополучно значатся и такие, каким там, казалось бы, совершенно не место.
Относительно Салли Брасс слухи ходили самые разноречивые. Некоторые рассказывали, будто она, переодетая в мужское платье, улизнула в порт и там нанялась матросом на корабль. Другие намекали, что эта девица завербовалась во второй гвардейский пехотный полк и что ее даже видели однажды вечером в караульной будке у Сент-Джеймского парка [91]91
Сент-Джеймский парк– парк рядом с королевским дворцом, в аристократическом районе Лондона.
[Закрыть]– в мундире и при мушкете. Да мало ли чего о ней болтали! В действительности же достоверно известно лишь следующее: лет через пять после описанных здесь событий (а за это время у нас не было прямых свидетельств, что мисс Салли попадалась кому-либо на глаза), в самых глухих закоулках Сент-Джайлеа [92]92
Сент-Джайлс– в то время один из беднейших районов Лондона.
[Закрыть]с наступлением сумерек стал появляться двое жалких оборванцев. Сгорбленные, дрожащие от холода, они слонялись по улицам, разыскивая отбросы и всякую завалявшуюся дрянь в канавах и на мусорных свалках. Эти фигуры можно было видеть только в самые холодные, мрачные ночи, когда страшные призраки, ютящиеся в грязных трущобах Лондона, – живое олицетворение Недуга, Порока, Голода, – решаются выползать на улицы из-под арок мостов, из темных подворотен и подвалов.
По слухам (на сей раз достоверным), это были не кто иные, как Самсон и его сестрица Салли. Говорят, они и по сию пору появляются там ночью в самую непогоду, заставляя прохожих шарахаться в сторону при виде их омерзительных лохмотьев.
Труп Квилпа нашли только спустя несколько дней, и дознание производилось недалеко от того места, где волны выбросили его на берег. Общее мнение было таково, что он утопился; а поскольку обстоятельства его смерти не противоречили этому, судебный следователь вынес соответствующий вердикт, и карлика ведено было зарыть в землю да перекрестке двух дорог, вбив ему кол в сердце.
Потом рассказывали, будто бы эта мрачная варварская церемония так и не состоялась и будто останки тайком выдали Тому Скотту. Но тут опять не знаешь, кому верить, кому нет, потому что ходили и такие слухи, будто глухой полночью Том откопал труп и перенес его в другое место, по указанию вдовы карлика. Впрочем, обе эти версии, вероятно, породил тот факт, что Том, как ни странно, горько плакал во время следствия и даже выразил явное желание наброситься на следователя с кулаками, а когда его схватили и вывели, немедленно затемнил единственное окно судебной камеры, став вверх тормашками на наружный подоконник. Однако бдительный и весьма ловкий сторож не замедлил придать ему нормальное положение.
Очутившись после смерти хозяина на улице, Том Скотт решил ходить по ней вверх ногами и стал зарабатывать себе на хлеб всевозможными акробатическими фокусами. Английское происхождение сильно мешало ему на данном поприще (несмотря на то, что это искусство у нас в большой чести). Пораскинув мозгами, он принял имя и фамилию одного знакомого итальянского мальчишки, который торговал гипсовыми фигурками вразнос, и с тех пор кувыркается с неизменным успехом, при большом скоплении публики.
Маленькая миссис Квилп так и не простила себе предательства, камнем лежавшего на ее совести, и, вспоминая о нем, каждый раз обливалась жгучими слезами. Родных у Квилпа не было, и она разбогатела после его смерти. Он не оставил завещания, а если бы оставил, то, вероятно, пустил бы ее по миру. Выйдя замуж в первый раз по настоянию своей матушки, миссис Квилп решила при вторичном выборе супруга руководствоваться только собственным вкусом. Выбор ее пал на вполне благообразного молодого человека, а так как он поставил непременным условием, чтобы миссис Джинивин отделилась от них и перешла на положение пенсионерки, супруги ссорились не больше, чем это полагается в каждой добропорядочной семье, и жили мирно и весело на деньги карлика.
У мистера и миссис Гарленд и у мистера Авеля все шло по-старому (если не считать одного события, но об этом речь ниже). С течением времени последний стал компаньоном своего друга мистера Уизердена, и этот важный шаг в жизни мистера Авеля был отмечен званым обедом, балом и прочими роскошествами. На балу среди приглашенных оказалась одна на редкость застенчивая девица, в которую мистер Авель и влюбился. Как это случилось, каким образом выяснилось, кто из них первый сделал это открытие и сообщил о нем другому – бог ведает! Скажем только одно: вскоре они поженились. А о том, что счастливее их не было никого на свете и что они вполне заслужили такое счастье, и говорить не стоит, это само собой разумеется. Они вырастили большую семью, – и мы сообщаем об этом с особенным удовольствием, так как чем больше будет на свете хороших, добрых людей, тем пышнее расцветет аристократия – аристократия духа и сердца! А это прямая выгода для всего человечества.
Пони сохранил свою независимость и твердость убеждений до конца жизни, а она была настолько продолжительна, что на него стали смотреть, как на Мафусаила лошадиного племени. Он постоянно сновал со своим маленьким фаэтоном между домом мистера Гарленда и домом его сына, а так как старики и молодежь часто гостили друг у друга, мистер Авель выстроил ему у себя конюшню, куда пони удалялся без провожатых, преисполненный чувства собственного достоинства. Когда дети настолько подросли, чтобы пользоваться его дружеским расположением, пони стал снисходить до игр с ними и, как собачонка, бегал за своими маленькими друзьями по загону. Но хотя им разрешалось многое – например, ласкать его и даже разглядывать его копыта и вешаться ему на хвост, – никто из них не смел сесть Вьюнку на спину или взять в руки вожжи, потому что всякой фамильярности есть предел и некоторыми вещами шутить не следует.
На склоне дней пони не утерял способности нежно привязываться к людям, и когда бакалавр, похоронив своего друга священника, перебрался, на житье к мистеру Гарленду, Вьюнок проникся к этому добряку нежными чувствами и весьма любезно позволял ему править собой. Года за два, за три до смерти, он почил от трудов и катался как сыр – только не в масле, а в клевере, последнее же его земное деяние выразилось в том, что он, будучи старичком желчным, больно лягнул лекаря.
Мистер Свивеллер не скоро оправился после болезни, а оправившись и получив завещанную ему ренту, – одел маркизу с головы до ног, после чего немедленно определил ее в школу, согласно клятве, данной на одре болезни. Долго он думал, какое ей дать имя, и, наконец, решил: Софрония Сфинкс, ибо оно звучало пышно, благородно и заключало в себе намек на тайну. Под этим именем маркиза, обливаясь слезами, отбыла в избранную им школу, откуда ее через два-три семестра перевели в учебное заведение высшего разряда, так как она вскоре опередила всех своих товарок. Лет пять-шесть мистер Свивеллер во многом отказывал себе в связи с расходами по обучению маркизы, но эта обязанность неизменно стояла у него на первом месте, и он чувствовал себя в полной мере вознагражденным за все лишения, когда с чрезвычайно важным видом выслушивал отчеты об успехах своей питомицы во время ежемесячных визитов к директрисе, считавшей его джентльменом эксцентричным, весьма начитанным и с необычайной памятью на стихи.
Короче говоря, мистер Свивеллер держал маркизу в пансионе довольно долго, а когда этой очаровательной, умненькой, веселой девушке исполнилось, по приблизительным подсчетам, девятнадцать лет, ему пришлось задуматься – что же с ней делать дальше? В один из своих очередных визитов в пансион он сидел, погруженный в эти мысли, как вдруг маркиза предстала перед ним сияющая и свежая, как никогда. И вот тут-то у мистера Свивеллера промелькнуло в уме (правда, не впервые): а что, если она согласится выйти за него замуж? Как они хорошо заживут вдвоем! И, Ричард тут же изъяснился ей. Какой на это последовал ответ, мы в точности не знаем, во всяком случае не отрицательный, так как ровно через неделю они поженились, и это дало мистеру Свивеллеру возможность повторять потом при всяком удобном случае, что, дескать, он был прав: некая молодая девушка берегла для него свое сердце!
Как раз в это время в Хэмстеде сдавался внаем маленький коттедж с садиком и беседкой для курения – предметом зависти всего цивилизованного мира. Они сняли его и, справив медовый месяц, перебрались туда. Мистер Чакстер удостаивал этот мирный приют своими посещениями каждый воскресный день – приезжал обычно к завтраку и засиживался до ночи, угощая своих хозяев светскими сплетнями и всякими другими новостями. Он продолжал долгие годы питать смертельную ненависть к Киту и все твердил, что готов был примириться с ним лишь тогда, когда его заподозрили в краже пяти фунтов стерлингов, ибо в таком поступке по крайней мере есть дерзновенность и смелость. Но, увы! Полное оправдание лишний раз доказало лицемерный, подлый нрав этого пройдохи. Однако, с течением времени, мистер Чакстер сменил гнев на милость и даже удостаивал Кита своим покровительством, как до некоторой степени раскаявшегося и заслуживающего снисхождения преступника. Единственное, чего он не мог ни простить, ни забыть, – это истории с шиллингом. Если бы Кит вернулся в надежде на дополнительные чаевые, говорил мистер Чакстер, это было бы похвально, но отрабатывать уже полученные деньги – позор, такой позор, какого не искупят ни угрызения совести, ни чистосердечное раскаяние!







