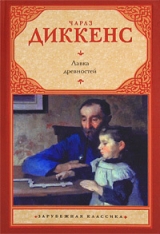
Текст книги "Лавка древностей"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
Когда она спустилась на паперть и заперла церковные двери, детей на кладбище уже не было. Из школы доносился оживленный гул голосов – ее друг приступил к занятиям в тот день. Вот голоса послышались громче; она оглянулась и увидела, как мальчики гурьбой высыпали на улицу и с веселыми криками разбежались кто куда. «Я рада, что они проходят мимо церкви по дороге в школу. Это очень хорошо», – подумала девочка и, остановившись, представила себе, как их голоса, проникая в часовню, будут постепенно замирать вдали.
В тот день она еще и еще раз украдкой пробралась в церковь почитать все ту же книгу и посидеть наедине со своими спокойными мыслями. И когда сумерки сгустились, когда тени надвигающейся ночи придали еще больше торжественности этой древней обители, она, ничего не боясь, продолжала сидеть в темноте, словно прикованная к месту. Там беглянку и разыскали и увели домой. Весь этот вечер личико у нее было счастливое, хоть и бледное, но когда учитель нагнулся поцеловать ее на ночь, ему показалось, будто он ощутил вкус слез у себя на губах.
Глава LIV
Для бакалавра, погруженного во множество самых разнообразных дел, древние монастырские развалины служили предметом живейшего интереса и неиссякаемым источником радостей. Гордясь ими, подобно многим людям, которые всегда готовы превозносить достопримечательности своего маленького мирка, он взялся за изучение истории этой церкви и проводил не один летний день в ее стенах, не один зимний вечер у камина в доме священника, с увлечением знакомясь со здешними преданиями и легендами.
Поскольку бакалавр не принадлежал к числу беспощадных педантов, срывающих с прекрасной истины даже самые легкие покровы, которые время и пылкая людская фантазия любят набрасывать на эту богиню и которые подчас бывают ей весьма к липу, ибо они, словно воды из ее родника, придают новое очарование прелестям, наполовину утаенным, наполовину угаданным, и пробуждают в человеке интерес и пытливость, а не чувство скуки и равнодушия, – итак, поскольку нашему бакалавру, в противоположность этим суровым и черствым буквоедам, приятно было видеть истину увенчанной скромными полевыми цветами, которые сплетает ей в гирлянды изустное предание и которые обычно чем безыскусственнее, тем свежее, – он осторожно ступал по пыли веков, осторожно касался этой пыли руками, чтобы не разрушить ни одного из воздвигнутых над ней воздушных чертогов, служивших пристанищем добрым, любовным чувствам. Так, например, когда речь однажды зашла о древней каменной гробнице, где, согласно легенде, лежали кости некоего барона, который, опустошив огнем, и мечом многие чужеземные страны, вернулся умирать домой, преисполненный скорби и раскаяния, бакалавр не внял новейшим домыслам ученых археологов, утверждавших, будто бы в этой гробнице схоронен кто-то другой, а тот барон якобы сложил голову на поле брани со скрежетом зубовным и со страшными проклятиями на устах, – нет! он не внял этому и продолжал отстаивать свое, говоря, что легенда не грешит против истины, и что, покаявшись в грехах, барон творил потом много добра и мирно испустил дух, и если только баронам не заказан вход в рай, то, значит, и этот обрел там покой. Точно так же, когда ученые мужи доказывали и утверждали, будто бы потайной склеп в церкви хранит останки отнюдь не той старушки, которая была повешена и четвертована по повелению славной королевы Бесс за то, что она утолила голод и жажду горемычного монаха [75]75
…останки… старушки, которая была повешена и четвертована по повелению славной королевы Бесс за то, что она утолила голод и жажду горемычного монаха…– Королева Бесс – королева Елизавета. В период войны с Испанией (крупнейшим ее событием был разгром англичанами Великой Армады в 1588 году) католики рассматривались в Англии как иностранная агентура и подвергались преследованиям властей. В Англии в этот период имело место несколько католических заговоров, католические страны засылали в страну немало агентов, главным образом из ордена иезуитов, члены которого проходили специальную военную и шпионскую подготовку. Здесь речь идет, очевидно, об одном из таких агентов-иезуитов.
[Закрыть], упавшего без сил у ее порога, бакалавр торжественно и во всеуслышание заявлял, что их церковь приняла прах этой злосчастной старушки и что останки ее, собранные ночью у четырех городских ворот, были тайком доставлены сюда и здесь преданы погребению. Больше того – бакалавр (приходивший в крайнее волнение, как только об этом заходила речь) отрицал величие королевы Бесс и воздавал славу женщине, может быть и самой незаметной во всех королевских владениях, но наделенной отзывчивым и добрым сердцем. Что же касается утверждения, будто бы под надгробной плитой возле паперти похоронен вовсе не тот скряга, который лишил наследства своего единственного сына, а деньги оставил церкви на новые колокола, бакалавр охотно соглашался с этим и даже высказывал сомнение, мог ли такой человек быть родом из здешних мест. Короче говоря, ему хотелось, чтобы каждая надгробная плита, каждая медная дощечка с эпитафией увековечивали память только тех людей, чьи деяния должны были пережить их самих. Обо всех прочих он предпочитал не вспоминать. Пусть лежат в этой освященной земле, но лежат глубоко, так, чтобы мир никогда больше не услыхал их имен.
Устами такого наставника и были преподаны Нелл ее несложные обязанности. Девочка, и без того глубоко потрясенная спокойным величием церкви и мирной прелестью окружающих ее мест – древние развалины среди вечно юной природы, – внимательно слушала его рассказы и проникалась уверенностью, что здесь все овеяно добром и благостной чистотой. Это был мир, куда не имели доступа ни грех, ни горе, – безмятежный приют, где не было места злу.
Познакомив Нелл с историей чуть ли не каждой могилы и каждой надгробной плиты, бакалавр повел ее в древнюю подземную часовню, от которой остались теперь только унылые голые стены, и рассказал, как она освещалась в прежние времена, когда здесь был монастырь, и как среди подвешенных к потолку светильников, среди кадил с благовонными курениями, среди блистающих золотом и серебром парчовых одеяний, среди изображений святых и блеска драгоценных каменьев, под этими низкими сводами звучал в полуночный час хор старческих голосов, и монахи в капюшонах, преклонив колена, шептали молитвы и перебирали четки. Из подземелья он снова вывел Нелл наверх и показал ей высокие узкие галереи вдоль стен, где монахини, еле различимые снизу в своих темных одеждах, скользили бесшумными шагами и, словно мрачные тени, останавливались и прислушивались к песнопениям. Он рассказал ей, как рыцари, статуи которых покоились на гробницах, носили доспехи, ржавеющие теперь по стенам возле их могил, вот это шлем, это щит, это латная рукавица, – и как они, взяв меч в обе руки, размахивали им над головой, и как убивали с одного удара вот такими железными булавами. Девочка запомнила каждое слово из его рассказов, и ей часто снилось все это, и, просыпаясь среди ночи, она поднималась с постели и смотрела на церковь в смутной надежде, что в этих темных окнах вспыхнет свет и ветер донесет до нее величавые раскаты органа и звуки молитвенных напевов.
Дряхлому сторожу скоро полегчало, и он снова стал выходить. От него девочка тоже узнала много нового для себя, хотя рассказы этого старика были несколько иного порядка. Работать он еще не мог, но однажды, когда на кладбище понадобилась свежая могила, пришел посмотреть, как ее роют. В тот день старику, видно, хотелось поболтать, и Нелл вступила с ним в разговор, сначала стоя рядом, а потом сев на траву и подняв к нему свое серьезное личико.
Человек, выполнявший на этот раз работу кладбищенского сторожа, был немного старше его и все же казался гораздо бодрее. Правда, он плохо слышал, и когда сторож (которому, наверно, потребовалось бы целых полдня, чтобы пройти милю, да и то лишь в случае крайней нужды), когда сторож заговорил с ним, девочка уловила в его словах оттенок не то раздражения, не то жалости к немощам товарища, точно сам он был невесть какой молодец и здоровяк.
– Мне грустно смотреть на вашу работу, – сказала Нелл, подходя к ним. – Я не знала, что у нас кто-то умер.
– Покойница из другой деревни, милочка, – ответил сторож. – За три мили отсюда.
– Она была молодая?
– Д-да… – сказал он. – Года шестьдесят четыре, что ли. Дэвид, сколько ей? Ведь не больше шестидесяти четырех?
Дэвид, усердно налегавший на заступ, не расслышал вопроса. Сторож не мог ни дотянуться до своего подручного костылем, ни встать без посторонней помощи и, чтобы привлечь его внимание, бросил горсть земли и угодил ему прямо в красный ночной колпак.
– Ну, что еще? – буркнул Дэвид, подняв голову.
– Сколько лет было Бекки Морган? – спросил сторож.
– Бекки Морган? – повторил Дэвид.
– Да, – сказал сторож, добавив негромко соболезнующим и вместе с тем брюзгливым тоном: – Глохнешь ты, Дэви, совсем глохнешь!
Дэвид распрямил спину, вынул из кармана специально припасенный черепок и задумчиво провел им по заступу, счищая с него прах бог знает скольких Бекки Морган.
– Дай сообразить, – проговорил он. – Я видел вчера надпись на гробе… Семьдесят девять, что ли?
– Быть того не может! – воскликнул сторож.
– Нет, верно, – со вздохом сказал Дэвид. – Я еще подумал: а ведь она наша ровесница. Да… семьдесят девять.
– А ты не перепутал? – спросил сторож, заметно заволновавшись.
– Что? Повтори, я не расслышал.
– Экий глухарь! Как есть глухарь! Я говорю, ты цифру правильно запомнил?
– Конечно, – ответил Дэвид. – Чего тут не запомнить?
– Начисто оглох, – пробормотал сторож себе под нос. – И скоро совсем из ума выживет.
Девочка удивилась, почему он вдруг пришел к такому выводу, ибо, по правде говоря, Дэвид казался ничуть не глупее и уж во всяком случае гораздо крепче его. Но сторож больше ничего не сказал, и она заговорила о другом.
– Вы рассказывали, что вам приходится и садовничать. А здесь вы сажали что-нибудь?
– Где, на кладбище? – спросил он. – Избави боже!
– Откуда же тут цветы и кустарник? Вон хотя бы на тех могилах? Я думала, это вы посадили… правда, растут они плохо.
– Растут как бог велит, – сказал сторож, – а он милостив, не дает им цвести здесь.
– Почему? Я вас не понимаю.
– А потому, что цветы эти посажены на могилах тех, у кого были верные, любящие друзья.
– Так я и думала! – воскликнула девочка. – И это очень хорошо!
– Подожди, – остановил ее сторож. – Ты сначала посмотри на них. Головки-то они повесили, чахнут, вянут. Догадываешься почему?
– Нет.
– Потому, что память о тех, кто лежит в этих могилах, живет недолго. Посадят люди здесь какие-нибудь растения, и на первых порах холят их, присматривают за ними и утром, и днем, и вечером. Потом, глядишь, стали захаживать сюда раз в день, потом раз в неделю, раз в месяц, потом когда придется, а там и вовсе след их простыл. Такие знаки памяти недолговечны. Летние цветы и те живут дольше.
– Как горько это слышать! – сказала девочка.
– Вот и приезжие господа тоже так говорят, – продолжал старик, покачивая головой. – А по-моему, напрасно. Бывало, скажут мне: «Какой у вас здесь красивый обычай – засаживать могилы цветами! Но на них грустно смотреть – почему они сохнут, умирают?» А я им отвечаю: «Прошу меня извинить, но, по моему разумению, это хороший признак: значит, живым неплохо живется». И это верно. Такова уж природа человеческая.
– А может быть, живые смотрят на голубое небо днем и на звезды ночью и думают, что мертвые там, а не в могилах, – проникновенным голосом сказала девочка.
– Может быть, – неуверенно ответил сторож. – Может, и так.
«Так или не так, – мысленно сказала себе девочка, – пусть на этих могилах будет мой сад. Кому помещает, если я стану ухаживать за ними, а сколько радости это принесет мне!» Кладбищенский сторож не заметил, как вспыхнуло ее лицо, как увлажнились глаза, и, повернувшись к старику Дэвиду, окликнул его. Возраст Бекки Морган явно не давал ему покоя, хотя девочка не могла понять, почему.
Дэвид внял зову только после второго или третьего оклика. Бросив работу, он оперся о заступ и поднес ладонь к уху.
– Ты меня звал?
– А я все думаю, Дэви, – заговорил сторож, – ведь ей, – он показал на могилу, – пожалуй, больше было, чем нам с тобой.
– Семьдесят девять, – ответил Дэвид, грустно опустив голову. – Говорю тебе, я сам видел.
– Мало что ты видел! – проворчал сторож. – Женщины часто скрывают свои года.
– А ведь правда! – воскликнул Дэвид, и глаза у него заблестели. – Бекки Морган, наверно, старше!
– Ну, еще бы! Ты вспомни, какая она была дряхлая. Мы с тобой казались перед ней мальчишками.
– Дряхлая, дряхлая! – подхватил Дэвид. – Правильно! Совсем дряхлая!
– И ведь она долгие годы такая была. Вот ты и сообрази, неужто же ей всего только семьдесят девять исполнилось? Выходит, наша ровесница?
– Лет на пять была старше по крайней мере!
– На пять? Клади все десять. Ей добрых восемьдесят девять было. Я-то помню, когда ее дочь померла. Восемьдесят девять верных, а туда же – целый десяток себе скинула. Вот она суета-то человеческая!
Его товарищ не поскупился подбавить собственных размышлений на эту благодарную тему, и, приводя одно веское доказательство за другим, они договорились до того, что покойнице, по их подсчетам, выходило уже не восемьдесят девять лет, в чем и сомнений быть не могло, а чуть ли не все сто. Когда вопрос этот был окончательно выяснен к их обоюдному удовольствию, сторож встал с помощью своего товарища.
– Еще простудишься здесь, а мне надо поберечься… до будущего лета, – сказал он и заковылял прочь.
– Что? – спросил Дэвид. – Совсем, бедняга, оглох! – воскликнул сторож. – Прощайте!
– Эх! – вздохнул Дэвид, глядя ему вслед. – Сдает старик, быстро сдает – не по дням, а по часам.
И с этими словами они расстались – каждый в полной уверенности, что товарищ дряхлее его, и оба чрезвычайно довольные своей бесхитростной выдумкой насчет Бекки Морган, кончина которой больше не будет служить им неприятным напоминанием о собственном возрасте по крайней мере еще лет десять.
Девочка постояла несколько минут, глядя, как глухой Дэвид выбрасывает заступом землю из могилы, и часто останавливается, чтобы откашляться и перевести дух, послушала, как он бормочет, посмеиваясь, что кладбищенский сторож совсем никуда не годится, потом повернулась в раздумье, пошла в глубь кладбища и вдруг увидела учителя, который сидел на зеленом могильном холмике, с книгой в руках.
– Ты, Нелл? – весело крикнул он, закрывая книгу. – Как приятно тебя видеть на воздухе, под лучами солнца. Я боялся, что ты опять сидишь в церкви.
– Боялись? – переспросила девочка, садясь рядом с ним. – А разве это плохо?
– Нет, нет! – сказал учитель. – Но иной раз надо же и развлечься… Не качай головой, не смотри на меня с такой грустной улыбкой.
– Грустной? Нет, я не грущу. Если бы вы знали, как мне хорошо! Счастливее меня нет никого на свете!
В порыве благодарности девочка взяла его руку в свои и нежно сжала ее.
– В этом воля божия, – помолчав, сказала она.
– В чем?
– Во всем! Во всем, что мы видим вокруг себя. Но кто из нас загрустил теперь? Смотрите – я улыбаюсь.
– Я тоже, – сказал учитель. – Улыбаюсь при мысли о том, сколько раз мы с тобой еще будем весело смеяться, гуляя здесь. Ты с кем-то разговаривала сейчас?
– Да, – ответила девочка.
– И этот разговор навел тебя на печальные мысли? Наступило долгое молчание.
– Почему? – мягко спросил учитель. – Расскажи, поделись со мной.
– Мне больно… мне очень больно… – сквозь слезы проговорила девочка, – что память об умерших исчезает так быстро.
– Неужели ты думаешь, – сказал учитель, поймав ее взгляд, скользнувший по кладбищу, – что неприбранные могилы, засохшие деревья, увядшие цветы говорят о равнодушии, о холодном пренебрежении? Неужели ты думаешь, что далеко отсюда не совершаются дела, которые служат лучшим памятником умершим? Нелл, Нелл! Может быть, в эту самую минуту зреют высокие мысли и творятся благие деяния в честь тех, кто погребен в этих забытых, как нам кажется, могилах.
– Довольно, довольно! – быстро проговорила девочка. – Я все поняла! Как я могла не почувствовать этого раньше, зная вас!
– Все то чистое, доброе, что уносит смерть, никогда не забывается, никогда! – воскликнул учитель. – Во что же иначе нам верить, как не в это! Дети, невинные младенцы, с первым лепетом на устах умирающие в колыбели, будут жить в людских помыслах и добрых поступках, даже если их тела испепелил огонь, поглотила морская пучина. Каждый ангел, умноживший собой небесное воинство, творит добро на земле руками тех, кто любил его при жизни. Забвение! О, если бы мы могли знать, какие источники питают добрые поступки людей, смерть показалась бы нам прекрасной, ибо сколько милосердия, сколько благодеяний и светлых душевных порывов расцветает на могилах!
– Да, да! – прошептала девочка. – Это правда, я знаю. И может ли быть иначе, если ваш маленький ученик живет во мне новой жизнью! Друг мой! Добрый, дорогой друг! Как вы меня утешили!
Учитель не проронил ни слова и молча склонился к ней, потому что сердце его было переполнено.
Они все еще сидели вдвоем на том же могильном холмике, когда к ним подошел дед Нелли, – но тут на колокольне пробили часы, и учитель ушел в школу, успев обменяться с ним только несколькими словами.
– Хороший человек, – сказал старик, глядя ему вслед. – Добрый человек. Он нас не обидит. Наконец-то нам ничто не грозит – правда, Нелл? Мы никуда отсюда не уйдем.
Девочка покачала головой и улыбнулась.
– Ей надо отдохнуть, – продолжал старик, гладя внучку по щеке. – Бледная… такая бледная. Раньше была совсем другая, – Когда? – спросила девочка.
– Правда… когда? – пробормотал он. – Сколько недель назад? Хватит ли у меня пальцев на руках, чтобы подсчитать? Нет, лучше не думать об этом. Что прошло, то прошло.
– И хорошо, что прошло, – сказала девочка. – Мы забудем то время, а если и вспомним когда-нибудь, то лишь как о дурном сне, который давно миновал.
– Те!.. – шепнул старик, быстро протянув к ней руку, и оглянулся через плечо. – Не вспоминай о том сне, что принес нам столько горя. Здесь такие сны не снятся. Им нет места среди мира и тишины. Не надо думать о снах, не то они снова будут мучить нас. Глубоко запавшие глаза… худое личико… дождь, стужа, холод… и это еще не самое страшное… Нет, забудем, забудем все, иначе мы и здесь не найдем покоя!
«Боже! Благодарю тебя! – мысленно воскликнула девочка. – Благодарю, что перемена в нем совершилась!» – Останемся здесь, – продолжал старик, – и ты не услышишь от меня ни слова жалобы, я буду покорен тебе во всем. Только не прячься, не бросай меня одного! Позволь мне всегда быть с тобой, Нелл! Верь мне!
– Я прячусь, бросаю тебя одного? – сказала девочка, заставив себя рассмеяться. – Да ты шутишь! Дедушка, милый! Посмотри вокруг себя – вот это будет наш сад. Тут хорошо, правда? И мы завтра же примемся с тобой за работу.
– Как ты славно придумала! – воскликнул он. – Смотри же не забудь, – завтра!
Кто мог бы радоваться больше старика, когда на следующий день они принялись за работу? Кто, кроме него, мог бы не сознавать, на какие мысли наводит это место! Они принялись очищать могилы от зарослей бурьяна и крапивы, пропалывать чахлые ростки и кустики, сметать с дерна засохшие листья и траву. В самый разгар работы Нелл подняла глаза и увидела бакалавра, который сидел неподалеку, на перелазе у изгороди, и молча наблюдал за ними.
– Доброе дело, – сказал он, кивком отвечая на реверанс девочки. – И вы столько успели за одно утро?
– Это только начало, сэр, – ответила она, потупившись.
– Доброе дело, доброе дело! – повторил бакалавр. – Но вы убираете лишь те могилы, где схоронены дети, юноши и девушки?
– Постепенно дойдем и до остальных, сэр, – чуть слышно проговорила Нелл, не глядя на него.
Само по себе это как будто ничего не значило и могло объясняться чистой случайностью или же бессознательной любовью Нелл ко всему юному. Но старика, не замечавшего раньше, чьи могилы они убирают, поразили слова бакалавра. Он быстро оглядел кладбище, потом перевел взор на внучку, привлек ее к себе и стал уговаривать, чтобы она отдохнула. Какие-то давно забытые мысли шевельнулись у него в мозгу. Они не исчезали, подобно многим другим, может быть, более тяжелым, но появлялись снова и слова и весь этот день и следующий. Как-то раз, когда они вместе были на кладбище, Нелл заметила, что дед поминутно бросает на нее тревожные взгляды, точно борясь с какими-то мучительными сомнениями или стараясь сосредоточиться на какой-то мысли, и спросила, что с ним. Но он ответил: «Нет, ничего», – и, прижав внучку к груди, стал гладить ее бледные щеки и приговаривать вполголоса, что его Нелл день ото дня крепнет, набирается сил и скоро будет совсем взрослой девушкой.
Глава LV
С той поры старик был полон неустанных забот о внучке, и думы о ней не покидали его ни на минуту. Есть струны в сердце человека – неожиданные, странные, которые вынуждает зазвучать иной раз чистая случайность; струны, которые долго молчат, не отзываясь на призывы самые горячие, самые пылкие, и вдруг дрогнут от непреднамеренного легкого прикосновения. В умах самых косных или по-детски неразвитых спят мысли, и, пожалуй, никакое уменье, никакая опытность не вызовут их к жизни, если они не проявятся сами, подобно тем великим истинам, что ненароком открываются исследователю, когда он ставит перед собой наиболее ясную и наиболее простую цель. С той поры старик уже не забывал о беззаветной преданности внучки, стоившей ей стольких сил. В тот день, отмеченный, казалось бы, таким незначительным событием, он, мирившийся раньше с тем, что девочка терпит лишения и невзгоды, он, видевший в ней лишь товарища по злоключениям, которые заставляли его сокрушаться над своей долей не меньше, чем над долей внучки, – в тот день он понял, скольким обязан ей, понял, до чего страдания довели ее! И с тех пор и до самого конца ни разу, ни единого разу не отвлекся он себялюбивыми заботами и попечениями о собственном благополучии от мыслей о дорогом ему существе.
Он ходил за ней всюду, дожидаясь, когда она захочет отдохнуть, опершись на его руку; он сидел в уголке у камина, не сводя с нее глаз, ловя миг, когда она поднимет голову и улыбнется ему, как встарь; он выполнял тайком ту несложную работу по дому, которая так утомляла ее; он вставал холодными, темными ночами и мог подолгу сидеть, сгорбившись, у ее кровати, держа ее руку в своей, прислушиваясь к ее сонному дыханию. И лишь тот, кому ведомо все, знал, какая горячая любовь, какие надежды и опасения таились в расстроенном уме несчастного старика и какая перемена произошла в нем за эти дни.
Недели бежали одна за другой, и слабеющая девочка иногда проводила целые вечера, на кушетке у камина, хотя теперь ничто не утомляло ее. Учитель приносил книги и читал ей вслух, и редкий вечер проходил без того, чтобы бакалавр не заглянул к ним и не сменил чтеца. Старик сидел тут же и слушал, плохо улавливая смысл повествования, но не отрывая взгляда от девочки, и когда на губах ее появлялась улыбка, лицо светлело, он хвалил прочитанное и проникался нежным чувством даже к самой книге. Если же бакалавр начинал рассказывать что-нибудь и рассказ его забавлял девочку (впрочем, иначе не могло и быть), старик мучительно старался запомнить каждое слово, а иной раз украдкой выходил за бакалавром и смиренно просил повторить то или иное место, чтобы получше сохранить его в памяти и заслужить потом улыбку Нелл.
Но, к счастью, такие вечера были редкостью, потому что девочка стремилась на воздух, в свой торжественно тихий сад. Ей приходилось также водить посетителей, приезжавших осматривать церковь. И те, кто побывал здесь, рассказывали другим о юной привратнице, и эти рассказы привлекали сюда все больше и больше народу, так что даже в это время года в деревню почти каждый день наезжали гости. Старик следовал за ними поодаль, прислушиваясь к дорогому ему голосу, а когда посетители, простившись с Нелли, выходили из церкви, подступал к ним поближе или стоял с непокрытой головой у калитки, ловя обрывки их разговоров.
Все хвалили девочку за ее ум и красоту. И как же старик гордился внучкой! Но что же эти посторонние люди часто добавляли к своим похвалам, разрывая ему сердце на части, почему он так горько плакал, забившись куда-нибудь в темный угол? Увы! Даже посторонние, те, кто любовался ею лишь минуту и, уехав отсюда, на другой же день забывал о ее существовании, – даже они видели это, даже они скорбели о ней, даже они сочувственно прощались со стариком и, уходя, перешептывались между собой.
И жители деревушки, среди которых не было ни одного, кто не успел бы полюбить бедняжку Нелл, относились к ней так же: с нежностью, с сочувствием, возраставшим со дня на день. Даже школьники – беспечные, легкомысленные школьники – души не чаяли в этой девочке. Самые озорные из них вешали нос, если им не удавалось повстречать Нелл по дороге в школу, и сворачивали с пути, чтобы справиться о ней у решетчатого окошка. И когда Нелл сидела в церкви, они, случалось, осторожно заглядывали в отворенные двери, но никогда не заговаривали с ней первые, а дожидались, пока она сама не выйдет к ним. В этой девочке чувствовалось что-то такое, что поднимало ее надо всеми.
И каждое воскресенье повторялось одно и то же. Здешние прихожане были все из бедных поселян, так как в замке, давно превратившемся в развалины, никто не жил и на семь миль кругом стояли только скромные деревушки. В церкви, в дни служб, Нелл привлекала к себе всеобщее внимание. На паперти вокруг девочки собиралась толпа; дети цеплялись за ее платье; старики и старухи ласково здоровались с ней, отвлекаясь от своих пересудов. Все они, и стар и млад, считали своим долгом обратиться к девочке с дружеским словом привета. Многие, кто жил мили за три, за четыре отсюда, приносили ей маленькие подарки; те, кто был победнее, попроще, ограничивались добрыми пожеланиями.
Нелл разыскала детей, игравших на кладбище в тот день, когда она впервые посетила его. Мальчик, который рассказывал о своем брате, особенно полюбился ей, и они часто сидели рядышком в церкви или поднимались вдвоем на колокольню. Мальчик помогал ей всем, чем мог, – во всяком случае так ему думалось, – и вскоре между ними завязалась крепкая дружба.
Как-то днем, когда Нелл сидела на своем обычном месте в церкви, погруженная в чтение, этот малыш прибежал туда весь в слезах, положил ей руки на плечи, минуту пристально смотрел на нее, потом вдруг порывисто обнял за шею.
– Что с тобой? – спросила Нелл, гладя его по голове. – Что случилось?
– Она еще не такая! – крикнул мальчик и прижался к ней еще теснее. – Не такая! Нет, нет!
Девочка с изумлением посмотрела на него, откинула ему волосы со лба и, целуя, спросила, что все это значит.
– Не уходи к ним, Нелли! – взмолился мальчик. Их никто не видит. Они не могут ни поиграть, ни поговорить с нами. – Оставайся такой, как есть! Такая ты лучше!
– Я не понимаю тебя, – сказала девочка. – Объясни.
– Все говорят, – начал он, заглядывая ей в глаза, – будто ты станешь ангелом, прежде чем птицы опять запоют весной. Скажи! Ведь это неправда! Нелл, не уходи от нас! Я знаю, там, на небе, так светло, но все равно, не уходи, не уходи туда!
Девочка поникла головой и закрыла лицо руками.
– Она сама не хочет! – сквозь слезы радостно воскликнул мальчик. – Ты никуда не уйдешь! Ты же знаешь, как мы будем жалеть тебя! Скажи, что останешься с нами, Нелл! Скажи, скажи!
Он молитвенно сложил руки и опустился перед ней на колени.
– Посмотри на меня, Нелл! Скажи, что не уйдешь! Тогда я буду знать, что это все неправда, и перестану плакать. Скажи «да», Нелл!
Но голова девочки была по-прежнему опущена, лицо закрыто ладонями – она молчала… слышались только ее рыдания.
– Добрые ангелы будут рады, что ты не ушла к ним, а осталась среди нас, – снова заговорил мальчик, пытаясь завладеть ее руками. – Вилли ушел туда, но он никогда бы так не сделал, если б знал, как мне скучно без него в нашей кроватке.
И все же девочка не могла вымолвить ни слова ему в ответ и плакала так, будто сердце у нее разрывалось на части.
– Зачем тебе уходить, Нелл? Ты же сама будешь горевать, когда услышишь, что мы плачем здесь. Все говорят, будто Вилли теперь на небе и будто там вечное лето, но я-то знаю, как ему грустно, когда я ложусь на его могилку, а он не может поцеловать меня. Если ты все-таки уйдешь, Нелл, – он прижался к ней щекой и погладил ее по лицу, – будь ласкова с ним, ради меня. Скажи ему, что я люблю его по-прежнему, скажи, как я любил тебя. И если вам будет хорошо там вдвоем, я постараюсь не плакать и никогда ничем не огорчу вас.
Наконец он отвел ее руки от лица и обвил ими свою шею. Наступило молчание, оба они плакали; но вот Нелл улыбнулась ему и тихим, мягким голосом сказала, что никуда не уйдет и останется его другом, до тех пор пока господь позволит им быть вместе. Он радостно захлопал в ладоши, повторяя: «Спасибо, спасибо, Нелл!» – и когда она попросила его молчать о том, что произошло между ними, твердо пообещал никому ничего не рассказывать.
И, насколько девочка знала, он исполнил свое обещание и, став с тех пор ее неизменным спутником во всех прогулках, молчаливым свидетелем ее раздумий, не напоминал ни единым словом о том разговоре, который, как он чувствовал, почему-то причинил ей боль. Но сомнения все-таки не покидали его, и он часто приходил к дому Нелл даже темными вечерами, не переступая порога, робко справлялся о ней, а когда ему предлагали войти, садился на низенькую скамейку у ее ног и сидел тихо-тихо до тех пор, пока за ним не прибегали из дому. Спозаранку он уже появлялся у ее окошка и спрашивал, здорова ли она, и потом с утра до вечера ходил за ней по пятам, забывая и товарищей и свои игры с ними.
– Верный у тебя дружок, – сказал ей как-то кладбищенский сторож. – А как он убивался, когда у него помер старший брат… Старший! Чудно и называть так семилетнего малыша!
Девочка вспомнила свой разговор с учителем и почувствовала, что правда, заключавшаяся в его словах, осеняет и этого ребенка.
– С тех пор он хоть иной раз и развеселится, а все больше тихий, смирный, – продолжал сторож. – Бьюсь об заклад, что вы с ним уже побывали у старого колодца!
– Нет, – ответила девочка. – Мне незнакома та часть церкви, я боюсь и близко туда подходить.
– Пойдем со мной, – сказал он. – Я там с малых лет все знаю. Пойдем!
Они сошли по узкой лестнице в подземелье и остановились под его мрачными темными сводами.
– Вот это место, – сказал сторож. – Ну-ка, открой крышку да держись за меня, не то упадешь. Мне самому трудно нагибаться – годы не позволяют… то есть не годы, а ревматизм.
– Как здесь темно и страшно! – воскликнула девочка.
– А ты туда посмотри, – сказал старик, показывая вниз.
Девочка заглянула в колодец.
– Будто могила, – сказал старик.
– Да… могила, – ответила девочка.
– По-моему, он только для того и был вырыт, чтобы здесь стало еще страшнее и чтобы монахи усерднее молились богу. Скоро его закроют наглухо, замуруют.
Девочка стояла, задумчиво глядя в глубь колодца.
– Посмотрим, чьи беззаботные головы покроет земля к тому времени, когда здесь будет непроглядная тьма. Замуруют его… будущей весной.







