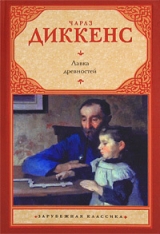
Текст книги "Лавка древностей"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)
Наконец, когда они сыграли подряд много робберов и осушили чуть ли не всю флягу, мистер Квилп посоветовал своей супруге идти спать. После того как она покорно удалилась в сопровождении своей негодующей матушки, мистер Свивеллер немедленно задремал. Тогда карлик знаком пригласил своего бодрствующего гостя перейти в дальний конец комнаты, и между ними произошел следующий разговор: – В присутствии нашего достойного друга особенно распространяться не следует, – прошептал Квилп, скорчив гримасу по адресу мирно почивающего Дика. – Итак, по рукам, Фред? Женим его на нашем бутончике, на нашей маленькой Нелл?
– У вас, конечно, что-то свое на уме, – сказал молодой человек.
– Разумеется, мой дорогой Фред! – сказал Квилп и ухмыльнулся при мысли о том, что Трент даже не подозревает, что у него на уме. – Может, я свожу старые счеты, может, потворствую своей прихоти. Мое вмешательство способно помочь вам, способно и все погубить. Вот две чашки весов – и оно ляжет на одну из них. Как же мне действовать, Фред?
– Хорошо, кладите на мою, – сказал Трент.
– Идет! – шепнул Квилп и, протянув над столом стиснутую в кулак руку, тут же разжал ее, словно выронив какую-то тяжесть. – Отныне ваша чашка тянет вниз, Фред. Запомните это!
– Куда они ушли? – спросил Трент.
Квилп покачал головой и сказал, что это еще следует выяснить, но особых затруднений тут не предвидится. Приниматься за дело надо сразу же, как только беглецов найдут. Он навестит их сам или же пошлет вместо себя Ричарда Свивеллера, а Ричард проявит горячее участие к судьбе старика и станет умолять его поселиться где-нибудь у хороших людей. Нелл восчувствует все это, проникнется к нему благодарностью, и через год-другой ее нетрудно будет образумить, тем более что она считает деда бедняком, ибо он таким прикидывается, как многие скряги, которые строят на этом свои хитрые расчеты.
– Последнее время он и передо мной прикидывался, – сказал Трент.
– А передо мной, думаете, нет? – подхватил карлик. – И это совсем странно, потому что я-то ведь знаю, какой он богач.
– Да, уж вам-то следует это знать, – сказал Трент.
– Ну еще бы! – сказал карлик, и на сей раз не солгал.
Они пошептались еще немного, потом вернулись к столу, и, разбудив Ричарда Свивеллера, Трент заявил ему, что им пора уходить.
Это известие очень обрадовало Дика, и он сразу же встал из-за стола. Выразив напоследок уверенность к успехе своего деда, друзья простились с ухмыляющимся Квилпом.
Квилп подкрался к окну и прислушался. Проходя мимо дома, Трент возносил хвалы миссис Квилп, и оба друга удивлялись, чем ее мог прельстить такой урод, что она вышла за него замуж. Карлик проводил глазами их удаляющиеся тени, улыбаясь такой широкой улыбкой, какой еще не видано было на его физиономии, и тихо шмыгнул в темноте к кровати.
Строя козни против бедной, ни в чем не повинной Нелл, Квилп и Трент меньше всего думали о том, что это принесет ей – счастье или горе. Так разве удивительно, что подобные мысли не тревожили легкомысленного повесу, который был игрушкой в их руках и, будучи весьма высокого мнения о своих достоинствах и заслугах, не только не видел ничего предосудительного в этой затее, но даже считал ее весьма похвальной. Если же к нему бы и пожаловал такой редкий гость, как размышление, повеса этот – существо беспардонное лишь в тех случаях, когда дело касалось удовлетворения его аппетитов, – успокоил бы свою совесть тем, что он не собирается ни бить, ни убивать жену и в конечном счете будет самым обычным сносным мужем, каких много на белом свете.
Глава XXIV
Старик и девочка лишь тогда решились остановиться и отдохнуть у опушки небольшого леска, когда совсем выбились из сил и уже не могли бежать. Ипподром скрылся у них из глаз, хотя отдаленные крики, гул голосов и барабанная дробь доносились и сюда. Поднявшись на холм, отделявший их от того места, которое они только что покинули, девочка разглядела вдали флажки, трепыхавшиеся на ветру, и белые навесы балаганов, но здесь, на опушке, стояла полная тишина и вокруг не было ни души.
Ей не сразу удалось успокоить своего дрожащего спутника и хоть сколько-нибудь рассеять его тревогу. Больное воображение рисовало ему преследователей, подкрадывающихся к ним из-за кустов, прячущихся в каждой канаве, выглядывающих из-за ветвей каждого дерева. Он ждал, что его вот-вот схватят и бросят в мрачное подземелье, посадят там на цепь, будут бить плетьми и, что страшнее всего, разлучат с Нелли, а если позволят им видеться, то лишь через железную решетку. Его волнение передалось и девочке. Она ничего так не боялась, как разлуки с дедом, и теперь, думая, что их настигнут всюду, куда бы они ни пошли, и что им надо будет вечно скрываться, совсем пала духом и затосковала.
Чего же другого можно было ждать от существа столь юного и неприспособленного к жизни, которую ему пришлось вести последнее время? Но природа часто вкладывает благородное и отважное сердце в слабую грудь чаще всего, к счастью, в грудь женщин. И когда Нелл, обратив свои полные слез глаза на старика, вспомнила, как он слаб, и представила, какой он будет несчастный и беспомощный без ее поддержки, сердце у нее забилось быстрее, и она почувствовала прилив новых сил, нового мужества.
– Дедушка, милый, нам теперь ничто не грозит, нам ничто не страшно! – сказала она.
– Ничто не страшно? – повторил старик. – Не страшно, что тебя отнимут у меня? Не страшно, что нас могут разлучить? Все от меня отступились! Все, все! Даже Нелл!
– Не надо так говорить! – воскликнула девочка. – Если кто предан тебе всей душой, всем сердцем, так это я! И ты это знаешь.
– Так зачем же ты говоришь, – забормотал он, испуганно озираясь по сторонам, – зачем ты говоришь, что нам ничто не грозит? Ведь меня ищут повсюду, могут и сюда прийти, сейчас, сию минуту. Подкрадутся и схватят!
– Никто за нами не гонится, – сказала девочка. – Ты посмотри сам! Оглянись – видишь, как здесь тихо и мирно? Мы с тобой одни и можем идти, куда нам вздумается. Чего ты боишься? Неужели я могла бы сидеть спокойно, если бы тебе грозила опасность? Разве так бывало раньше?
– Правда, правда, – ответил он, сжимая ей руку, но все еще с тревогой оглядываясь назад. – Что это?
– Птица, – сказала девочка. – Она улетела в лес и показывает нам дорогу. Помнишь, мы говорили, что пойдем бродить по лесам, полям и вдоль рек и как нам будет хорошо? Ты помнишь это? А сейчас, когда солнце светит у нас над головой и вокруг так привольно, так весело, мы сидим печальные и теряем золотое время. Посмотри, какая чудесная тропинка! А вон опять та самая птица! Вот она порхнула на другое дерево и сейчас запоет. Пойдем!
Они поднялись с земли, и Нелл побежала по тенистой тропинке в глубь леса, оставляя отпечатки своих маленьких ножек на упругом мху; но он недолго хранил следы этих легких прикосновений, таявших на нем, словно дыхание на зеркале. Нелл то увлекала за собой старика, оглядываясь на него и весело кивая ему или показывая украдкой на какую-нибудь птицу, которая весело щебетала и покачивалась на ветке, протянувшейся над тропинкой; то вдруг замирала и прислушивалась к пению, нарушавшему блаженную тишину леса, или смотрела, как солнечные лучи дрожат на листве и, пробираясь между увитыми плющом стволами старых деревьев, прокладывают на траве длинные полосы. Они шли все дальше и дальше, раздвигая заслонявшие им путь ветки, и спокойствие, которое сначала было притворным, действительно снизошло на сердце девочки. Старик тоже передал бросать по сторонам испуганные взгляды и повеселел, ибо чем глубже проникали они в густую зеленую сень, тем больше чувствовали здесь светлый разум творца, вселявшего мир в их души.
Но вот тропинка, перестав петлять и кружить, ясно обозначилась в траве и, наконец, вывела их из леса на широкую дорогу. Они прошли по ней шагов сто и свернули на узкий проселок, так густо обсаженный деревьями, что их ветви переплелись между собой, образуя вверху зеленый свод. Покосившийся столб на перекрестке указывал дорогу в деревню, до которой было три мили, и они решили идти туда.
Эти последние три мили тянулись так долго, что им стало боязно, уж не заплутались ли они. Но вот, к великой их радости, проселок круто пошел под гору между двумя откосами, по которым были протоптаны тропинки, и внизу, в лощине, замелькали среди деревьев домики.
Деревушка была совсем маленькая. На ее зеленой лужайке молодежь и ребятишки играли в крикет, а так как посмотреть на игру сошлись и все взрослые, Нелл с дедом долго бродили мимо опустевших домов, не зная, где можно будет попроситься переночевать. На глаза им попался только один старичок, который сидел у себя в саду, но к нему они постеснялись подойти, потому что он был здешний учитель и над окном его дома висела белая доска с надписью черными буквами «Школа». Старичок этот, бледный, очень скромно одетый и простой с виду, сидел среди цветов и ульев и курил трубку.
– Заговори с ним, Нелл, – шепнул ей дед.
– Я боюсь помешать ему, – робко сказала она. – Он нас не видит. Давай подождем немного, может он посмотрит в нашу сторону.
Они стали ждать, но учитель, погруженный в задумчивость, так и не взглянул на них. Поношенный черный сюртук подчеркивал худобу и бледность его лица, такого доброго. И какое одиночество чувствовалось и в этом доме и в его хозяине! Может быть, потому, что все жители деревушки веселились на лужайке, а он сидел здесь один.
Они оба так устали, что Нелл не побоялась бы заговорить даже со школьным учителем, если бы он не казался ей таким встревоженным и грустным. Они стояли в нерешительности возле его дома, а он, вдруг очнувшись от своего тяжелого раздумья, отложил трубку в сторону, прошелся взад и вперед по саду, остановился у калитки, посмотрел на лужайку, потом снова со вздохом взялся за трубку и снова сел на прежнее место.
Поблизости никого больше не было, начинало темнеть и Нелл, набравшись храбрости, взяла деда за руку и подошла с ним к калитке. Щеколда звякнула, учитель встрепенулся. В его взгляде, хоть и ласковом, мелькнуло разочарование, и он чуть заметно покачал головой.
Низко присев, Нелл сказала, что они бедные путники, ищут, где бы переночевать, и с радостью заплатят за это сколько могут. Учитель внимательно выслушал ее, положил трубку на скамью и встал.
– Если бы вы нам посоветовали, сэр, куда обратиться, – продолжала девочка, – мы были бы очень благодарны вам.
– Вы, наверно, издалека? – спросил учитель.
– Издалека, сэр, – ответила она.
– Ты еще маленькая, чтобы пускаться в такие путешествия, – сказал он, ласково погладив ее по голове. – Это ваша внучка, друг мой?
– Да, сэр! – воскликнул старик. – Единственное мое утешение, единственная опора в жизни!
– Войдите, – сказал учитель.
Не тратя лишних слов, он ввел их в маленькую классную комнату, которая в то же время служила ему и гостиной и кухней, и предложил им переночевать у него. Старик и девочка не успели толком поблагодарить своего радушного хозяина, как он накрыл стол простой белой скатертью, положил вилки и ножи и, достав из шкафчика хлеб, холодную говядину и кувшин с пивом, усадил их ужинать.
Сев к столу, девочка оглядела комнату. Посреди нее стояли две длинные скамьи, вдоль и поперек изрезанные, исструганные перочинными ножами и залитые чернилами; перед ними небольшой сосновый столик на четырех тонких ножках – вероятно, место учителя. На высоко прибитой полке лежало несколько затрепанных книжек, а рядом целая коллекция сокровищ, отобранных у шалунов: волчки, мячи, воздушные змеи, лески, шарики и надкусанные яблоки. На двух крючках, внушая ужас своим видом, висела палка и линейка, а на маленькой полочке, тут же по соседству, торчал дурацкий колпак из старой газеты с налепленными на нем цветными кружками. Но лучшим украшением комнаты были расклеенные повсюду нравоучительные прописи, выведенные аккуратным круглым почерком, и столбики сложения и умножения, написанные, видимо, той же рукой. Вывешивая эти таблицы, учитель, по всей вероятности, преследовал двойную цель: они должны были свидетельствовать о достоинствах школы и пробуждать дух соревнования в школьниках.
– Да, дитя мое, – сказал он, заметив, что Нелл загляделась на прописи. – Красивый почерк, есть чем полюбоваться.
– Очень красивый, сэр, – скромно отозвалась девочка. – Это ваша рука?
– Моя? – воскликнул он, надевая очки, чтобы получше рассмотреть эти дорогие его сердцу образцы высокого искусства. – Где мне! Разве я теперь так смогу! Нет! Это все написано одной рукой, очень твердой рукой, хоть она и меньше твоей.
Говоря это, учитель вдруг заметил на одной из прописей крохотную кляксу. Он вынул из кармана перочинный ножик, подошел к стене и старательно выскреб пятнышко. Потом медленно отступил назад, любуясь прописью издали, словно это была прекрасная картина, и продолжал с грустью, которая тронула девочку, хотя она и не знала, чем ее объяснить.
– У него маленькая рука, совсем маленькая. Он опередил всех своих товарищей и в ученье и в играх. Такой умница! Почему же он привязался ко мне? В том, что я полюбил его всем сердцем, нет ничего удивительного, но за что он любит меня? – Учитель замолчал и, сняв очки, протер их, как будто они вдруг запотели.
– С ним что-нибудь случилось, сэр? – встревожилась Нелл.
– Да нет, дитя мое, – ответил бедный учитель. – Я надеялся увидеть его сегодня вечером на лужайке. Ведь он первый зачинщик всех игр. Ну, ничего, увижу завтра.
– Он болен? – спросила девочка, жалостливая, как все дети.
– Да, что-то захворал. Говорят, будто он, бедняжка, бредит уже второй день. Но при лихорадке всегда так бывает. Это не опасно, совсем не опасно.
Девочка примолкла. Учитель подошел к порогу и грустно посмотрел на улицу. Вечерние тени сгущались, кругом стояла тишина.
– Если б его кто-нибудь довел сюда, он навестил бы меня и сегодня, – сказал учитель, отходя от двери. – Бывало, всегда прибегал в сад пожелать мне спокойной ночи. Но, может быть, в болезни наступил перелом, а время сейчас позднее, роса выпала, сыро… Нет, сегодня ему лучше не приходить.
Учитель зажег свечу, притворил ставни на окнах, запер дверь и несколько минут сидел молча, потом вдруг снял шляпу с гвоздя и сказал, что пойдет проведать больного, если Нелл не ляжет до его возвращения. Девочка охотно на это согласилась, и он ушел.
Она ждала его с полчаса, а может и больше, чувствуя себя такой одинокой в чужом доме, потому что дед, послушавшись ее уговоров, лег спать, и единственные звуки, которые нарушали тишину в комнате, были тиканье старинных часов да шелест листьев на ветру. Наконец учитель вернулся, сел к очагу и долго молчал. Потом взглянул на девочку и тихо попросил ее помолиться перед сном за больного ребенка.
– Мой любимый ученик! – сказал он, посасывая трубку, в которой не было огня, и с тоской обводя глазами стены. – Какая маленькая рука написала все это и как она истаяла за время болезни. Маленькая, совсем маленькая рука!
Глава XXV
Сладко выспавшись в каморке под самой крышей, где несколько лет подряд квартировал церковный сторож, обзаведшийся недавно женой и собственным домом, девочка встала рано утром и спустилась в комнату, в которой они ужинали накануне. Учителя, проснувшегося еще раньше, уже не было дома, и, воспользовавшись этим, она занялась уборкой, а когда их радушный хозяин вернулся, в комнате было чисто и уютно.
Он ласково поблагодарил девочку и сказал, что обычно у него прибирает одна старушка, но сегодня она ухаживает за больным школьником, о котором у них шла речь вчера. Нелл спросила, как он себя чувствует, не полегчало ли ему?
– Нет, – ответил учитель, грустно покачав годовой. – Не только не полегчало, но, говорят, стало хуже за ночь.
– Мне очень жаль этого мальчика, сэр, – сказала Нелл.
Ее искреннее сочувствие было приятно бедному учителю, и вместе с тем оно, видимо, встревожило его еще больше, так как он поспешил сказать, что люди часто преувеличивают и видят опасность там, где ее нет. Потом добавил тихим, спокойным голосом: – А я им не верю. Не должно этого быть, чтобы ему стало хуже.
Девочка попросила у него разрешения приготовить завтрак, и, когда дед ее сошел вниз, они все втроем сели за стол. Внимательно присмотревшись к старику, их хозяин заметил, какой у него усталый вид, и сказал, что ему не мешает отдохнуть как следует.
– Если вам предстоит далекий путь и вы не боитесь задержаться на лишний день, переночуйте у меня еще одну ночь. Я буду этому очень рад, друг мой.
Он увидел, что старик смотрит на внучку, не зная, согласиться ему или ответить отказом, и добавил: – Мне очень бы хотелось подольше побыть с вашей маленькой спутницей. Окажите эту милость одинокому человеку, а заодно отдохните и сами. Если же вы торопитесь, я пожелаю вам доброго пути и провожу вас немного до начала уроков.
– Как нам быть, Нелл? – растерянно проговорил старик. – Скажи, дорогая, как нам быть?
Девочка сразу согласилась остаться – ее не пришлось долго уговаривать – и, чтобы отблагодарить доброго учителя, принялась наводить порядок в его маленьком доме. Покончив с делами, она вынула из своей корзинки шитье и села на табуретку у окна, сквозь решетку которого в комнату пробивались нежные плети жимолости и повилики. Старик грелся на солнце в саду, вдыхая аромат цветов и бездумно следя за облаками, плывшими в небе с легким попутным ветерком.
Когда учитель, поставив обе скамьи на место, сел за свой стол и занялся приготовлениями к урокам, девочка собралась к себе наверх, боясь помешать здесь. Но он не позволил ей уйти, и, чувствуя, что ее присутствие приятно ему, она осталась и снова принялась за шитье.
– У вас много учеников, сэр? – спросила она. Учитель покачал головой и сказал, что они вполне умещаются на двух скамьях.
Нелл поглядела на прописи, расклеенные по стенам.
– А другие мальчики тоже хорошо учатся?
– Ничего, – ответил учитель, – неплохо, но разве кто из них так напишет?
Не успел он договорить, как в дверях появился загорелый белобрысый мальчуган. Отвесив неуклюжий поклон учителю, белобрысый вошел, уселся на скамью, положил на колени раскрытую книжку, до такой степени истрепанную, что можно было диву даться, на нее глядя, сунул руки в карманы и начал пересчитывать громыхавшие там шарики, выражая всем своим видом поразительную способность полного отрешения от страниц букваря, на который были устремлены его глаза. Вскоре в класс приплелся еще один белобрысый мальчуган, а следом за ним рыжий – постарше, а следом за рыжим еще двое белобрысых, потом еще один с шевелюрой, светлой, как лен, и так продолжалось до тех пор, пока на обеих скамьях не набралось человек десять, причем волосы у этих школяров были всех цветов и оттенков, кроме седого, а в возрасте они колебались, видимо, от четырех до четырнадцати – пятнадцати лет, так как самый младший, сидя на скамье, не доставал ногами до полу, а самый старший – добродушный, глуповатый увалень – был на полголовы выше учителя.
Крайнее место на передней скамье – почетное в школе – пустовало, потому что обычно на нем сидел заболевший мальчик; крайний из колышков, на которые вешались картузы и шапки, тоже был свободен. Никто не решался совершить святотатство и посягнуть на это место и на этот колышек, но школьники то и дело переводили с них взгляд на учителя и, прикрываясь ладонью, перешептывались между собой.
Но вот послышалось жужжанье десятка голосов, началась зубрежка, начались шалости и смешки – все как полагается в школе. И посреди этого гомона бедный учитель – олицетворение кротости и простодушия – тщетно пытался сосредоточиться на занятиях и забыть своего маленького друга. Скучный урок еще сильнее заставлял его тосковать о прилежном ученике, и он уносился мыслями далеко за порог класса.
Скорее всех это поняли самые отъявленные лентяи и, почувствовав, что им ничто не грозит, совсем перестали стесняться. Они играли в чет и нечет под самым носом у бедного учителя, совершенно открыто и безнаказанно грызли яблоки, шутя, а то и со злости щипали соседей или вырезали свои имена ни больше ни меньше как на ножках учительского столика. Тупица, вызванный отвечать урок, не трудился искать забытые слова на потолке, а без зазрения совести заглядывал в книжку, подступив вплотную к учителю. Мальчуган, пользующийся в этой компании заслуженной славой потешника, косил глазами, корчил рожи (конечно, малышам) и даже не считал нужным прикрываться букварем, а восхищенные зрители безудержно предавались восторгу. Когда учитель пробуждался от своего оцепенения и замечал, что творится вокруг, шалуны на минуту стихали, и на него устремлялись самые серьезные, самые скромные взгляды, но стоило ему уйти в себя, как шум поднимался снова с удесятеренной силой.
О, как хотелось этим лентяям вырваться на волю! С какой жадностью смотрели они в открытую дверь и в окно, готовые броситься вон из класса, убежать в лес и превратиться отныне и на всю жизнь в дикарей. Какие крамольные мысли о прохладной реке, о купанье под тенистой ивой, окунувшей свои ветви в воду, искушали и мучили вон того крепыша, который сидел с расстегнутым и распахнутым, насколько возможно, воротом, обмахивал пылающее лицо книжкой и думал, что лучше быть китом, корюшкой, мухой – чем угодно, только не школьником, обязанным маяться на уроке в такой знойный, душный день. Жарко! Спросите другого мальчика, хотя бы вон того, который доводит своих товарищей до исступления, потому что он сидит ближе всех к двери и, пользуясь этим, то и дело шмыгает в сад, окунает лицо в ведро с колодезной водой и катается по траве, – спросите его, часто ли бывают такие дни, как сегодняшний, когда пчелы и те забираются в самую сердцевину цветка и не выползают оттуда, видимо решив почить от трудов и покончить с изготовлением меда. Такие дни созданы для безделья, для того, чтобы лежать на спине в зеленой траве и смотреть в небо до тех пор, пока его слепящая голубизна не заставит сомкнуть веки и задремать. Время ли сейчас корпеть над истрепанным букварем в сумрачном классе, куда солнце даже не заглядывает? Чудовищно!
Нелл шила у окна и в то же время внимательно прислушивалась ко всему, что делалось в классе, немного побаиваясь в душе этих шумливых озорников. Первый урок кончился, началось чистописание, и так как в классе был всего один стол – учительский, мальчики по очереди садились за него и выводили каракули на грифельных досках, а учитель тем временем ходил из угла в угол. Теперь шум немного утих, потому что учитель то и дело останавливался, заглядывал пишущему через плечо, а потом показывал ему, как красива та или иная буква в прописях, развешанных по стенам, хвалил тут волосную линию, там нажим и мягко советовал взять это за образец. И он вдруг умолкал и через минуту начинал рассказывать школьникам об их больном товарище, о том, что мальчик говорил вчера и как ему хотелось снова быть вместе с ними. В голосе его слышалась такая ласка и нежность, что этим сорванцам становилось стыдно своих шалостей, и они сидели смирно – не ели яблок, не гримасничали – по крайней мере две минуты подряд.
– Знаете, мальчики, – сказал учитель, когда часы пробили двенадцать, – сегодня я, пожалуй, отпущу вас пораньше.
Услышав эту весть, школьники подняли оглушительный крик по команде рослого увальня, и учитель несколько секунд беззвучно шевелил губами, пытаясь договорить. Наконец он замахал рукой, призывая крикунов к молчанию, и они были так деликатны, что замолчали, однако не раньше, чем самый горластый из них окончательно осип и лишился голоса.
– Только сначала обещайте мне не шуметь, – продолжал учитель, – а если уж без этого нельзя, уйдите подальше, куда-нибудь за деревню. Я уверен, что вы не захотите беспокоить своего одноклассника и товарища по играм.
Ему ответили дружным «нет! нет!» (и, вероятно, искренне, ведь они были еще дети), а рослый увалень (тоже вполне искренне) призвал всех в свидетели, что он кричал совсем шепотом.
– Так вот, дорогие мои ученики, – сказал учитель, – не забывайте, о чем я вас просил, сделайте это ради меня. Веселитесь и благодарите создателя, что он наградил вас здоровьем. Прощайте!
– Благодарим вас, сэр! До свиданья, сэр! – послышалось на разные голоса, и мальчики чинно и тихо вышли из школы. Но солнце светило и птицы пели так, как светит солнце и как поют птицы только по праздникам особенно по неожиданным. Деревья манили залезть на них и спрятаться среди густой листвы; сено само приглашало раскидать его по лугу; колеблемая ветром нива указывала путь к лесу и реке; мягкая мурава, по которой перемежались тени и пятна света, так и подмывала на беготню, прыжки и прогулки бог знает в какую даль. Ни один мальчик не мог бы смотреть на все это равнодушно, и школьники с радостным воплем гурьбой сорвались с места и разбежались кто куда, хохоча и перекликаясь друг с другом на бегу.
– Что же, так оно и должно быть, – сказал бедный учитель, глядя им вслед. – Я очень рад, что они не послушались меня.
Но, как известно, на всех не угодишь, – эту истину мы часто познаем на собственном опыте и без помощи басни, которая заключается такой моралью. И к учителю весь день приходили маменьки и тетушки, выражавшие крайнее неудовольствие его поступком. Некоторые из них ограничивались намеками и вежливо осведомлялись, какой сегодня праздник по календарю. Другие (местные мудрецы-политики) доказывали, что отпускать с уроков во всякий иной день, кроме дня рождения его королевского величества, равносильно оскорблению трона, неуважению к церкви и государству и отдает крамолой. Но большинство, осуждая учителя, переходило на личности и совершенно открыто заявляло, что изучение наук такими скромными дозами – чистейшее надувательство и разбой среди бела дня, а одна старушка, которой не удалось ни взволновать, ни рассердить кроткого учителя своими попреками, выскочила на улицу и в течение получаса попрекала его заглазно, но во всеуслышание, под окном школы, втолковывая другой старушке, что он, конечно, сам предложит, чтобы у него высчитали за эти полдня из недельного жалованья, а иначе с ним никто и знаться не будет. Бездельников у нас хоть отбавляй (тут она повысила голос), есть и такие, которые даже в учителя не годятся; так вот, пусть глядят в оба, небось найдутся охотники на их место. Но все эти нарекания и шпильки не исторгли ни единого слова из уст незлобивого учителя, который сидел рядом с Нелли молча, ни на кого не жалуясь, и, пожалуй, был только грустнее обычного.
Вечером в садике послышались торопливые шаги, и пожилая соседка, столкнувшись с учителем в дверях, сказала ему, чтобы он шел к матушке Уэст – и поскорее, не дожидаясь ее. Учитель как раз собрался погулять с Нелли, и, не отпуская руки девочки, он быстро зашагал по улице, а соседка заковыляла за ними следом.
Подойдя к небольшому домику, учитель осторожно постучал в дверь. Ее тут же отворили. Они вошли и увидели женщин, окружавших дряхлую старуху, которая сидела на стуле и горько плакала, ломая руки и раскачиваясь взад и вперед.
– Матушка Уэст! – воскликнул учитель, подходя к пей. – Неужели ему так плохо?
– Кончается мой внучек! – простонала она. – Отходит! И все вы виноваты! Я не пустила бы вас к нему, да уж очень он просил. Вот до чего ученье доводит! О господи, господи! Что мне теперь делать?
– Матушка Уэст, не вините меня, – сказал учитель. – Я не обижаюсь на вас, нет, нет! Когда у людей такое горе, они не вольны в своих словах. Вы сами не знаете, что говорите!
– Нет, знаю! – воскликнула старуха. – Это все правда! Если бы мой внучек не сидел по целым дням над книжками, не боялся, что вы его накажете, он был бы здоровый и веселый.
Учитель посмотрел на других женщин, словно спрашивая, неужели никто из них не заступится за него, но они только качали головой и шептались друг с дружкой, повторяя, что ученье впрок не идет, и вот лишнее этому доказательство. Не сказав им ни слова, не бросив на них ни одного укоризненного взгляда, учитель пошел следом за соседкой, которая прибегала за ним, в спальню, где на постели, полуодетый, лежал его любимый ученик.
Он был еще совсем маленький мальчик, совсем ребенок. Волосы, по-прежнему кудрявые, обрамляли его лицо, глаза горели огнем, но огонь этот был уже не земной. Учитель сел рядом с ним и, склонившись над подушкой, тихо окликнул его по имени. Мальчик приподнялся, провел ладонью по его лицу, потом обнял за шею исхудалыми руками и прошептал: – Добрый мой друг!
– Да, да, я твой друг, Гарри! Видит бог, я хотел тебе добра! – сказал бедный учитель.
– Кто это? – спросил мальчик, увидев Нелл. – Я боюсь поцеловать ее, она может заразиться. Пусть даст мне руку.
Не в силах сдержать слезы, девочка подошла к кровати и сжала его бессильные пальцы. Через минуту больной высвободил их и опустил голову на подушку.
– Ты помнишь мой сад, Гарри? – проговорил учитель, стараясь вывести его из забытья. – Помнишь, как там бывало хорошо по вечерам? Приходи ко мне поскорее! Цветы и те скучают без тебя и стоят такие грустные. Ты придешь, дорогой? Ведь придешь, правда?
Мальчик улыбнулся слабой, такой слабой улыбкой и погладил своего друга по седой голове. Губы его дрогнули, но ни слова не слетело с них – ни слова, ни единого звука.
Наступило молчание, и вечерний ветерок занес в распахнутое настежь окно неясный гул голосов.
– Что это? – спросил больной, открывая глаза.
– Это мальчики играют на лужайке. Он вынул из-под подушки платок и хотел было взмахнуть им. Но рука его бессильно опустилась на одеяло.
– Дай мне, – сказал учитель.
– Помашите из окна, – послышался чуть внятный шепот. – Привяжите его к решетке. Может, они увидят и вспомнят обо мне.
Он приподнял голову, посмотрел на этот развевающийся на ветру флажок, перевел с него взгляд на биту, которая праздно валялась на столе рядом с грифельной доской, книжкой и другим мальчишеским имуществом. Потом снова опустился на подушку и спросил, почему не видно девочки, здесь ли она?
Нелл подошла к нему и погладила беспомощную руку, лежавшую на одеяле. Два старых друга – учитель и ученик, – ибо они были друзьями, несмотря на разницу в летах, – обнялись долгим объятием, а потом мальчик повернулся лицом к стене и уснул.
Учитель сидел у кровати, сжимая похолодевшую маленькую руку – руку мертвого ребенка. Он знал это, а отпустить ее не мог и все гладил, гладил, стараясь согреть ее.







