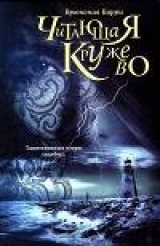
Текст книги "Читающая кружево"
Автор книги: Брюнония Барри
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Глава 6
Булавки были дороги, потому что их привозили из Англии. Чем меньше булавок, тем проще рисунок и тем быстрее может работать кружевница. Нитки также ввозили из-за границы – американская пряжа была очень хорошая, но все же не такая тонкая и изысканная, как европейский лен или китайский шелк. В среднем каждая ипсвичская кружевница плела до двух метров кружева в день, более высокого качества, нежели то, что в наши дни производит «Круг», – пусть даже там есть собственные прядильщицы и какие угодно булавки.
Руководство для Читающих кружево
Рафферти очень приятный человек. Он подвозит нас к пристани, чтобы мы могли сесть на «Китобой». Он описывает круг по кварталу в поисках местечка для парковки, потом наконец въезжает на тротуар, как можно ближе к лодочному сараю Евы.
– Я бы прислал кого-нибудь на патрульном катере, – оправдывается он, – но последний раз, когда полицейские появились возле вашего дома, Мэй в них стреляла.
Вы, должно быть, слышали о моей матери, Мэй Уитни. Все о ней слышали. Наверняка помните фотографию в «Юнайтед пресс», на которой Мэй целится из шестизарядного пистолета в толпу полицейских, явившихся на Остров желтых собак с ордером, чтобы забрать одну из женщин и вернуть мужу. Эта фотография была повсюду. Даже на обложке «Ньюсуик». Фото получилось таким броским, потому что на нем моя мать потрясающе походит на Морин О'Хара из какого-то вестерна пятидесятых годов прошлого века. За спиной Мэй маячит перепуганная молодая женщина, не старше двадцати двух лет, с белой повязкой на шее – ее спасли от мужа, который напился и попытался перерезать супруге горло. Двое маленьких детей на заднем плане играют со щенками золотистого ретривера. Потрясающая сцена. Если вы ее видели, то наверняка вспомните.
Именно эта фотография вкупе со способностью создавать рекламу – хотя то и другое вроде бы не в характере Мэй – возродила производство кружев в Ипсвиче. Снизойдя до общения с прессой, Мэй дала несколько продуманных интервью – не о спасенной женщине, хотя журналисты пришли именно за этим, а о кружеве, которое плели «островитянки», как их называли местные. Сами себя мастерицы называли «Круг», в память о том, как в старину женщины шили, собравшись кружком. Именно это слово стояло на фирменном ярлычке.
Мэй устроила журналистам экскурсию на маленькую фабрику, которую устроила вместе с «островитянками». Сначала отвела представителей прессы в прядильную мастерскую, расположившуюся в старой каменной лачуге. Ее выстроил мой дедушка, Дж. Дж. Уитни, в попытке одомашнить островных псов, но собаки не смели к ней приблизиться, поэтому домик стоял пустым, пока его не заняла Мэй со своими подопечными.
Попав внутрь, человек словно оказывался в средневековом замке. Женщины сидели за старинными прялками и станками. Царила тишина, не считая легкого гудения и потрескивания. Именно в прядильню попадали новенькие, то есть недавно спасенные от мужей, – те, кто был слишком робок, чтобы сразу присоединиться к остальным.
Мэй частенько работала вместе с ними. В основном они пряли кудель и получали льняную нитку. А иногда Мэй пряла золотистую собачью шерсть, но редко. Некоторые так и оставались в прядильне, но большинство женщин уходили отсюда, как только чувствовали себя готовыми к общению, и присоединялись к кругу кружевниц, работающих в старом кирпичном здании школы.
Мэй закончила экскурсию именно там. Женщины, положив на колени подушки, плели кружево, тихонько беседовали или слушали чтицу (обычно этим занималась моя мать: у нее красивый голос, и она обожала читать стихи вслух). Очарованные миром, который создала Мэй, и причудливым кружевом, которое она расстелила вокруг, репортеры в конце концов забыли, зачем пришли. Они вернулись в редакцию и написали о «Круге». Читательницы пришли в восторг, и женщины со всей страны стали присылать деньги и покупать новое ипсвичское кружево.
Бизер позволяет мне править «Китобоем». Когда мы достигаем острова, начинается отлив, поэтому стапеля подняты. Мы можем пристать, но на остров все равно не попадем. Я ненадолго задумываюсь: не высадиться ли на Бэк-Бич, – но в отлив это нереально, да и в другое время весьма проблематично. Нужен высокий прилив и полное затишье, чтобы хотя бы предпринять подобную попытку. Поэтому я понимаю, что придется сидеть в лодке у причала, пока кто-нибудь нас не заметит и не опустит стапеля.
Люди, живущие на островах, ценят уединение. Я не имею в виду места вроде Вайнярда или Нантакета. Их обитатели так далеки от большой земли, что вынуждены привлекать туристов, просто чтобы выжить. Но жители близких к материку островов любят одиночество и поднимают стапеля, потому что чувствуют себя уязвимыми. Всякий, кто проплывает мимо, непременно там высаживается.
Люди считают острова общественным достоянием. Здесь устраивают пикники и мусорят. Туристы стучатся к вам и просят разрешения позвонить, даже не подумав о том, что у вас, возможно, нет ни телефона, ни электричества. Поэтому островные жители поднимают стапеля.
Обычно стапеля имеют всего метр-полтора в длину, но в том-то и дело: во время прилива от поверхности воды до края поднятых стапелей всего около двух метров. Большинство людей способны преодолеть это расстояние, если отважатся на прыжок, – но рискуют не многие. Если вода стоит низко, прибавьте еще метра три – вот тогда островитяне по-настоящему ощущают свою недосягаемость.
Остров желтых собак самый уединенный из всех островов. Он представляет собой высокое гранитное плато площадью две тысячи гектаров, вокруг которого из воды вздымаются скалы, точно башни древней крепости. Если вам неизвестно о Бэк-Бич, на остров вы ни за что не попадете. Из-за крутизны утесов причал выстроен в сорока футах над водой, поэтому расстояние до стапелей еще больше, чем обычно. Их опускают при помощи гидравлического ворота. Пристань – одно из немногочисленных мест на острове, где есть генератор, при помощи которого заодно качают морскую воду в уборные. Когда мы ходили в местную школу и мать давала нам задание по чтению, я обычно сидела на насосной станции и читала при свете единственной электрической лампочки на острове, пока не засыпала или пока в генераторе не заканчивалось топливо. Эта лампочка олицетворяла для меня цивилизацию, и я всячески заботилась о ней.
На острове есть разные служебные постройки, но всего два жилых дома, по одному в каждом конце. Один принадлежит Мэй, а другой – моей тете, Эмме Бойнтон. Это дочь Евы, сводная сестра Мэй и, юридически, мать моей сестры Линдли. Дом Эммы, викторианский особнячок, просторнее, зато дом Мэй утеплен на зиму. Пока с Эммой не произошел несчастный случай – пока они с Кэлом еще были женаты, – тетя и ее дочь Линдли жили на острове только летом. Дядя Кэл тоже, если хотите и его посчитать. Я – не хочу.
В те времена все женщины «Круга» обитали в доме Мэй. Они собирали дождевую воду в цистерны, выращивали овощи себе для еды и коноплю для кружев. У них даже была корова, которую, по словам Евы, береговая охрана переправила на остров на вертолете. Когда-то они пытались разводить овец и пасти их на бейсбольной площадке, но собаки то и дело гоняли бедных животных, поэтому пришлось бросить эту затею. Теперь женщины питаются овощами, изредка – крольчатиной и, разумеется, рыбой и омарами. Не знаю, что они делают зимой. Никогда не спрашивала. Я в курсе лишь потому, что Ева мне писала.
Мы с Бизером двадцать минут сидим в лодке и ждем, пока кто-нибудь опустит стапеля. Наконец появляется тетушка Эмма, а вовсе не мать. Она идет, наклонив голову, и движется медленнее, чем раньше, от старости и от слабости. Она заметно одряхлела – в августе минует пятнадцать лет с нашей последней встречи. Сердце у меня замирает, когда я ее замечаю. Хотя тетушка Эмма меня не видит, она вдруг догадывается, что я здесь. Совсем как Мелани в «Унесенных ветром», которая видит Эшли, вернувшегося с войны, и внезапно понимает, что этот изможденный человек – ее любимый супруг. Тетя не бежит ко мне – не может, – но ее чувства летят как на крыльях, и у меня захватывает дух.
Когда мы встречаемся, она плачет. Долго стоим обнявшись. Эмма рыдает и твердит: «Я знала, что ты приедешь, я ей говорила».
Мое сердце на мгновение замирает. Она так рада нашей встрече, что я вдруг задумываюсь: может быть, тетя думает, что я ее дочь Линдли? Не исключено. Я знаю законы физики, которые действуют на нашей странной планете, – то есть сознаю, что мертвые не возвращаются, – но в то же время понимаю, что внезапное появление Линдли, которая погибла пятнадцать лет назад, было бы куда менее сверхъестественно, чем мое возвращение.
Мы вместе поднимаемся по стапелям, медленно, шаг за шагом. Эмма слишком слаба, чтобы идти быстрее, а я так запыхалась, что даже не могу говорить. Ничего страшного – даже если бы и могла, то не знала бы, что сказать. На берегу несколько чаек перевернули мусорный бак. Он прокатился несколько метров и остановился почти на самом краю утеса.
– Мэй тебя ждет, – говорит тетушка Эмма, указывая на старую школу на вершине холма. Сначала она шагает рядом со мной, потом берет Бизера под руку, кладет голову ему на плечо и тихонько плачет.
– Мне так жаль Еву, – произносит Бизер.
Тетушка, к моему удивлению, знает и понимает, что случилось с Евой. После несчастного случая пострадало не только зрение Эммы, но и ее мозг.
– Иногда Эмма узнает меня, а иногда нет, – неоднократно повторяла Ева.
Дверь в школу открыта. Я вижу «Круг». Женщины сидят с подушками на коленях. Одни мастерицы усердно работают, перебирая коклюшки и вплетая в кружево собственную жизнь. Другие не столько плетут, сколько слушают, устремив взгляд в никуда, захваченные звуком сильного и чистого голоса Мэй. Она читает Блейка, «Песни невинности и опыта»:
А потом возвращайся домой, детвора!
Когда солнце зайдет и заблещет роса…
Мэй замирает, увидев меня на пороге. Она молчит долю секунды, а потом продолжает:
Когда Мэй закрывает книгу и подходит к нам, я слышу чей-то голос – и он даже громче голоса матери.
– Ничего случайного не бывает, – говорит Ева, когда мы с Бизером переступаем через порог.
Глава 7
Что отличает ипсвичское кружево от других кружев ручной работы – так это коклюшки. Жительницы колоний не могли позволить себе более тяжелые декоративные коклюшки, которыми пользовались европейки. Как и все колонисты, кружевницы вынужденно обходились тем, что имелось под рукой. Поэтому коклюшки, на которые накручивалась нить, были легкие, иногда полые, из речного камыша, или бамбука, который привозили в Салем на кораблях в качестве упаковочного материала, или даже из костей.
Руководство для Читающих кружево
Мы сидим у Мэй. Невеста Бизера Аня приехала вчера вечером. Завтра они должны были отправиться в Норвегию, а через неделю – пожениться, но путешествие пришлось отложить на несколько дней: сначала должны пройти похороны Евы. Аня, разумеется, не в восторге. Да и чему радоваться? Хотя, по-моему, учитывая обстоятельства, она держится молодцом. Я понимаю, девочке здесь неловко. Она призналась мне в этом, когда приезжала с Бизером в Калифорнию и слушала лекции в Техническом университете. Я, конечно, уважаю Аню за искренность, но все-таки она мне не нравится. Наверное, отчасти потому, что не любит меня.
Аня всех нас недолюбливает, кроме, разумеется, Бизера. Интересно, много ли рассказал ей мой брат… Но Бизер вообще не болтлив. Когда я спросила, как все прошло на опознании, он пробормотал, что это было трудно, и упомянул о каких-то ракообразных. Я поняла: Бизер не станет откровенничать, и нужно задавать вопросы. Но его слова меня напугали и я решила, что ничего не желаю слышать.
Бизер и Аня еще спят, но остальные уже здесь, в здании школы, в ожидании священника: он должен встретиться с нами и условиться насчет службы, которая пройдет в унитарианской церкви – Ева была ее прихожанкой. Доктор Уорд скоро прибудет на катере. Он специально приехал на похороны Евы. Они дружили много лет. Мы видим катер – он далеко, но приближается с каждой секундой.
Все молчат, кроме двух маленьких детей, мальчика и девочки, которые сидят на полу в дальнем уголке и играют в мяч. Пол покоробился от старости, и каждый раз, когда малыши бросают мяч, он катится далеко в сторону. Детям это кажется очень забавным. Они хихикают и гонятся за мячом, чтобы тот не вылетел за дверь. Нервная молодая женщина, видимо, их мать, наблюдает за ребятишками. Они проделывают это несколько раз, а потом звук прыгающего мяча ей надоедает. Не в силах больше терпеть, она встает и отбирает игрушку. Девочка начинает плакать, а за ней и мать. Увидев это, кружевницы подходят, становятся вокруг, утешают.
– Пусть поиграют, – говорит женщина постарше. – Игра – это хорошо. – Она возвращает девочке мяч, и та подозрительно смотрит на него.
Потом кто-то замечает катер у причала. Я немедленно узнаю священника, пусть даже не видела его много лет, но молодая женщина не знает доктора Уорда и заметно нервничает.
– Все в порядке. – Мэй ободряюще кладет ей руку на плечо. – Он приехал ко мне.
Нервная молодая мать уходит вместе с остальными. Женщины тихонько беседуют с ней – не могу разобрать о чем, – и наконец им удается вызвать у подруги улыбку. Девочка не играет – кладет мяч на пол и смотрит, как он медленно катится к открытой двери, на мгновение останавливается, а потом скачет по гранитным ступенькам, подпрыгивает и исчезает из виду. В дверном проеме, точно в раме, – Мэй, которая торопится к причалу встречать священника.
Она думает, что лучше пригласить доктора Уорда в большой дом, подальше от кружевниц, которые, мягко выражаясь, необщительны, и вдобавок «они все равно заняты и не стоит отвлекать их от работы».
Бизер и Аня уже встали. Брат предлагает священнику кофе. Аня ничего не делает, но, по своему обыкновению, словно приклеена к жениху. Мой брат, точно калека, учится заново ходить – не отрываясь от нее и будто позабыв, что он не всегда передвигался именно так.
– Мы хотим провести службу в другом месте. – Доктор Уорд размешивает сахар и позвякивает ложечкой о края чашки. – Например, в Сент-Джеймсе.
– Зачем? – спрашивает Мэй.
– Потому что будет слишком много гостей. Эта церковь – единственное место, которое способно всех вместить.
– Сколько гостей? – У Мэй дурное предчувствие.
– Полагаю, человек двести. Плюс-минус.
– Двести? – Аня поражена. – Если бы я умерла, на мои похороны ни за что не пришло бы столько народу.
– Плюс-минус, – повторяет священник.
У Мэй буквально волосы становятся дыбом при мысли о такой толпе. Не в силах усидеть, мать встает и начинает ходить по комнате.
– Двести человек… – произносит Аня.
– У Евы было много друзей, – перебивает Бизер, намекая, чтобы она замолчала. – Эти ее уроки этикета…
– Эти ведьмы… – Мэй хмурится.
Священник беспокойно ерзает. Некоторые, особенно кальвинисты, считали и Мэй ведьмой. Особенно с тех пор как обитательницы острова стали называть себя «Кругом». Доктор Уорд хорошо помнил, как они сменили официальное название фирмы и вместо «Островитянок» стали «Кругом». Ему это не понравилось – он так и сказал Еве. Новое название имело определенные ассоциации, и священник полагал, что от таких вещей лучше держаться подальше. Он всегда недоумевал, впрочем, как и все, что на самом деле происходит на Острове желтых собак. Кое-кто считал, что «островитянки» устраивают шабаши. Поскольку в наши дни в Салеме ведьмы повсюду, нетрудно счесть компанию женщин ведьмовским ковеном, особенно если они называют себя «Кругом».
Ева рассмеялась, когда священник об этом заговорил, и велела успокоиться – мастерская названа вовсе не в честь ведьм, а в память о старинной женской традиции собираться в кружок за шитьем. И все же священник опасался, что название могут неверно понять. Он предупредил, что это помешает предприятию успешно развиваться. Но женщины все равно продолжали заниматься своим делом. И, насколько можно было судить, ничто им не мешало. Вскоре Ева начала продавать в кафе кружева, сплетенные «Кругом», и до сих пор они отлично расходились. Впрочем, нужно быть сумасшедшим, чтобы принимать деловые советы от священника.
Так или иначе, доктор Уорд явно испытал облегчение, когда понял, что, во-первых, Мэй не принадлежит к числу ведьм, а во-вторых, вообще их не любит. Он решил, что в этом она похожа на кальвинистов.
– Кто такие кальвинисты? – спрашиваю я.
Лишь сказав это, понимаю, что читаю его мысли. Он пугается. Мысли доктора Уорда нетрудно прочесть, он весь нараспашку, я ничего не могу с собой поделать. Так иногда бывает с праведными людьми – их ум открыт миру и ничем не защищен в отличие от нашего.
Мэй по-настоящему встревожена. Поначалу я решила, что она сердится, поскольку я нарушаю одно из правил этикета. Нельзя читать чужие мысли, если тебя не попросили, – это вторжение, нечто вроде нарушения границы. Но если я могу с такой легкостью читать мысли доктора Уорда, то мысли Мэй – тем более. Все мы до определенной степени – Читающие, хотя мать и отрицает. Она может признать, что у нее невероятно сильная интуиция, а по-моему, это почти одно и то же. Значит, она злится либо из-за ведьм, чего я совершенно не понимаю, либо на меня из-за священника. Во всяком случае, ее гнев реально ощутим. Даже доктор Уорд его чувствует.
– О чем вы думаете? – Он ждет ответа.
– Сами знаете о чем, – отвечает Мэй. – Сомневаюсь, что вообще нужно проводить службу.
– Я думаю, Ева хотела бы хоть какую-нибудь церемонию, – говорит доктор Уорд.
– Церемония – это хорошо. – Первые слова, произнесенные тетушкой Эммой.
– Ева была довольно религиозна, – продолжает священник.
– Ева? Религиозна? – Мэй смеется.
Я скорее склонна поддержать доктора Уорда, но на сей раз вынуждена согласиться с матерью. Ева числилась прихожанкой, но трудно было назвать ее религиозной. Летом она составляла букеты для салемской церкви, а еще могла обсуждать Священное Писание с настоящими знатоками, хотя редко посещала службу. Однажды Ева сказала, что мысли о духовном чаще всего приходят к ней на свежем воздухе – в саду или на море.
– Я полагаю, она бы не отказалась, – настаивает доктор Уорд. В его голосе звучит раздражение, которое он немедленно скрывает под неискренней улыбкой.
– Тогда именно вы и будете все организовывать, – говорит Мэй и выходит.
Я сержусь, потому что это так похоже на нее – бросить все и уйти. Моя мать может справиться с шерифом, салемской полицией и десятком назойливых папарацци, она заправляет собственным бизнесом и дает отличные интервью «Ньюсуик», но в семейных вопросах абсолютно беспомощна.
– Не знаю, зачем вообще спрашивают ее мнение, – говорю я жестко. – Ставлю десять против одного, что Мэй даже не придет, если мы все-таки устроим службу.
– Но ты ведь придешь, не так ли? – Бизер тоже раздражается, и ему тут же становится стыдно. – Прости. Пожалуйста, давай не будем ссориться.
– Прости, – искренне отвечаю я.
– Давайте проведем панихиду в унитарианской церкви, как мы и хотели, – предлагает доктор Уорд. – Кто не успел, тот опоздал…
Я воображаю себе магазинный прилавок и очередь с номерами. Лучше об этом умолчать.
Долгая пауза.
– Ты в порядке? – спрашивает меня доктор Уорд.
– Прошу прошения… – отзываюсь я, не зная, что еще сказать.
– Мы все скорбим. – Его глаза увлажняются. Священник протягивает руку, чтобы коснуться меня, но перед глазами у него все расплывается от слез, и он хватает пальцами воздух.
Позже я слышу, как Аня разговаривает с Бизером. Они думают, что одни в доме.
– У тебя странная семья. – Аня произносит это нежно – пытается пошутить.
Даже не видя лица брата, я знаю – он не улыбается.
Когда я была в депрессии – после самоубийства Линдли, – то согласилась пройти курс шоковой терапии. Это противоречило желанию Евы и, разумеется, Мэй (отчасти именно потому я и решилась), но врачи настойчиво рекомендовали терапию. Я провела в больнице полгода. Перепробовала все обычные антидепрессанты, хотя в те времена еще не появился флуоксетин, – препараты, которые давали мне врачи, были менее эффективны. И вдобавок я принимала нейролептики – против галлюцинаций. Я выпила столько стелазина, что не могла глотать. Почти не могла говорить. И лекарства не помогали. Галлюцинируя, я вновь и вновь видела Линдли на скалах – она стояла на ветру, точно фигура на носу старого корабля, готовясь прыгнуть. В ночных кошмарах мне снилось, как Кэла Бойнтона, отца Линдли, рвут собаки. К тому времени я начала понимать, что это и есть иллюзия, хотя, надо признать, действительно верила, что собаки растерзали Кэла, что он погиб. Врачи называли это «галлюцинаторным исполнением желания».
Что ж, Кэл не умер в отличие от Линдли. Как бы я ни старалась, но не могла изгнать эти образы из своего сознания. Врачи сказали, и я сама так думала, что может помочь шоковая терапия, поэтому я согласилась. Я была исполнена энтузиазма. В ответ на это Мэй прислала книгу Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком». Заметьте, не принесла лично – мать ни разу не навестила меня в больнице, – а передала книгу с Евой и наказала читать мне вслух, если понадобится.
– Я все решила, – заявила я Еве.
Было не так уж ужасно, по крайней мере по моим ощущениям. И терапия помогла. Потребовалось несколько сеансов, но в конце концов образы начали отступать. Сон о Кэле стал обыкновенным кошмаром, от которого я могла пробудиться, прежде чем картинка успевала стать по-настоящему безобразно-непристойной. Хотя образ Линдли не пропал окончательно, он сузился до размеров маленькой черной коробочки, которая всегда находилась слева в поле зрения. Не то чтобы он исчез. Просто мне больше не нужно было непременно смотреть на него. Я могла взглянуть на что-нибудь другое, по своему желанию. Так я и делала.
Впервые, насколько помню, у меня появился план. Я решила переехать в Калифорнию. Меня приняли в Калифорнийский университет, и я сказала врачам, что поступлю в колледж, как и собиралась поначалу. Те пришли в восторг. Решили, что я исцелилась, что их новое современное лекарство помогло.
Перед тем как я прибегла к шоковой терапии, Ева, в последней попытке меня отговорить, сказала нечто странное. Мои видения ее отнюдь не тревожили. Для профессиональной Читающей видения – именно то, что надо.
– Иногда, – сказала она, – неправильны не образы, а их толкование. Порой невозможно понять картину, если нет перспективы.
Ева ратовала за беседы с психиатром, но не за шоковую терапию, – по крайней мере так мне казалось. Лишь много лет спустя она объяснила, что на самом деле имела в виду: ее посещали те же видения. Ева видела обе картинки в кружеве – и Линдли, и собак, – но воспринимала их как символы, а я – как нечто реальное.
– Это я виновата, – вздохнула Ева. – Я должна была предвидеть…
Все мы пытаемся притупить боль.
– Люди задним умом крепки, – закончила она с грустной улыбкой.
Шоковая терапия стерла большую часть моей кратковременной памяти. Причем без следа. Я помню весьма немногое из того, что произошло тем летом. Возможно, к лучшему – именно этого я и хотела. А еще, и это весьма необычно – один случай на тысячу, если верить статистике, – шоковая терапия уничтожила множество моих долговременных воспоминаний. Врачи уверяли, что память вернется, и по большей части так и случилось. В отличие от людей, которые теряют память с годами, я по прошествии времени вспоминаю все больше. Память возвращается фрагментами, а иногда целыми историями. Некоторые из них я записывала, пока находилась в клинике, а потом поступила в университет и мне надоело. Я проучилась всего один семестр. Сообщила Еве, что бросаю учебу из-за стелазина: мол, у меня все плывет перед глазами и я не могу читать-писать, так оно и было. Я устроилась на работу к одному продюсеру читать и отбирать сценарии – сначала ему, а потом в студии.
Ева какое-то время убеждала меня вернуться в университет. Или приехать домой и поступить в бостонский колледж.








