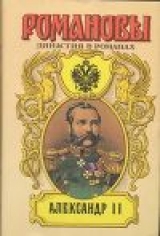
Текст книги "Александр II"
Автор книги: Борис Тумасов
Соавторы: Платон Краснов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)
В разгильдяевском доме царила атмосфера влюблённости и вместе с тем шла подготовка к походу.
Спальня Порфирия, его кабинет и даже общая гостиная были завалены походными вещами. Бинокли, перемётные сумы, вьюки, палаточные принадлежности, колья, верёвки, чемоданы, походная постель из тяжёлых железных стволов, покрашенных зелёной краской, разборный самоварчик-»паук», на вкладных кривых ножках, потники лежали по диванам и креслам, на полу между мебелью, на тахте валялись высокие сапоги с раструбами. Пахло свежей кожей, ворванью, пенькой, грубым полотном, смолою, пахло походом.
Старый генерал посмеивался и говорил – напрасные траты!.. Туда и обратно!..
Порфирий возмущался:
– Помилуй, папа!.. Туда и обратно? И это после торжественных проводов великого князя, после того, как сказаны были перед офицерами всей нашей гвардии великие слова о целях войны, о Константинополе!.. Невозможно…
– Слышал и об этом. Конечно, слово не воробей, вылетит – не поймаешь, но… Не следовало говорить этих слов… Кроме России есть ещё и Европа и в ней мировое масонство, управляемое жидами. Как ты полагаешь, австрийским жидам желательно, чтобы славяне, эксплуатировать которых они привыкли, стали свободны?.. Ты думаешь, английским жидам радостно будет видеть торжество христианства на Средиземном море? Да ведь это будет потрясение всех основ английской политики. В яхт-клубе открыто говорят, что Англия и Австрия не допустят Россию до освободительной войны, до торжества России на Ближнем Востоке.
– Но, папа… Россия?.. Слово государя?..
– Знаю – повторишь слова о стопятидесятимиллионном народе… Но народ-то этот тёмен, он молчит, и что он думает, кто это знает? Полагаю, что всё, что хочешь, но не о благополучии каких-то там балканских славян… А масонский мир силён… Государь царствует двадцать два года – ему не мешают… Но если его царствование завершится победами и – не дай Бог – Константинополем, – масонский мир этого государю не простит никогда… Все тёмные силы будут подняты, снабжены деньгами, ободрены и двинуты, чтобы уничтожить государя… Помяни моё слово – «земля и воля» к нам пришли из-за границы…
– Ужасно…
– Мировая политика ужасна. Тут нет никакой жалости, ибо тут – еврей с его вечной ненавистью к нееврею… У масонского интернационала на поводу и в услужении тёмный третий международный интернационал, о котором мы ничего не знаем, а когда узнаем, так ахнем от ужаса.
Порфирий тупо смотрел на отца. Он и точно ничего не знал об этой высшей международной и внеправительственной политике. Одолевали его, помимо его сборов на войну, и семейные заботы. Афанасий шёл на войну и настоял на том, чтобы отец добился его перевода в Волынский пехотный полк, стоявший в Кишинёве. Значит – в первую голову!
Не патриотизм и пример отца побуждали Афанасия ломать свою гвардейскую карьеру, но знал Порфирий, что его сын в эти дни вдруг точно прозрел и без ума и памяти влюбился в Веру, а та словно и не замечала его чувства и избегала троюродного брата.
Простившись со своим батальоном, Афанасий переселился к отцу под одну крышу с Верой и стал приставать к кузине.
Вера ходила задумчивая и печальная, своя тяжёлая внутренняя работа шла в ней, и влюблённый Афанасий ей был нестерпим.
Афанасий поймал Веру в коридоре у дверей её комнаты. Он схватил своею большою рукою кончики её пальцев и, не зная, как начать давно подготовленное объяснение, сказал:
– Вера… Вера… О чём ты всё думаешь?..
– Прежде всего пусти меня. Ты знаешь, что я этого терпеть не могу… Телячьи нежности. Конечно, не о тебе.
– Вера… Мы оба выросли и не заметили этого. А я вот теперь точно только первый раз тебя увидел.
– Ну?.. И дальше что? – вырываясь из крепких рук Афанасия и берясь за ручку двери своей комнаты, сказала Вера.
– Вера!.. Да ты ужасно как похорошела…
– Очень рада узнать об этом от тебя первого.
– Вера, постой!.. Поговорим!
– Мне не о чем с тобою говорить. Мы разные люди… Мальчиком ты меня мучил и делал мне больно. Теперь надоедаешь мне своими томными взглядами. Они и тебе и мне не к лицу.
– Вера… Прости за прошлое. Что может понимать мальчик в женской красоте… Такой уже у меня был темперамент, чтобы мучить тебя. Может быть, даже это был инстинкт просыпающейся любви… А теперь…
– Ну что же теперь? – наступая на Афанасия, сказала Вера, строго смотря Афанасию прямо в глаза.
Бедный волынец покраснел, растерялся, смутился и теребил полу своего сюртука.
– Вера… Мне кажется…
– Если тебе что кажется – перекрестись, и перестанет казаться, – резко сказала Вера, быстро вошла в свою комнату и заперлась на ключ.
«Этот мальчишка и точно, кажется, влюблён в меня, – подумала Вера. – Этого только недоставало! От него всего можно ожидать… Пожалуй, и на войну идёт… потому что… Ну да не всё ли равно, мне-то какое дело до этого!»
Но главную скрипку в любовном концерте, разыгрывавшемся в разгильдяевском доме, несомненно, играла графиня Лиля. Она и не скрывала, что обожает Порфирия.
«Наш герой», иногда – «наши герои», «подвиг», «красота самопожертвования», когда говорилось про Порфирия и Афанасия, – слова эти не сходили с её языка: «Точно по евангельскому завету Христа наши герои идут душу свою положить за друга своя».
Графиня Лиля, как мать или сестра, входила во все подробности снаряжения Порфирия, ездила для него по магазинам, шила ему походные мешочки для чая, для сахара, подарила дорогую флягу из хрусталя в серебре. Порфирий принимал всё это как должное, по праву героя, идущего на войну.
А Вере всё это было смешно.
XIVБыл вечер. В кабинете Афиногена Ильича под зелёными шёлковыми абажурами горели канделябры на большом круглом столе. Афиноген Ильич сидел в кресле, протянув ноги. Флик и Флок лежали подле на ковре. Вера сидела задумавшись у камина, смотрела на горящие дрова и слушала сквозь свои тоскливые мысли, как графиня Лиля читала выдержки из французских и английских газет.
– Афиноген Ильич, ещё про Россию, прочесть?..
– Будьте добры, графиня.
– Восемнадцатого декабря, это, значит, по-нашему – шестого, на площади у Казанского собора был большой митинг. Толпа возмущённого народа достигла нескольких десятков тысяч человек. Генерал Трепов собрал войска Петербургского гарнизона и атаковал толпу кавалерией…
– Дедушка, это же неправда, – отозвалась от камина Вера. – Зачем пишут такую неправду? Я случайно проходила по Невскому в это время. Там было человек триста студентов и курсисток и полэскадрона казаков, который и разогнал их. Кто не знал, тот даже и догадаться не мог, что это был митинг…
Какие-то струны туго-туго натянулись внутри Веры. Невидимый кровавый рубец огнём загорелся на спине под её строгим закрытым платьем. Вера с трудом сдерживала внутреннюю дрожь.
– Всех их следовало бы перепороть там же, на Казанской площади, – брезгливо сказала графиня Лиля. – Какие мерзавцы!.. В такие священные моменты… А вот ещё… Сообщают из Лондона, что великий князь Николай Николаевич старший вовсе не болен в Одессе, но в Кишинёве в него стреляли возмутившиеся офицеры, и он опасно ранен… Подумать только!.. Какая гадость!..
– Дедушка… Всё это ложь… Кто же это пишет?..
– Эмигранты русские… Вот такие, как князь Кропоткин, Герцен и им подобные, ну и жиды стараются всякую мерзость про Россию напечатать. Заграничная пресса, как правило, подкуплена. Отсюда им дают сведения, а газеты рады сенсациям. Тошно жить, Вера, когда не стало честности и благородства. Потрясают основы… Ты говоришь – триста человек… Да ведь один дурак бросит камень в воду, а сто умных не могут его вытащить… Чтобы разрушить, и тридцати достаточно, а вот созидать – нужны миллионы!.. Весь народ… А разрушить?..
Афиноген Ильич обернулся к графине Лиле:
– Они, графиня, и войну используют для того, чтобы разрушить Россию… Вот почему и не нужно нам никакой войны.
– Ну что они могут сделать?.. Эти, что со знаменем «земля и воля» ходили, триста мальчишек, – сказала графиня Лиля.
– Разрушить Россию, – вставая, сердито сказал генерал. – Убить государя… Вы думаете, графиня, народ?.. Какой там народ!.. Явится какой-нибудь болван… Чаадаев или там Пестель, Рылеев… Декабристы… И на священную особу государя императора покушение. Разве не бывало так? Каракозов… Березовский… Стреляли уже. Один человек… Один негодяй!.. Много и не нужно, один негодяй сделает, а миллионы порядочных людей страдать будут, да ничем не помогут.
– Господь охранит нашего государя…
– На Бога надейся, а сам не плошай… Завелась эта пакость, и трудно её вывести. Как ржа на железе. Истачивает ржа и сталь. Красное знамя!.. А как это разжигает страсти!.. Мутятся головы… Как в такие времена начинать войну?!
– Освободительную войну, Афиноген Ильич! Освободить славян от гнёта турок…
– Слыхал, слыхал… Освободить… Благодарность людская – чёрствая благодарность… Ну да там видно будет. Спасибо, графиня, за чтение. Мне трудно заграничные-то газеты… Печать серая, мелкая, в глазах от неё рябит… Спасибо…
Генерал поцеловал графине руку, поцеловал Веру в лоб и пошёл, сопровождаемый собаками, в спальню.
Вера и графиня сидели молча. В тёплом кабинете была тишина. С лёгким шорохом обвалились красные головни, на мгновение камин вспыхнул ярким пламенем. По-зимнему было тихо в кабинете. Графиня Лиля отложила в сторону газеты и сидела, устремив сияющие глаза на окно с опущенными портьерами. Вера низко опустила голову. Рассыпавшиеся уголья бросали кровавые блики на её шею и волосы. Очень красиво было её печальное, задумчивое лицо.
«Ложь, – думала Вера. – Зачем?..»
XVБыло утро, и Вера только что вернулась с прогулки. Горничная, помогавшая ей раздеться, доложила, что какой-то человек прошёл с чёрного хода на кухню и непременно просит доложить о нём барышне.
– Какой человек? – спросила в недоумении Вера.
– Назвались князем… Да вид-то у него, барышня, совсем даже не авантажный [146]146
Не привлекательный.
[Закрыть]. Словно скубент какой. Очень бедно одеты. Сапожонки прохудились, на плечах платок.
– С рыжеватой бородкой?
– Так точно-с. Так, что-то растёт по щекам. Очень уж они неглиже [147]147
Здесь: плохо одетый.
[Закрыть].
– Так это князь Болотнев… Проведите его ко мне.
– В голубую гостиную прикажете или в зал?..
– Нет, Маша, ничего не поделаешь, проведите его ко мне сюда…
– В спальню?.. – горничная удивилась.
– Ну да… Ведь у меня прибрано.
Вера отлично понимала смущение и возмущение горничной, но как было ей иначе поступить? С тех пор как родители выгнали из дому князя, вход в такие дома, как дом Афиногена Ильича Разгильдяева, был закрыт для Болотнева. И князь это отлично знал, потому и пришёл с чёрного хода на кухню. Принимать его в парадных комнатах, куда могли пройти Афиноген Ильич или Порфирий, – это значило навлечь на князя неприятности. Если князь пришёл к Вере, если он так добивается её видеть – значит, случилось что-нибудь особенное, важное, и нужно его принять и выслушать в спальне, куда ни старый генерал, ни дядюшка Порфирий, ни Афанасий не заглянут.
Князь Болотнев был одет много хуже, чем летом, на петергофском празднике, где своими странными рассуждениями он отвлёк Веру от тяжёлых мыслей и заинтересовал её. Штаны были те же, но были более потрёпаны, и сзади, у каблуков, появилась на них бахрома. Сапоги были давно не чищены, и на правом сквозила дырка, сквозь которую просвечивал не особенно чистый носок.
Князь протянул Вере сырую, холодную, красную, обмороженную руку и сказал:
– Простите, Вера Николаевна, удивлены?.. Может быть, возмущены моим нахальством и некорректностью, не comme il faut [148]148
Соответствующий правилам светского приличия (фр.).
[Закрыть], но я считаю, что нам, молодёжи, новому поколению, нужно строить жизнь по-новому. Нужно отбросить все условности хорошего тона. Да и не до них теперь. Видите – я к вам по важному, очень нужному делу, и ваш ответ может решить мою судьбу…
– Садитесь, князь, – показывая на кресло, сказала Вера. – Я вас слушаю.
– Не бойтесь… Я вас не задержу-с. Порядки вашего дома знаю… Потому буду краток. Вы помните наш разговор на празднике в Петергофе? То есть, собственно говоря, говорил-то я один, вы же все молчали.
– Я помню, князь… Вы были очень оригинальны. Вы совсем тогда сразили и ошеломили графиню Лилю.
– Так вот, Вера Николаевна, именно тогда я понял и почувствовал, что между нами существует родство… То есть, конечно, я понимаю – Болотневы и Ишимские и Разгильдяевы совсем, совсем никак не родня… И близкого ничего нет… Болотневы – это те, кто давно, давно пили крестьянскую кровь, крепили свои поместья, это родовитое дворянство, старое, боярское, на плетях выросшее, Разгильдяевы и Ишимские – дворянство служилое, петровское, солдатскою кровушкой вспоённое, на шпицрутенах воспитанное. Я ещё грамоте хорошо не знал, как меня заставили выучить генеалогию нашего рода… Так вот, – значит, родства кровного нет… Никак нет. Но я говорю в данном случае про родство душ. Я тогда просто-таки почувствовал, что и вы, как и я, на распутье, ищете, не знаете, как жить… И вот я стал думать. Как видите, больше полугода думал, обмозговывал, прилаживал в голове, прежде чем вас побеспокоить. Я пришёл к тому заключению, что проще всего нам будет взять и пойти вместе. Вы меня понимаете, Вера Николаевна?..
– Простите, князь, но я вас совсем не понимаю.
– Ну вот, как же это так? Да это же совсем просто. Я предлагаю вам, Вера Николаевна, выйти за меня замуж. Стать моей женою.
И, точно боясь услышать сейчас же отказ, князь заторопился продолжать.
– Нет… нет… Вы не подумайте… Я предлагаю вам совсем особое, новое… Брак, как это понимается всеми, – мещанство… Я далёк от мысли о мещанстве. Я считаю такой брак величайшею глупостью. Но когда полюбишь, и сильно, а я в этом убедился, то это вещь совершенно естественная, вполне допустимая при моём матерьялистическом и математическом воззрении на мир. Когда полюбишь девушку такую же развитую, как сам, – то можно допустить уже и такую глупость, как женитьба. Но только я предлагаю вам выйти за меня замуж не иначе как для того, чтобы розно жить, и ни вы, ни я тогда не потеряем своей свободы.
– Но это, князь… Я не знаю, как назвать это?.. Это комедия…
– Допустим, Я знал, что вы сразу не поймёте меня. Пускай даже и комедия, но комедия безвредная… А как же жить в наше время атеисту без комедии?..
– Князь… Брак – таинство… Вы знаете, что надо раньше бракосочетания говеть и приобщаться…
Вера сама не знала, что говорила. Ей нужно было что-нибудь сказать. Принять по-настоящему слова князя она не могла, однако видела, что князь не шутит. Он был необычно серьёзен и, несмотря на свой поношенный костюм, весьма даже и торжествен, жениховски важен и несомненно трезв.
– Знаю… Вот и говорю – комедия… Как я пойду к попу на исповедь и начну с того, что я не верую в Бога… «Так зачем же, – скажет мне поп, – ты пришёл ко мне?..» Верно, при таких условиях и брак комедия. Вы потом останетесь здесь или, лучше ещё, переедете на свою отдельную квартиру, я останусь в своей мансарде. Но мы свяжем себя, так сказать, круговой порукой. Та любовь, которая загорелась во мне там, на берегу Финского залива, заставит меня поверить в труд и приняться за него… Мы читали бы вместе, прочли бы и усвоили «Kraft und Stoff» [149]149
«Сила и материя» (нем.).
[Закрыть]Людвига Бюхнера. Вы знаете языки, и я их знаю. Вы, может быть, поступили бы на Медицинские или Бестужевские курсы. Мы стали бы вместе работать, изучать общественные науки, мы с вами вместе, Вера Николаевна, перевернули бы весь мир. А?.. Что вы на это скажете?..
– Что я могу вам сказать?.. Вы говорите о любви, но мне думается, что для женитьбы… всё-таки любовь должна быть взаимной…
– Я понимаю вас… Вы меня не любите… Конечно… Прогнали человека из дому… Пьяница… Нищий…
– Нет, князь… Совсем не это… Уверяю вас, не это… И то, что вы без средств, и то, что прогнали вас из дому, и всё другое не имеет никакого значения для меня, если бы тут была любовь… Но я?.. Я никого не люблю…
– Меня же особенно, – вставая, жёстко сказал князь. – Все презирают меня за это моё… нищенство. Я же считаю, что подло жить на счёт трудов и слёз своего ближнего и вовсе не подло на счёт добровольного даятеля. Да, я не способен к труду… Но когда я полюбил, мне стало казаться, что вместе с вами я могу и трудиться. Моя душа воспарила, и мне показалось, что я не совсем пропащий человек… А вы способны на самопожертвование. Я не хочу быть барином и вас не зову стать барыней, а прошу вас вместе потрудиться. Я ничтожный, лишний на свете человек, ноль… Я тоскую и мучаюсь пустотою жизни… И мне казалось, что и вы тоже…
– Ноль… И вы думали, что ноль плюс ноль дадут нечто…
– Прощайте, Вера Николаевна, – решительно сказал князь Болотнев. – И прошу вас, забудьте этот мой глупый разговор. Ваша логика убийственна… Эти шесть месяцев я только и делал, что пил и думал о вас… Много читал… Даже писал… Думал, что нашёл… Вижу, что ошибся…
Князь протянул Вере всё ещё холодную, несогревшуюся руку. Вера вяло пожала её. Ей было жаль князя… Но не выходить же ей замуж за всеми отверженного Болотнева, чтобы потом жить как-то странно, по разным квартирам. Князь вышел из комнаты. От него остался в спальне какой-то неуютный, нежилой запах холода и сырости. Точно принёс он с собою воздух улицы и своей холодной, одинокой, сырой мансарды…
Вера смотрела на закрывшуюся за князем дверь.
«Жаль, конечно… Мне жаль его. Может быть, было нужно, как это делает графиня Лиля, дать ему красненькую?.. Но как дать деньги, когда он мне сделал предложение руки и сердца?.. Спасти, вывести на добрый путь всеми отверженного князя?.. Разве это не подвиг… Но я – девушка, побитая на площади казаком… Куда я сама-то годна со своими сомнениями… О, Боже! Боже!.. Верни мне веру в Тебя!.. Научи меня, если Ты еси!.. Но – я знаю – Тебя нет… Если бы Ты был, не было бы надвигающейся войны, турецких зверств, казаки не били бы на площади студентов, не было бы курсистки, воткнувшей нож в круп лошади, и казака с разбитым глазом. Мне говорили, что у казака глаз совсем вытек… Не было бы и этого несчастного князя, но все были бы радостны и веселы и… счастливы… А то всё это… И Бог?.. Бог?.. Милостивый и человеколюбивый Бог?.. Нет, Бога нет, и так страшно жить без Бога…»
XVIПорфирий у себя в кабинете примерял походное снаряжение. Афанасий сидел в углу в кресле и смотрел на отца.
Порфирий надел чесучовую [150]150
Чесуча (кит.) – шёлковая ткань полотняного переплетения, имеет желтовато-песочный цвет и вырабатывается из особого сорта шёлка.
[Закрыть]желтоватую рубашку на крепкое, волосатое тело, сел на тахту и стал натягивать высокие сапоги с раструбами выше колена.
– Немного тугие сделал мне сапоги Гозе… Ну да разносятся, – сказал он, вздыхая. – Но нигде не жмут. И нога как облитая… Гарновский писал мне – в действующей армии вицмундир и каска обязательны… Такова воля государя… Как в прусской армии в войну семидесятого года…
Порфирий накинул на плечи сюртук со значком и аксельбантами и прошёлся по кабинету.
– Папа, – сказал Афанасий, – ты пойди всё-таки к ней. Поговори.
– А сам-то что же?.. Жених!.. – с ласковой иронией сказал Порфирий.
– Не могу. Так посмотрит на меня, что язык прилипает к гортани. Боюсь – высмеет. И её глаза!.. Не налюбуюсь на них и боюсь их…
– Боишься, а жениться хочешь… Как же потом-то будет?
– После легче будет.
– Что говорить… Похорошела Верочка, а кусается… От рук отбилась. Вот оно, домашнее-то воспитание на воле, без институтской дисциплины… Так хочешь, чтобы я – сватом?.. И сейчас?..
– Да, папа. Завтра я уезжаю в полк. Так хотелось бы знать…
– Бесприданница…
– Ну, дедушка её не обидит. Да и у тебя что-то есть.
– А вдруг я возьму и тоже женюсь… Вот мои-то денежки и проплывут мимо тебя.
Отец и сын весело захохотали.
– Ведь не стар ещё?.. А?.. Ни одного седого волоса. Чем не жених?.. А?..
– Совсем жених, папа… Так пойди и поговори.
– Ну, ладно… За успех не ручаюсь. Но не потому, что отец, а по совести – лучшего жениха для Веры, как ты, и днём с огнём не сыскать.
Порфирий вдел рукава сюртука и, распахнутый – очень ему нравилась желтоватая чесучовая рубашка, – подрагивая крепкими мускулистыми ногами и позванивая прибитыми к каблукам шпорами, пошёл на половину Веры.
– Барышня у себя? – спросил он горничную, вышедшую к нему в коридор.
– Она в спальне.
– Попроси её в будуар…
Порфирий похаживал по мягкому ковру, поглядывал, как в двух зеркалах отражалась его коротенькая полная фигура то со спины, то с лица.
«На Леера похож! – подумал он самодовольно. – Если отпустить бороду, да, когда поседею, совсем буду как Леер. Вот заложу руку в карман и, как он, тихим ровным голосом начну: прошлый раз мы закончили оборудование базы, теперь посмотрим, как в соответствии с этим должны быть устроены операционные линии… Впрочем, у Леера это как-то учёнее, мудрёнее выходило. А ведь и правда, я мог бы лекции читать. Мои академические работы признаны лучшими, отчёт о кавалерийских манёврах на Висле с Сухотным заслужил одобрения Обручева и Милютина. Я на дороге… А теперь ещё война… И я, чёрт возьми, еду на войну. Это тоже не шутки. Это стаж для будущего. Теория, проверенная на опыте… Георгиевский темляк [151]151
Петля из ремня или ленты, иногда для украшения – с кистью, на эфесе ручного холодного оружия, для того, чтобы крепче и удобнее было его держать.
[Закрыть]на сабле, а может быть… и беленький крестик!.. Всякое бывает… А там, если повезёт, и в генералы!.. Как это в «Горе от ума» –то?.. «А там – зачем откладывать бы дальше, – речь завести о генеральше!» Однако Вера меня выдерживает. А может быть, догадалась, почему я так официально… Прихорашивается… Всё-таки смотрины… будущий тестюшка… Хе-хе-хе!.. А вот… Наконец…»
Вера вышла, как всегда ходила она дома, – в строгом закрытом тёмно-синем платье, в корсете. Круглые пуговки блузки были застёгнуты сзади наглухо, узким мыском лиф спускался за талию и незаметно переходил в суконную юбку. Буфы на рукавах и турнюр были умеренны. Вера напомнила Порфирию французскую артистку, виденную им в Михайловском театре. Причёска Веры была небрежна – слишком густы и непокорны были пушистые пепельные волосы. Причёска эта очень шла Вере.
«Хороша… – подумал Порфирий, – мой оболтус понимает толк в женщинах. Мимишка его научила… И есть в ней нечто духовное, величественное… Ей губернаторшей быть. Вся губерния была бы у её ног. Девчонка – а совсем Екатерина II…»
– Вера, я к тебе по серьёзному делу.
– Садитесь, дядя, я вас слушаю, – показывая на кресло и устало опускаясь в другое, сказала Вера.
Порфирий продолжал ходить по комнате. Зеркала отражали его.
– Видишь ли, Вера… – последовало долгое молчание.
Вера смотрела на Порфирия.
– Тебе нравятся мои сапоги?.. Это наша походная форма.
– Простите, дядя, вы мне напомнили картинку в сказке Перро – «Кот в сапогах».
– Кот в сапогах?.. – Порфирий принуждённо засмеялся и остановился против зеркала, спиною к Вере. Зеркало отразило румяное, круглое лицо, тёмные усы и баки, напомаженные и приглаженные на висках волосы торчали кверху, совсем как кошачьи уши… Небольшой нос, весёлые, жизнерадостные круглые глаза – действительно кот, сытый, лавочный, холёный кот. И брюшко в чесучовой рубашке – как белая кошачья грудка… Кот в сапогах…
Порфирий застегнулся.
– А едкая ты, Вера.
– Простите, дядя. Я это с любовью.
– Охотно верю, и я к тебе с любовью. Так вот… Коротко и прямо. По-военному, по-солдатски… Я к тебе сватом. Ты – товар, я купец. Мой Афанасий просит твоей руки и сердца.
– Но, дядя… Мы же, как брат и сестра… Мы родня.
– Какая там родня!.. Седьмая вода на киселе… Разгильдяевская кровь в тебе только с материнской стороны, да и то по бабушке. Отец – Ишимский, мать – Тихменева, и только мать твоей матери двоюродная сестра моего отца. Тут и не досчитаешься, где эта самая-то родня придётся.
– Мы росли вместе, и я так привыкла смотреть на Афанасия как на брата.
– Росли вместе, потому что… Да ты сама знаешь. Твой отец, капитан конной армии Ишимский, доблестно сражался в Севастопольскую кампанию под командой моего отца, был тяжело ранен, выручая со своей батареей моего отца. Это не забывается. Он женился в доме моего отца… Я всё это отлично помню, и когда твой отец скончался, а потом умерла и твоя мать, ты осталась круглой сиротой и зажила в нашем доме со всеми нами как наша родня. Но ты отнюдь не сестра и даже не кузина Афанасия.
– И всё-таки я никак не могу себя представить женою Афанасия.
– И представлять не надо – надо стать. Афанасий едет на войну. Он хочет перед отъездом получить твоё слово. Поверь мне, получив твоё слово, он будет героем и, если Бог даст, целым и невредимым вернётся домой, ты дашь ему то счастье, какого он вполне заслуживает.
– Простите меня, дядя, но я не могу дать такое слово.
– Почему?.. Что он? Урод?.. Обезьяна какая-то?..
– Нет, конечно, не урод и не обезьяна… «Красавчик» – с детства это слышу. А всё-таки – не могу.
– Почему?.. Ну хорошо… Я понимаю. Ты умная, Вера… Мой Афанасий умом и талантами не блещет, он не в меня, а в мать пошёл… Но он такая прямота, такая честность, такой рубаха-парень… Как он будет любить тебя и холить…
– Дядя… Всё равно я не могу полюбить его.
– Ещё раз спрошу – почему?
– Вы помните, дядя… Петергоф и соревнование выездами.
– А… Так, так, так… Белый пудель, – совсем по-кошачьи фыркнул Порфирий. – Ф-ф-уу!.. Какая глупость! Но, милая моя, ты девушка, тебе девятнадцать лет, и тебе рано это знать. Но это всегда так бывает. Афанасию двадцать три года. Он сангвиник, он молодчик, что же ему?.. Фу-ух, какие ты глупости говоришь, хоть и умная девушка… Нет, ты не думай об этом… Не думай и не думай… Посоветуйся с нашей милой графинюшкой. Ей-Богу, не потому что отец, а по совести – такого жениха не найти… И пожалей его.
Порфирий подошёл к сидевшей в кресле Вере и взял её за плечи. Вера вывернулась из его рук и встала.
– Нет, дядя, благодарю за честь… Прошу не обижаться… Но… просто – не могу…
– Да что, у тебя есть кто-нибудь на примете?..
– Никого у меня нет – вы сами это отлично знаете. Кто у нас бывает?.. Где я бываю?.. Но за Афанасия я не могу выйти… Я просто не люблю его.
– Стерпится – слюбится.
– Таким путём ни ему счастья не дам, ни себе не получу.
– Что же сказать ему?.. Ты хотя бы обнадёжила его…
– Дядя… В Малороссии, кажется, арбуз или тыкву в таком случае посылают.
– Ты ещё можешь шутить!.. Ты отчаяние вместо надежды даёшь человеку, идущему на войну.
– Что же я могу поделать? Я чувствую – что не люблю и никогда не полюблю Афанасия, – со слезами в голосе выкрикнула Вера. – Я никого никогда не полюблю. Я останусь старою девою. Но только умоляю – не мучайте, не мучайте меня. Я никому не мешаю. Я пойду… в народ. Но я не могу, не могу и не могу!..
Вера выбежала из будуара…
Порфирий постоял несколько мгновений в комнате, ожидая, не вернётся ли Вера.
– Странная девушка, –сказал он. – С идеями!.. – И пошёл к Афанасию.
Он застал сына в кабинете в том же кресле, в той же позе.
– Ну что? – спросил Афанасий.
– Погоди, Афанасий… Нет, рано ещё. Она совсем ещё девочка. Ей в куклы играть, а не замуж выходить. Не созрела ещё. Переходный, самый капризный возраст. Помнишь, как в Петергофе с этим дурацким матросом…
– Отказала? – вставая, спросил Афанасий и побледнел.
– Н-нет… Она не отказала… Но, мой милый Афанасий, – надо нам раньше вернуться с войны, а тогда уже думать о свадьбе.
– Хорошо, папа… Я вернусь с войны героем или вовсе не вернусь…








