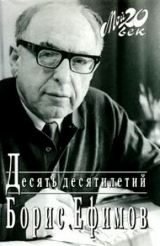
Текст книги "Десять десятилетий"
Автор книги: Борис Ефимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
Глава четвертая
…Одесса того периода несколько субъективно, но весьма эмоционально описана в небезызвестной книге В. Шульгина «1920». Читая впоследствии эти колоритные воспоминания и, в частности, прочувствованные описания Шульгиным его переживаний в одесском подполье, когда, скрываясь от советских властей, он испытывал смертельный страх за свою шкуру и за участь своих близких, я невольно думал: «Что, господин Шульгин? Оказывается, «пытка страхом», которую вы считали такой естественной по отношению к тысячам жителей Киева, гораздо меньше пришлась вам по вкусу в Одессе, когда дело коснулось вас! Где же логика, уважаемый Василий Витальевич?»
Обстановка в Одессе была сложной и неспокойной. Город кишел еще не выловленными бандитами, уголовниками из шайки знаменитого Мишки-Япончика, послужившего И. Бабелю прообразом Бени Крика, врангелевскими агентами, спекулянтами и прочей нечистью. Но большевистский порядок наводился в городе твердой рукой одесской ЧК, советские учреждения и организации оперативно разворачивали работу. Приступило к практической деятельности и Юг РОСТА, в том числе, естественно, и возглавляемый мною Изагит, в задачи которого входил выпуск сатирических агитплакатов типа московских «Окон РОСТА».
Процедура приема художников в мастерскую изобразительной агитации Одесского отделения Юг РОСТА несколько напоминала по своей лаконичности знаменитую церемонию принятия в Запорожскую Сечь, описанную Гоголем в повести «Тарас Бульба». Очередной посетитель открывал дверь в огороженный фанерой кабинет начальника Изагита – и происходил примерно следующий диалог:
– Я художник такой-то. Хотел бы работать в Юг РОСТА.
– А плакаты рисовать сможете?
– Смогу.
– И сатирические?
– И сатирические.
– Гм… Попробуем.
Начальник брал клочок бумаги и, написав на нем «Аргоша, дай тему», направлял новичка к заведующему литературной частью поэту Арго. Надо сказать, что среди художников, желавших принять участие в выпуске агитплакатов, было немало приверженцев кубистического стиля. Я питал искреннее уважение к такому искусству, считая его чрезвычайно революционным. Но здравый смысл подсказывал, что сатирический плакат должен прежде всего быть понятным массовому зрителю и поэтому неестественные угловато-загадочные рисунки одесских футуристов вряд ли смогут успешно выполнять агитационные функции. Поэтому я вежливо, но твердо отклонял подобного рода работы. Среди части художников пошел ропот. Стали говорить, что приехавший из Киева самонадеянный молодой человек, начальник Изагита, сам рисовать не умеет, а зажимает при этом подлинные произведения сатирического искусства. Я почувствовал, что мне необходимо срочно поддержать свой авторитет. Только что было получено сообщение о выходе частей Красной армии к Новороссийску. Разгромленное деникинское воинство было прижато к морю. Я распорядился установить в мастерской большой фанерный лист и на глазах у всех, без эскиза, сразу красками быстро нарисовал плакат, изображавший Деникина, в панике умоляющего Антанту о помощи. Арго немедленно написал соответствующий стишок, плакат тотчас же выставили у входа в Юг РОСТА, вокруг него мигом собралась хохочущая толпа. Злопыхатели были посрамлены. Я торжествовал и несколько раз в течение дня выглядывал на улицу, чтобы насладиться успехом своей карикатуры. Очень запомнился мне при этом мрачный небритый субъект в короткой английской шинельке защитного цвета. Это, несомненно, был отставший от своих белогвардеец, хотя, надо сказать, в английских шинельках и френчах щеголяло пол-Одессы, так как деникинцы, удирая, оставили в городе огромные запасы обмундирования. Субъект долго исподлобья смотрел на плакат и наконец сказал, осклабившись и ни к кому не обращаясь: «С-сукин сын (это явно относилось не к Деникину)… Тут и не хочешь, а засмеешься…»
…В Одессе мы встретились с писателями, широко известными впоследствии. Одни из них уроженцы Одессы, другие приехали сюда из Москвы и Петрограда, спасаясь от голода и большевиков, и застряли здесь при белой власти. Некоторые из них были приглашены Кольцовым работать в Юг РОСТА. Среди них Валентин Катаев, Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий, журналист Василий Регинин и другие. Не помню, тогда или позже познакомился я с Исааком Бабелем, хотя уже читал его первые рассказы, напечатанные в петроградском журнале «Летопись» под редакцией М. Горького. Прославившие Бабеля «Одесские рассказы» и «Конармия» еще не были написаны. Не раз потом я встречался с ним в Москве. Он дружил тогда с Кольцовым и с нашим общим приятелем писателем Ефимом Зозулей. Дружил, увы, также и с Евгенией Ежовой, редактировавшей в ту пору еженедельное иллюстрированное приложение к газете «Правда». Мужем Жени Ежовой был не кто иной, как сам Николай Иванович Ежов, сталинский нарком, генеральный комиссар Государственной безопасности.
И тут пошли какие-то странные, зловещие дела. Была вдруг арестована сестра Жени Ежовой. Все удивлялись – как это? При таком родстве? Прошло немного времени, и Женя Ежова застрелилась. Между прочим, забыл рассказать, что незадолго до этого Женя пригласила Бабеля и Кольцова в воскресный день к себе на дачу. И в тот же вечер брат очень живо, как он это умел, рассказывал о своих впечатлениях.
До обеда играли в городки. Ежов, в полной форме генерального комиссара Государственной безопасности, при орденах и медалях, играл с большим азартом, сопровождая каждый удар битой крепким матерком. За столом сидели и ближайшие помощники Ежова, шел веселый разговор, перемежаемый обильным возлиянием и плотной закуской. Говорили главным образом, не стесняясь присутствием гостей, о делах служебных, иными словами, о производимых в их ведомстве арестах соратников Генриха Ягоды – предшественника Ежова на его посту. Особенно дружный хохот у Ежова и его команды вызвал рассказ о небезызвестном начальнике оперода (оперативного отдела НКВД) Карле Паукере, который, как говаривали, любил собственноручно «приводить в исполнение».
– Как надели на него тюремную робу… – смеялся один из них. – Ну совсем – бравый солдат Швейк. Чистый Швейк…
«Ты знаешь, – рассказывал мне брат потом, – я сидел за столом с ощущением, что эти люди могут, не моргнув глазом, любого гостя прямо из-за стола отправить за решетку. И мы только переглядывались изредка с Бабелем…»
Надо ли объяснять, какая судьба постигла всех присутствовавших на этом кошмарном застолье – все без исключения были в недалеком будущем расстреляны, за исключением Жени Ежовой, которая, как я уже говорил, сама наложила на себя руки. При этом Бабеля арестовал еще сам Ежов, а Кольцов, уже после ареста Ежова, был репрессирован преемником Ежова – Лаврентием Берией.
Теперь о Катаеве, с которым мы познакомились и подружились тоже в те далекие годы в Одессе.
Странным образом в Валентине Петровиче Катаеве сочетались два совершенно разных человека. Один – тонкий, проницательный, глубоко и интересно мыслящий писатель, великолепный мастер художественной прозы, пишущий на редкость выразительным, доходчивым, прозрачным литературным языком, зорко и наблюдательно подмечающий характеры людей, события, ситуации. И с ним совмещалась личность совершенно другого толка – разнузданный, бесцеремонно, а то и довольно цинично пренебрегающий общепринятыми правилами приличия самодур.
Я был довольно хорошо знаком с братьями Катаевыми – Валентином и Евгением. И иногда задумывался над тем, как несправедливо и капризно разделила между ними природа (или Бог) человеческие качества. Почему выдающийся талант писателя был почти целиком отдан Валентину Петровичу, а такие ценные черты, как подлинная порядочность, корректность, уважение к людям, целиком остались у Евгения?
Нельзя не вспомнить довольно сочную характеристику морального облика Катаева, которую то ли в шутку, то ли всерьез дал Иван Бунин в своей книге «Окаянные дни»: «…Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: “За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки…”»
Катаев, к счастью, никого не стал убивать, а его недюжинная творческая энергия устремилась в чисто литературном направлении и сделала его автором целого ряда замечательных рассказов, повестей, романов и великолепных комедий, с огромным успехом показанных на сценах многих театров.
При всем при том колючий и задиристый нрав Катаева нередко приводил к довольно скандальным ситуациям. Мне довелось быть свидетелем такой сценки на одной из встреч с иностранными журналистами, которые Михаил Кольцов затеял в руководимом им Журнально-газетном объединении. Эти встречи, как правило, сопровождались импровизированными концертными выступлениями известных артистов. И вот как-то ведущий объявляет:
– Сейчас Иван Семенович Козловский нам что-нибудь споет, потом Сергей Образцов покажет нам новую кукольную пародию, а потом…
И тут Катаев, ехидно глядя на присутствующего в зале начальника Главлита Бориса Волина, громко подхватывает:
– А потом товарищ Волин нам что-нибудь запретит.
Вспыхнувший Волин сказал, повысив голос:
– Что вы такое позволяете себе, товарищ Катаев?!
– Я позволяю себе, товарищ Волин, – незамедлительно ответил Катаев, – вспомнить, как вы позволили себе запретить «Двенадцать стульев».
– И правильно сделал. И кое-что следовало бы запретить из ваших, товарищ Катаев, антисоветских пасквилей.
Явно разгорался скандал, и я бросился искать Кольцова.
– Миша, – сказал я брату, – там сцепились Волин с Катаевым. Надо их разнимать.
И Кольцов поспешил к спорщикам.
Недобрым и недостаточно деликатным бывал Катаев к людям, с которыми находился, казалось, в хороших, приятельских отношениях. Например, он зло высмеял писателя-сатирика Леонида Ленча и его жену Лилю в повести «Святой колодец», выведя их под именем супругов Козловичей. С изощренным издевательством, но с присущим ему мастерством изображает Катаев Лилю Ленч:
«…Что касается мадам, то она была в узких и коротких штанах эластик, которые необыкновенно шли к ее стройно-склеротическим ногам с шишками на коленях…»
И далее: «…давало полное представление о ее душевном состоянии, которое отражалось на ее лице, измученном возрастом и ощущением собственной красоты».
А о самом Леониде Ленче, который обожал «Катаича» и преклонялся перед его талантом, Катаев пишет:
«…Он был в несколько эстрадном пиджаке цвета кофе о-лэ, и брюках цвета шоколада о-лэ, и в ботинках цвета крем-брюле при винно-красных шерстяных носках. Рукава его пиджака были на несколько микронов короче, чем требовала мода, а манжеты высовывались, быть может, на полтора микрона больше, чем требовала та же мода».
Так же безжалостно-саркастически Катаев описывает наружность своего друга с его «клавишами зубов, пробором от лба до затылка» и «интенсивно розовым» лицом».
Конечно, все знакомые не могли не узнать супругов Ленчей в образе Козловичей и немножко удивлялись, как с ними обошелся друг «Катаич».
А мне вскоре довелось встретить «Козловичей» в ЦДЛ, и там произошло следующее: Лиля бросилась ко мне буквально с воплем.
– Боря! Посмотрите! – кричала она, задирая юбку. – Где вы видите у меня склеротические шишки на коленях? Скажите, где их увидел Катаев?!
А стоявший рядом Ленч печально добавил:
– Не пойму, что это Катаичу вздумалось…
И так случилось, что через несколько дней я встретился с Катаевым на каком-то вечере в ЦДРИ.
– Ну, Валя, – сказал я, – довольно немилосердно обошлись вы с Ленчами-Козловичами.
– Боря! – нахмурившись, сказал Катаев. – Вы что, не знаете, что это за дама? Не знаете, кем она кое-где работала в Ленинграде? Там ее приставили к Зощенко, а потом перебросили на Ленча. Вообще она пущена по литературе.
Казалось, Катаеву пришла пора почить на лаврах, которые ему заслуженно принесли такие монументальные произведения, как «Белеет парус одинокий» или «За власть Советов». Казалось, что он вправе успокоиться на достигнутом им, бесспорно, заслуженном, высоком рейтинге среди писателей страны. Поэтому невозможно было не прийти в восхищение, глубокое и искреннее, от трех великолепных произведений, неожиданно опубликованных Катаевым: «Святой колодец», «Трава забвения» и «Алмазный мой венец». Это был совершенно новый Катаев, с решительно обновленным стилем, необычным, свежим, метафорически-раскованным. Интересным был новый, найденный Катаевым литературный прием – тонкая, изящная «зашифрованность» действующих лиц. В повести «Алмазный мой венец» фигурировал некий Командор, в котором читатель без труда узнавал Владимира Маяковского. В Королевиче узнавался Сергей Есенин. В Синеглазом – Михаил Булгаков. В Птицелове – Эдуард Багрицкий. И это, сплетаясь с достоверными фактами воспоминаний, создавало для читателя своего рода завлекательную игру.
Катаев становился легендарной фигурой. В самом деле, от кого другого на открытии в Государственном музее Маяковского возобновленной знаменитой выставки «20 лет работы» молодежная аудитория могла услышать походя и небрежно сказанное:
– Помню, Маяковский меня тогда спросил, что я думаю насчет его замысла отчитаться такой выставкой о его двадцатилетней работе поэта. Я ему ответил, что не советую этого делать, потому что это справедливо сочтут нескромностью и саморекламой. Он меня не послушался, выставку устроил. И теперь я вижу, что он был прав.
После этого мы втроем – Катаев, Соколов (единственный оставшийся из Кукрыниксов) и я – разрезали красную ленточку, обозначая этим новое, очередное открытие выставки, вернисаж которой состоялся ровно полвека назад.
Последние годы Катаев прожил на уютной даче в поселке Союза писателей Переделкино. Остряки называли этот писательский кооператив «Переделкино и Переиздаткино». Конечно, многотомные и весьма малочитаемые произведения литературных генералов переиздавались регулярно и настойчиво. Разумеется, закономерно переиздавались и завоевавшие неизменный успех у читателей романы, повести, рассказы, новеллы, юморески, выходившие из-под щедрого пера Валентина Петровича.
В эти годы я редко видел Катаева. Но однажды встретились на каком-то вечере в ЦДРИ.
– Как жизнь, Боря? Что поделываете?
– Спасибо, Валя. Нормально. В частности, отмечаю свое восьмидесятилетие.
– Банкет на четыреста персон? Не забудьте меня с Эстер.
– Конечно, не забуду, Валя. Но банкета не будет. Вместо него открытие моей первой и, наверное, последней персональной выставки. Кстати, Валя. Мне было бы очень приятно, если бы вы написали несколько слов к каталогу этой выставки. На ней много всякой сатирической всячины. Вы, кажется, неплохо в этом разбираетесь.
– А что, Боря, вот возьму и напишу.
Дня через два я приехал в Переделкино. Катаев приветливо меня принял, степенный, маститый, ублаготворенный. Настоящий мэтр. Трудно себе представить, что когда-то ему были свойственны экстравагантные, «босяцкие» выходки. Он вручил мне две странички текста, который я приведу несколько позднее.
…Перенесемся теперь обратно в Одессу двадцатого года. При власти белых в Одессе выходил неплохой сатирический журнальчик под названием «Облава», где сотрудничали Валентин Катаев, Юрий Олеша, другие будущие известные советские литераторы, причем Олеша, отлично умевший рисовать, выступал на страницах «Облавы» и как карикатурист. Интересно, что со страниц не только летели сатирические стрелы в большевиков и им сочувствующих, но печатались довольно смелые, не без иронии, зарисовки в прозе и стихах о жизни и быте «белой» Одессы.
Между тем в Одессе и вокруг нее создается весьма тревожная обстановка, активизируется белогвардейское подполье, вокруг города шныряют разношерстные бандитские шайки. К тому же приходит тяжелая весть: Киев занят польскими войсками, вместе с которыми, само собой разумеется, вернулись и петлюровцы. Как и в случае с «прижатым к морю» Деникиным, я оказался плохим пророком, вывесив на стенде Юг РОСТА сатирический плакат, где был изображен польский пан, длинный язык которого пригвождает к земле штык красноармейца. Под рисунком хлесткая подпись: «Язык, который до Киева не доведет!» Как и все мы, я не верил, что Пилсудский с Петлюрой будут долго владеть Киевом, и мечтал вернуться в родной город вслед за передовыми частями Красной армии.
Я решил перебраться в Харьков, где находилось эвакуировавшееся из Киева правительство советской Украины, а также штаб и Политотдел Юго-Западного фронта. По тем временам нельзя было пуститься в путь без какого-нибудь грозного мандата. И я немедленно смастерил, отпечатал на машинке и сам подписал документ следующего содержания: «Предъявитель сего (фамилия, имя, отчество), начальник Отдела Изобразительной агитации Юг РОСТА, направляется в город Харьков в распоряжение находящегося там для личного доклада Предсовнаркому Украины товарищу Х. Г. Раковскому заведующего Юг РОСТА тов. М. Е. КОЛЬЦОВА». Далее следовали обычные в мандатах того времени: «Предлагается всем железнодорожным властям предоставлять товарищу такому-то вне всякой очереди места в вагонах особого назначения» и т. п. Перечитав сей документ, я остался им чрезвычайно доволен и двинулся в путь.
…В моих руках вожжи, которыми я осторожно подхлестываю пару добротных коней, запряженных в классический одесский «биндюг». Рядом со мной сидит и сам биндюжник, дяденька довольно разбойничьего облика, взявшийся за приличную мзду доставить меня из Одессы в город Николаев, откуда я намерен по железной дороге добираться до Харькова. Других путей из блокированной Одессы в данный момент не существует. Вначале я, откровенно говоря, настороженно отнесся к своему вознице, подозревая в нем (и, вероятно, не без основания) участника одной из шнырявших под Одессой кулацких «зеленых» банд, замышляющего где-нибудь в пути расправиться с ответственным советским работником, то есть со мной. Он же, как потом выяснилось, решил, что имеет дело с комиссаром «Чрезвычайки», нанявшим его подводу для того, чтобы в Николаеве ее беспощадно реквизировать. Мы косо поглядывали друг на друга, почти в точности повторяя таким Образом комическую ситуацию из известного чеховского рассказа «Пересолил». Когда взаимные опасения рассеялись, мы почти подружились, чему немало способствовало обобществление извлеченных из моего чемодана съестных припасов и бутылки вина. После этого возница не мог, разумеется, отклонить мою просьбу править лошадьми, что доставило мне дотоле не изведанное и высочайшее наслаждение. Кругом шелестела залитая жгучим южным солнцем степь, звенели какие-то птички, мы ехали мимо чистеньких сельских хат, поэтических зеленых пригорков, ручейков. Тишь и благодать!.. Почти не верилось, что где-то идет война не на жизнь, а на смерть. В Николаев мы приехали к вечеру.
Дальнейшее мое путешествие в Харьков, где находился Политотдел фронта, нет надобности описывать подробно – оно было целиком в стиле той красочной эпохи. Сначала ночевка на щедро покрытом шелухой от семечек перроне николаевского вокзала. Затем посадка в поезд, иначе говоря, захват группами пассажиров стоящих на путях пустых теплушек и оборудование их досками, принесенными на собственных горбах с ближайшего лесного склада. Это было самое важное и самое трудное. Далее следовало томительно медленное движение поезда с бесчисленными остановками и многочасовыми стоянками, преимущественно в открытом поле и на разъездах, проверки документов военными патрулями, картинно увешанными маузерами и опоясанными пулеметными лентами, протяжные песни, исполнявшиеся хором всей теплушкой, бодрые призывы, обычно по ночам: «Кто есть с оружием, выходи – банда!», после чего обычно следовала старательная и беспорядочная перестрелка с невидимым противником и по невидимым целям. Так что скучать было некогда и несколько дней пути пролетели довольно быстро.
Я явился в Политотдел Югзапфронта, был сразу допущен к его начальнику, Владимиру Петровичу Потемкину, и немедленно получил назначение начальником изобразительной части всех армейских агитпунктов. Кольцов незадолго до моего приезда уехал в Москву.
Харьков живет тревожной и напряженной жизнью прифронтового города. На многолюдном митинге в помещении цирка «Миссури» со страстными речами выступают ораторы, призывающие к борьбе за советскую власть, за разгром польской шляхты. Среди них – председатель харьковского Губревкома Борис Волин, а потом и сам «Всероссийский староста» Михаил Иванович Калинин. В своем выступлении он, между прочим, говорит, что польскими войсками, стоящими против нашей 12-й армии, командует генерал Корницкий, в частях которого на недавнем русско-германском фронте воевал вахмистр Семен Буденный.
– Посмотрим, – сказал, улыбаясь с хитрецой, Калинин, – кто теперь будет лучше командовать – генерал или вахмистр.
Эти слова были покрыты громом аплодисментов. Ближайшие несколько дней внесли полную ясность в этот вопрос. Конармия Буденного прорвала польский фронт у Сквиры и ринулась к Житомиру. Польский главнокомандующий, генерал Рыдзь-Смиглый, «не знающий поражений!», как его именовала польская пресса, опасаясь попасть в окружение, счел за благо оставить Киев. Перед уходом оккупантов ими был, как известно, учинен взрыв в знаменитом Успенском соборе Киева.
…Чуден был Днепр при тихой погоде того прекрасного июньского дня, когда, прошагав от Дарницы, где у разрушенных противником путей остановился наш эшелон, я вышел к берегу прославленной реки. Горели на солнце золотые купола Лавры. Как тяжело раненный боец, лежал, полупогрузившись в воду, взорванный оккупантами при отступлении знаменитый Цепной мост – гордость киевлян. Я невольно остановился на высоком зеленом берегу, пораженный красотой реки, неба и города. Потом поднял на плечи вещевой мешок и, не дожидаясь переправы на пароме, нанял лодочника.
Надо ли говорить, сколько радости было при встрече с родителями и с девушкой, с которой я познакомился три года назад в Одессе, куда мы с мамой и Мишей приехали на купальный сезон, и так случилось, что соседями по даче оказалась семья, жившая в Киеве в соседнем с нами доме. Через год мы поженились, а через восемь лет появился на свет мальчик, в честь своего дяди названный Михаилом. Сегодня ему 70 лет.
Итак, я снова в родном Киеве. К этому времени за моими плечами уже достаточно солидный руководящий стаж, чтобы сразу же занять должность заведующего Художественноплакатным отделом киевского отделения РОСТА – КиевУкРОСТА. От руководства изобразительной частью киевского агитпункта я быстренько отделываюсь. Вместо этого начинаю активно работать карикатуристом газеты «Большевик», выходящей на украинском языке, и русской газеты «Киевский пролетарий». Работа в Художественно-плакатном отделе КиевУкРОСТА является, по сути дела, повторением того, что мы делали в одесском Изагите. Те же сатирические плакаты, оперативные сводки, срочные сообщения, которые вывешиваются нами в центре города, на Крещатике.
Отступление польских войск из Киева было, несомненно, удачным для нас началом разгоревшейся упорной советско-польской войны. Красная армия под командованием молодого, талантливого Михаила Тухачевского неудержимо двигалась на Варшаву. Уже казалось вполне реальным установление советской власти в Польше. Уже было опубликовано в газетах сообщение о создании коммунистического правительства Польши, так называемого Белостокского ревкома, в составе трех известных большевистских деятелей – Феликса Дзержинского, Вячеслава Менжинского и Феликса Кона. С понятным интересом воспринял я упоминание города моего детства в столь серьезной исторической ситуации…
В эти дни я распорядился заготовить огромный плакат «Красными героями взята Варшава». Но, увы, вывесить его не пришлось. Я снова поторопился и жестоко ошибся, как в случае с «прижатым к морю Деникиным» и панским языком, который до Киева не доведет. Тухачевский действительно дошел до Варшавы, и красноармейские части даже форсировали широкую Вислу западнее польской столицы, но дальше последовала катастрофическая военная неудача. Красные войска в беспорядке откатились от Варшавы, разбитые умелым стратегом французским генералом Вейганом, срочно прибывшим и принявшим на себя командование польской армией. Союзница Франции – Польша была тем самым спасена от советизации и, в частности, от Белостокского ревкома.
Этому жестокому поражению Красной армии, как объясняли, способствовали не только чрезвычайная растянутость коммуникаций, плохое снабжение оружием и припасами, военный талант генерала Вейгана, другие чисто военные причины, но и еще одно немаловажное обстоятельство. В составе первого советского правительства – Совета Народных Комиссаров значился мало кому тогда известный народный комиссар по делам национальностей И. В. Джугашвили (Сталин). С началом Гражданской войны он, мало заботясь о делах национальностей, отправился на фронт, стал членом Реввоенсовета Южного фронта. Уже тогда наметились его крайне недружелюбные взаимоотношения с главой Красной армии, председателем Реввоенсовета республики Троцким. Уже тогда говаривали, что знаменитый поезд Троцкого, колесивший по всем фронтам, Южный фронт объезжает стороной. Говорили, что в один из своих приездов в Москву, раздраженный постоянными препирательствами и несогласиями со строптивым Сталиным, Троцкий заявил Ленину: «Или я, или он!» На что Ленин решительно ответил: «И вы, и он!» Известно, сколько восторженных слов было впоследствии сказано и написано о боевой деятельности Сталина в Царицыне, не случайно потом переименованном в Сталинград. Там в полной мере проявились твердые, волевые черты Сталина, его решительность и жестокость. Между прочим, свои распоряжения и приказы он подписывал без всякого упоминания о делах национальностей, а просто – «народный комиссар Сталин», что звучало весьма авторитетно и грозно.
Первая Конная армия Буденного была переброшена на польский фронт и, как мы знаем, способствовала освобождению Киева, но потом вместо того, чтобы всей своей ударной силой поддержать наступление Тухачевского на Варшаву, неожиданно повернула на Львов. Сделано это было по настоянию Сталина, которому Буденный, естественно, не решился возражать – ведь ему давал указания народный комиссар.
Поражение под Варшавой, разумеется, стало предметом очень серьезного обсуждения в Кремле. И Сталину, несомненно, пришлось оправдываться… И это ох как дорого обошлось Тухачевскому. В ту пору я слышал рассказ, будто в узком кругу «вожди рабочего класса» расфилософствовались о том, что является для человека высшим счастьем. Будто бы Зиновьев патетически заявил, что для него высшим счастьем была бы мировая революция. К этому присоединился и Каменев. Бухарин сказал, что для него высшее счастье – это благополучие его близких и всего советского народа. Последним заговорил Сталин.
– Высшее счастье для человека, – объявил он, – это месть.
И твердо повторил:
– Месть!
При этом народный комиссар придерживался, видимо, чисто восточного правила: «Месть – это кушанье, которое надо есть холодным». И Сталин с его феноменальной памятью, вернее – феноменальной злопамятностью, умел годами выжидать, чтобы отведать кушанье. По вполне естественной ассоциации вспоминаю: на одной из жарких словесных баталий, происходивших в период острой внутрипартийной дискуссии года четыре спустя, я слышал, как говорил Троцкий:
– Владимир Ильич как-то сказал по адресу товарища Сталина: «Сей повар будет готовить партии только острые блюда».
Тухачевский за свое столкновение со Сталиным по вопросу о наступлении на Варшаву в 20-м году поплатился головой только в 37-м, будучи расстрелян как германский шпион и предатель Родины. Гениальный режиссер Всеволод Мейерхольд, имевший неосторожность в 1921 году посвятить один из своих спектаклей «Первому красноармейцу РСФСР Льву Троцкому», был арестован, подвергнут истязаниям и расстрелян как враг народа только в 1940-м. Писатель Борис Пильняк написал «Повесть непогашенной луны», сюжетом которой послужила смерть выдающегося полководца Гражданской войны Михаила Фрунзе, ставшего после отставки Троцкого народным комиссаром по военным делам. Фрунзе скончался во время операции, на которой настоял некий, не названный по фамилии «негорбящийся человек», уговоривший Фрунзе, что это необходимо из-за язвы желудка. Операция показала, что никакой язвы у Фрунзе не было. Повесть вышла в свет в 1927-м, Пильняк был расстрелян как японский шпион в 1941 году.
Гражданская война закончилась ликвидацией «крымского хана» барона Врангеля, принеся всенародную славу Михаилу Фрунзе, командовавшему штурмом неприступного, казалось, Перекопа. В Риге был подписан мирный договор с Польшей на весьма невыгодных для советской России условиях.
Я продолжал работать как карикатурист в киевских газетах «Большевик», «Пролетарская правда», «Киевский пролетарий». Одновременно поступил в Киевский институт народного хозяйства. При выборе специальности, хорошо зная об огромном значении транспорта хотя бы из опыта своего путешествия из Николаева в Харьков, я поступил на железнодорожный факультет. С увлечением новичка взялся за учебу, усердно посещал лекции и семинары. Прилежно вникая в новые для меня области науки, я, однако, нисколько не потерял интереса к работе в газетах. Все это вскоре привело к тому, что я очутился перед проблемой: возможно ли совместить овладение науками в институте с постоянной работой в газете без серьезного ущерба для той или иной стороны?
Сатирический бич и таблица логарифмов не умещались на одном столе. Я никак не мог принять окончательное решение, хотя больше тянуло к работе художника-журналиста – уж очень нравилась мне газетная «кухня», оживленная атмосфера редакции, нравилось быть всегда в центре новостей и событий. К тому же я довольно трезво полагал, что отечественная наука и техника, в частности железнодорожный транспорт, не очень много потеряют в моем лице. В этом меня еще больше убедил маленький трагикомический эпизод, связанный с очередными студенческими зачетами. Одной из самых оригинальных и колоритных фигур киевской профессуры был профессор Д. А. Граве – выдающийся ученый-математик, автор ряда научных трудов и, как нередко бывало среди ученых мужей, человек с некоторыми странностями и чудачествами. Студенты любили Граве, и в день первой его лекции, открывавшей обычно очередной учебный год, аудитория всегда была переполнена. Свою первую беседу профессор посвящал общей характеристике предмета, с большим подъемом и темпераментом раскрывая перед притихшими студентами своеобразную красоту такой, казалось бы, сухой материи, как математика. При этом в виде примера он неизменно рассказывал увлекательную историю о знаменитой теореме Ферма, многие годы занимающей умы математиков всего мира. Яркость изложения, искренняя любовь Граве к своей науке производили на студентов большое впечатление. К сожалению, в дальнейшем, когда наступали учебные будни и с романтических высот чистой науки приходилось спускаться к кропотливому прохождению курса – решению сложных уравнений, исчислению функций и производных, энтузиазм студентов заметно иссякал и аудитория очень часто зияла прискорбными пустотами. Зачеты Граве принимал обычно у себя на квартире и только в шесть часов утра. В сей ранний час мы и отправились к нему вместе с моим другом и сверстником студентом Беляевым (впоследствии журналистом, автором популярных очерков и ряда книг). Я шел к профессору довольно бодро, так как предмет знал прилично. Кроме того, нас с Беляевым научили опытные студенты, что очень полезно предварительно навести Граве на разговор о его статье «Межпланетное электричество», напечатанной в свое время в местной газете. Эта интересная, замечательная смелым полетом научной мысли статья произвела тем большее впечатление на читателей, что в Киеве того времени электрическое освещение было почти забыто и квартиры освещались «коптилками», то есть приборами, состоявшими из блюдечка с подсолнечным маслом и плававшего в нем на проволочной завитушке крохотного фитилька. Сначала неохотно, но постепенно увлекаясь, Граве удовлетворил проявленный нами интерес к отдельным положениям знаменитой статьи, уделив этому львиную часть времени. Потом он приступил к проверке наших знаний. Заданную мне задачу по дифференциальному исчислению я решил довольно быстро и толково. Посмотрев ответ, профессор кивнул головой и, уже беря в руки мою зачетную книжку, сказал:








