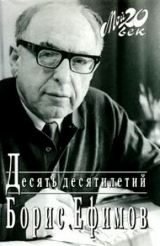
Текст книги "Десять десятилетий"
Автор книги: Борис Ефимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 45 страниц)
Неугомонную энергию и инициативность, проявленные им в дни войны, Ортенберг полностью сохранил и в последующие мирные годы. Больше того, он неожиданно для многих обнаружил неплохие литературные способности. Неожиданно потому, что на страницах редактируемой им газеты Ортенберг выступал редко и только с передовыми статьями, написанными без особого блеска.
Так вот, обратившись к литературному труду, Ортенберг написал ряд интереснейших книг, неоценимых для историков Великой Отечественной войны, воскрешая отдельные ее малоизвестные эпизоды по материалам своей газеты. Но он также сделал то, чего не удосужился сделать ни один из известных редакторов той поры – он отдал должное всем тем, кто рука об руку в едином ряду изо дня в день делали газету в грозные дни вражеского нашествия. Он увековечил память о замечательной когорте краснозвездовцев военной поры, рассказав о каждом из них, создавая яркий, точный и выразительный портрет человека.
Ортенберг не хотел, чтобы замечательное товарищество краснозвездовцев, сплотившееся искренними дружескими узами в дни военных бед, забылось и рассеялось в мирные годы. И он заботливо организовывал ежегодные встречи редакционных «однополчан» в канун Дня Победы. То были оживленные и веселые застолья в небольшом уютном зале-террасе Центрального дома литераторов. За длинным столом едва умещались «в тесноте да не в обиде» бывшие заведующие отделами, фронтовые корреспонденты, обозреватели, секретари, машинистки – вплоть до сотрудников хозотдела и бухгалтерии. Все тут были по праву – краснозвездовцы. Сам бывший редактор отнюдь не занимал главного места, он скромно сидел сбоку, не произнося никаких приличествующих случаю речей, а только добродушно посмеивался, слушая других. А во главе стола находился ведущий, то есть тамада, нелегкие обязанности которого традиционно возлагались на меня…
Звучали всевозможные заздравные тосты, поминали не вернувшихся с фронта краснозвездовцев, нестройным хором запевали «Корреспондентскую застольную» Симонова с ее памятными, точно отражавшими то время строчками:
…Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортер погибнет – не беда…
…Жив ты или помер —
Главное, чтоб в номер
Матерьял успел ты передать.
И чтоб, между прочим,
Был фитиль всем прочим,
А на остальное – наплевать!
Традиционным поводом для шуток и острот был вопрос о том, кто больше всех в редакции боялся грозного редактора. Пальма первенства единогласно присуждалась Евгению Габриловичу. И сам он, тут же сидящий с золотой звездой Героя Соц-труда на груди, смеясь, подтверждал, что боялся главного. Сам Ортенберг слушал это снисходительно и благодушно, пожимая плечами, как бы говоря: «Может, и было такое. Зачем вспоминать? Дело прошлое…»
…Неумолимы законы природы. И число краснозвездовцев на этих веселых встречах неуклонно сокращалось из года в год. И настал такой день, когда зал-терраса больше не понадобился. Нас было вместе с Ортенбергом – пятеро. А на сегодня – остался я один…
Своих соратников по «Красной звезде» Ортенберг неизменно провожал в последний путь, говоря у гроба прощальные добрые слова. Сам он достиг весьма почтенного возраста – достойно и уважительно отмечалось его девяностолетие на многолюдном собрании в Доме журналиста. Но Давид Иосифович так же активно продолжал работать и ушел из жизни, готовя к печати очередную книгу – буквально на посту публициста, историка, подлинного фанатика журналистского дела.
Рассказывая о редакции «Красной звезды», о людях, работавших там в тяжкие военные годы, нельзя не вспомнить Александра Кривицкого.
Его острые, безупречным литературным языком сказанные реплики, неожиданные, оригинальные суждения, веселые и смелые парадоксы – все это сразу привлекало к этому человеку интерес, приковывало внимание. В полемике, шутливой или серьезной, он был непобедим. Сколько раз на моих глазах он «укладывал на обе лопатки» весьма достойных соперников и весьма зубастых оппонентов. Огромная, разносторонняя эрудиция, энциклопедические знания в литературе и истории, особенно военной, какая-то особая «оперативность» доводов и аргументов сочетались в нем с истинно дьявольской находчивостью, с неотразимостью точного и хлесткого сарказма.
– Экий злой язык, – говаривали, бывало, побитые оппоненты. – С ним только свяжись… Но умен. Чертовски умен.
Злой, но умный. Умный, но злой. Таково было расхожее мнение о Кривицком. Расхожее, но, надо сказать, поверхностное: Саша вовсе не был злым человеком. Ему были свойственны настоящая доброта, искреннее участие в постигшем другого огорчении, беде, готовность прийти на помощь. Но мог он стать и беспощадным – когда сталкивался с лицемерием, приспособленчеством, пошлостью. Тогда его обычно добродушный взгляд из-за толстых стекол очков становился колючим, резким, непримиримым.
Врожденный дефект речи – заикание – заставлял его избегать публичных выступлений с трибуны, но в тесном кругу, в деловой или товарищеской беседе заикание нисколько не мешало убедительности и доходчивости его слов и даже, не боюсь сказать, придавало ему своеобразное обаяние. Он был одаренным литератором, его передовые статьи в газете «Красная звезда», очерки и корреспонденции написаны живым, образным языком. В этом можно убедиться, познакомившись с трехтомником его произведений.
Александр Кривицкий тесно связан в моих воспоминаниях с Константином Симоновым. Я хорошо знал обоих. С Симоновым у меня было долголетнее доброе знакомство, а с Кривицким – подлинная дружба. И с обоими ассоциируются совместно пережитые события, испытания, сложные и подчас весьма нелегкие, военных и послевоенных лет. И обоих – первым Симонова, а два года спустя Кривицкого – выпало на мою долю провожать в последний путь.
Мало кто знает, как много значили друг для друга эти два человека. Мало кто знает, как важно было для Симонова мнение Кривицкого о любых его произведениях – романах, повестях, стихах, пьесах.
Помню, как-то мне позвонил Саша:
– Б-боря! У меня к вам серьезное предложение. Б-берите под ручку Раису, и вместе с женами двинемся во МХАТ на премьеру с-симоновской пьесы «Чужая тень». Мы за вами заедем.
В последнем антракте мы подошли к Симонову.
– Ну, Константин Михайлович, – заговорил я, – большое, большое спасибо. Смотрится с большим интересом.
Тут я поперхнулся на полуслове, заметив, что Симонов меня не слушает. Рассеянно кивнув головой, устремил выжидающий взгляд на Кривицкого. Тот молчал. Симонов ждал. Наконец Кривицкий сказал:
– Пьеса явно написана наспех.
Симонов, после некоторой паузы, сумрачно ответил:
– Ты же знаешь, при каких обстоятельствах я взялся писать эту пьесу и по чьему заданию…
…Книга Бориса Панкина о Константине Симонове содержит много ценных фактов и наблюдений. Я прочел ее с интересом. В ней немало деталей и размышлений о временах и людях, знакомых мне не понаслышке. Упоминается там и Кривицкий, причем в крайне неприятном для него контексте. Имеется даже недвусмысленный намек на то, что Кривицкий был при Симонове осведомителем для «некоторых органов». При этом Панкин опирается на шутливое замечание Симонова: «Если и так, то всегда лучше знать, кто на тебя стучит». Я охотно верю, что Симонов, как и многие другие видные писатели, редакторы, другие деятели культуры, находился, что называется, «под колпаком». Но не допускаю и мысли, что этим мог заниматься Кривицкий – ему слишком был близок и дорог Симонов, чтобы Саша мог ему чем-то повредить.
Кстати, о «стукачах». Думаю, что в сталинские времена все наше общество, все наши культурные, научные, производственные структуры, театры, редакции газет и журналов, весь наш быт пронизывала вездесущая система «стукачества». По извращенным, аморальным понятиям той поры, «стукачество», доносительство почиталось гражданским долгом каждого человека. Отказ от этой «почетной обязанности» был чреват весьма крупными неприятностями. Я лично знаю только один-единственный пример уклонения от роли «стукача». Это был художник Порфирий Крылов (один из троицы Кукрыниксов). Его отказ вызвал большое неудовольствие на Лубянке, что стало причиной неизлечимой психической травмы для художника.
Весьма сомнительными представляются мне в книге Бориса Панкина сведения о наступившем якобы охлаждении и отчуждении между Симоновым и Кривицким в последние их годы.
Ближе к истине, пожалуй, то, что в ту пору они оба были пожилыми, часто болеющими людьми, подолгу лежали в больницах, а поэтому редко общались.
В ряде произведений Симонова фигурирует военный журналист Гурский, чей образ и манера разговаривать целиком списаны с Кривицкого. И все без труда узнавали Кривицкого, его заикание, парадоксальность суждений, веселую иронию, «злой» язык, личную отвагу. И вдруг в одной из новых повестей Симонова мы прочли о том, что Гурский погиб на фронте. При очередной встрече я не удержался и спросил у Кривицкого:
– Что же это, Саша, Симонов вдруг вздумал преждевременно отправить вас на тот свет?
Сказал и тут же пожалел об этом, ожидая от Кривицкого колкого ответа. И он незамедлительно последовал.
– Б-боря, – сказал Кривицкий со сдерживаемым раздражением (видно, я не первый лез к нему с этим вопросом), – все дело в том, что Симонов писал не биографию т-товарища Кривицкого, а вполне с-самостоятельное художественное произведение, где автор вправе р-распоряжаться судьбами героев по с-своему усмотрению. М-может быть, вы заметили, что и до него так поступали многие п-писатели?
К истории о Гурском – прототипе Кривицкого можно добавить надпись, которую сделал Симонов на подаренной им Кривицкому книге, где рассказывалось о героической гибели Турского: «Прототипу от просто типа. Саше Кривицкому от Кости Симонова».
…В октябре 1941 года мы с Кривицким были включены в состав оперативной группы «Красной звезды», которой, как и аналогичным группам «Правды» и «Известий», надлежало по решению руководящих инстанций обеспечить, в случае взятия немцами Москвы, бесперебойный выпуск центральных газет в Куйбышеве.
Однако уже через пару дней редактор Ортенберг, видимо, спохватился, что лишил газету самого оперативного и безотказного автора передовых статей. Возможно, требовалось и наличие в газете злободневной карикатуры. Так или иначе, но по прибытии в Куйбышев нас ожидала телеграмма с приказом редактора немедленно вернуть в Москву Кривицкого и Ефимова. Помню, как мы с Сашей в полном дорожном снаряжении сидели в номере гостиницы в томительном ожидании звонка к отправлению на аэродром. Наконец поздней ночью звонок последовал. Из управления делами Совнаркома сообщали, что из-за перегруженности самолета «Красной звезде» может быть предоставлено только одно место. Сомнений в выборе не было: полетел Кривицкий. Я вернулся в Москву несколько позже, поездом, в одном купе с Ильей Эренбургом.
Наиболее известной публикацией Кривицкого в «Красной звезде» в годы войны был очерк о подвиге 28 героев-панфиловцев у подмосковного разъезда Дубосеково, которые все полегли смертью храбрых, но не пропустили к Москве группу немецких танков. Это был, безусловно, один из тех мифов, без которых не обходится история войн. И примечательно, что в сегодняшнем гимне Москвы звучат слова: «…И в сердцах будут жить двадцать восемь самых храбрых твоих сынов!» А на самом-то деле далеко не все герои-панфиловцы погибли. Много лет спустя оставшиеся в живых настойчиво требовали выдачи им золотых звезд, положенных Героям Советского Союза, которыми они были награждены «посмертно».
В своем очерке Кривицкий привел и вещие слова политрука Клочкова, облетевшие всю страну и ставшие хрестоматийными: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»
Помню, я как-то открыл дверь в крохотную комнату литературного отдела (я любил наведываться к Саше, «потрепаться» с ним, услышать что-нибудь новое, интересное). В кабинете было несколько человек, разговор шел как раз об очерке Кривицкого, спорили о каких-то не совсем ясных деталях, высказывались какие-то сомнения. Саша взял со стола свою книжку о подвиге панфиловцев, только что вышедшую миллионным тиражом, и потряс ею в воздухе.
– Говорите, что х-хотите, – сказал он, – а в-вот эта г-гов-няная книжка ч-через д-двадцать пять лет б-будет первоисточником!
Согласовывая какие-то редакционные материалы, Кривицкий был на приеме у А. С. Щербакова, секретаря ЦК партии и начальника Главного политического управления Красной армии. Покончив с делами, Щербаков неожиданно спросил:
– Товарищ Кривицкий, скажите. Все двадцать восемь панфиловцев погибли. Кто мог вам поведать о последних словах политрука Клочкова?
– Никто не поведал, – напрямик ответил Кривицкий. – Но я подумал, Александр Сергеевич, что он должен был сказать нечто подобное.
Щербаков долго молчал, глядя на Кривицкого, потом сказал:
– Вы очень правильно сделали, товарищ Кривицкий.
Сказал он это с явной неохотой. Но в данном конкретном случае он, по справедливости, не мог не признать подлинное публицистическое и пропагандистское озарение автора очерка о 28 панфиловцах.
И легенда осталась легендой.
А эта, в своем роде, историческая книжечка хранится у меня с такой надписью ее автора:
– «Дорогому Боречке Ефимову – хорошему человеку с милым сердцем и веселым характером. 21 декабря 1942 года А. Кривицкий».
…Одновременно со мной в «Красную звезду» пришел Илья Эренбург. В сороковом году он вернулся из Парижа, где был очевидцем того, как немцы заняли французскую столицу, и напечатал несколько очерков о своих впечатлениях в газете «Труд». А потом неистовый Ортенберг «перетащил» его в «Красную звезду». Редакция центральной военной газеты помещалась тогда во дворе дома № 16 по улице Чехова, но при первой же воздушной бомбардировке Москвы 22 июля 1941 года здание редакции было сильно повреждено взрывной волной упавшей неподалеку фашистской бомбы. Пострадало и хлипкое журналистское убежище, которому редакционные остряки присвоили название, повторявшее усиленно пропагандируемый со страниц газеты лозунг – «Презрение к смерти». А газета переехала и разместилась в помещениях Центрального театра Красной Армии.
«Тайфун» неуклонно и зловеще приближался к Москве. Фанатически уверовав в обещание фюрера, что взятие Москвы означает конец войны и возвращение по домам с богатыми трофеями, гитлеровцы бешено рвались к столице. Тысячи москвичей стали покидать родной город. И сразу же наметилась четкая грань между москвичами уходившими и москвичами остающимися. Остающиеся считали уходивших трусами и паникерами, а себя – мужественными патриотами. В свою очередь уходившие из Москвы посматривали на остающихся с подозрением – не намерены ли они приспособиться к оккупантам, а может быть, и пойти к ним в услужение. Пятнадцатого октября с вокзала, скупо освещенного закрашенными синей краской лампами, я проводил жену в далекий безопасный Омск. Вернулся в опустевшую квартиру, уложил в рюкзак необходимые вещи, с грустью оглядел полки с красивыми рядами собранных за многие годы книг и, подумав, добавил в рюкзак два томика миниатюрного академического собрания сочинений Пушкина – «Поэмы» и «Евгений Онегин». Потом запер квартиру на висячий замок и поехал в редакцию «Красной звезды», которая отныне и надолго стала моим домом. Это называлось тогда «перейти на казарменное положение». В вестибюле ЦТКА я встретил Илью Эренбурга и поэта Михаила Голодного. В отличие от меня, пришедшего в редакцию, как домой, они уходили из редакции по своим домам.
– Положение серьезное, Илья Григорьевич, – сказал я.
– Вы находите? – не без иронии произнес Эренбург. – Да, серьезное. Они будут здесь через два дня.
Я посмотрел него с ужасом:
– Как это? О чем вы говорите, Илья Григорьевич?
– Очень просто. Сегодня у нас вторник? Они будут здесь в пятницу. Я уже видел это в прошлом году в Париже.
И взяв свою портативную пишущую машинку, он направился к выходу.
В помещениях театра, где разместилась «Красная звезда», царила обычная редакционная суета. Непрерывно звенели телефоны, приезжали и вновь исчезали взмыленные репортеры и фотокорреспонденты. Курьеры разносили чай и влажные типографские оттиски. Ко мне подбежал секретарь редакции, политрук Копылев.
– Где вы были? Редактор уже два раза о вас спрашивал.
Оказалось, что «неистовый» Давид счел, что в такой острый момент газета не может выйти без веселой карикатуры. И Копылев протянул мне листки с отчетом о пресс-конференции начальника Совинформбюро С. А. Лозовского.
– Редактор сказал, чтобы вы тут нашли что-нибудь по своей части.
«По своей части» я нашел следующие слова Лозовского: «…Когда пискливый голос павиана Геббельса благодаря громкоговорителям и вассальным радиостанциям превращается в рев, я вспоминаю старую персидскую пословицу: “Если бы рев имел цену, самым дорогим животным на свете был бы осел!”».
Примостившись за каким-то столиком, я быстро смастерил карикатуру, на которой был и павиан-Геббельс, и ревущий радио-осел. Копылев рысью отнес этот рисунок редактору и от него тем же аллюром сдал в типографию. На другой день карикатура появилась в газете вместе с сообщением, в котором, пожалуй, впервые были такие слова: «Положение на Западном фронте ухудшилось…» Я заснул на каком-то узком диванчике под грохот отдаленных взрывов. Это прорвавшиеся к Москве фашистские самолеты сбросили несколько зажигательных и фугасных бомб.
Разумеется, никакие самые остроумные и язвительные карикатуры и плакаты не препятствовали неумолимому приближению «Тайфуна». Весь мир, затаив дыхание, следил за развитием событий под Москвой. И Сталин счел нужным в этот момент продемонстрировать перед всем миром самообладание и уверенность в своих силах – он приказал провести традиционный Октябрьский парад 7 ноября на Красной площади. Погода этому благоприятствовала – небо было затянуто тяжелыми тучами, шел снег. Фашистская авиация не могла прицельно бомбить Москву, и в частности Красную площадь. Переброшенные на несколько часов с передовых позиций войска выстроились против мавзолея.
Выступление Сталина было целиком в его стиле – оно не походило на пламенный призыв Вождя к идущим на смертный бой воинам. Как всегда, спокойно, размеренно и монотонно он сделал обзор исторических событий, начиная с восемнадцатого года, когда положение было несравненно труднее и опаснее, подчеркнув, что сегодня, 23 года спустя, наша страна гораздо более сильна и несомненно выйдет победительницей в борьбе с гитлеровской Германией. Немного странно прозвучали, конечно, в момент, когда враг стоял под стенами Москвы, слова о том, что «…враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики. Не так страшен черт, как его малюют… Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик – и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений…»
Признаюсь, что, будучи одним из «перепуганных интеллигентиков», я не слишком поверил в этот прогноз. Действительно, как известно, ни через полгода, ни «через годик» гитлеровская Германия не «лопнула», а упорная, ожесточенная война длилась еще три с половиной года. Между прочим, много лет спустя академик Иван Михайлович Майский, один из сопровождавших Сталина на Потсдамскую конференцию победного сорок пятого года, рассказал мне: он как-то осмелился спросить у Сталина, какие были основания к этому оптимистическому прогнозу тогда, в суровом сорок первом году. Сталин, бывший, видимо, в хорошем настроении, удостоил его ответом:
– А никаких оснований не было. Надо было просто приободрить людей.
Свою речь на Красной площади Сталин закончил отнюдь не традиционными для предыдущих Октябрьских годовщин напоминаниями о великой силе марксистско-ленинского учения, о построении социализма в нашей стране, не призывом к соединению пролетариев всех стран. Он безошибочно нашел самые нужные и верные в данный момент слова: «…Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!..»
Дальнейшее хорошо известно. Немцы потерпели под Москвой сокрушительное поражение и откатились на многие десятки километров от столицы. Главное, был развеян миф о непобедимости немецкой армии.
Москва осталась, по сути дела, прифронтовым городом, но какая разительная перемена в настроениях и перспективах. Неизмеримо укрепилась вера в победу, оптимистичней стали смотреть в будущее. А карикатуристы получили настоящие, не высосанные из пальца сатирические сюжеты: расправа разъяренного неудачей Гитлера с проигравшими московское сражение генералами, отставка фельдмаршала Браухича с поста Главнокомандующего, каковую должность фюрер возложил на себя самого. Доходчивый сатирический образ подбросил карикатуристам и Сталин, сказав, что Гитлер так же похож на Наполеона, как котенок на льва. Правда, мне лично показалось, что образ «котенка» – это нечто приятное, забавное, ласковое и поэтому я внес свою поправку: рисовал Гитлера в наполеоновской треуголке, но не котенком, а страшным, облезлым, одичалым котом. А очередной новогодний рисунок, где был изображен традиционный малыш с цифрой 1942, стоящий на рвущемся вперед мощном танке, я озаглавил радостным каламбуром: «Наступающийновый год».
Несмотря на близость фронта москвичи чувствовали себя в безопасности. О воздушных налетах на столицу почти забыли. Уехавшие из города в октябре тысячами возвращались обратно. Редакция «Красной звезды» покинула Центральный театр Красной Армии и разместилась в здании газеты «Правда», заняв весь пятый этаж. Я по-прежнему находился на «казарменном положении», разделяя крохотный кабинет с фотокорреспондентом Боровским. Это «казарменное положение» было чрезвычайно удобным для редактора: все в любое время под рукой. Однажды, поздно вечером, меня разбудил тот же Герман Копылев и вызвал к Ортенбергу. Одеваться не было надобности: холод в редакции стоял такой, что, ложась спать, я снимал с себя только пенсне.
– Смешная штука, – сказал редактор, протягивая мне листок с ТАССовской информацией. – Немцы распределяют теплые вещи по одной-две на подразделение, и солдаты носят их по очереди.
– Не поздно ли, товарищ редактор? – спросил я.
– Успеете, – ответил Ортенберг и отвернулся к типографским гранкам, которые он просматривал, стоя за конторкой.
Пожав плечами, я отправился к себе, по дороге мысленно набрасывая нужный рисунок. «Носят по очереди… Так… Есть такое выражение “в порядке живой очереди”. Лютый мороз… Один немец стоит в полушубке и валенках, другие стоят к нему в очереди, еле живые от холода. Вот и название карикатуры: “В порядке полуживой очереди”».
Минут через сорок я отдал готовый рисунок Копылеву.
– Подождите ложиться спать, – сказал он. – Могут быть поправки. Вы же его знаете, – добавил он, подмигнув, и скрылся за дверью редакторского кабинета. Через минуту он оттуда выглянул и поманил меня пальцем. Я неохотно вошел.
Редактор держал мой рисунок, а за его спиной смотрел на карикатуру его заместитель Григорий Шифрин и громко смеялся. Ортенберг слабо улыбнулся, отдал карикатуру Копылеву со словами: «В печать», потом стремительно зашагал по кабинету, потирая озябшие руки и обратился к Шифрину:
– А Ефимов еще не был на фронте?
– Не был, товарищ редактор, – ответил я.
– Выезжаем завтра утром. Всем быть к семи часам у подъезда. Ждать никого не станем.
В назначенное время у подъезда стояли поэт Константин Симонов, фотокорреспондент Михаил Бернштейн, атлетический мужчина в кожаном пальто и с несколькими медалями на груди и я. Вышел Ортенберг и дал команду садиться в машину.
– А как же «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» – спросил Симонов, имея в виду Алексея Суркова, которому было посвящено это стихотворение.
– Я сказал – ждать никого не станем, – сухо ответил редактор, и мы поехали.
По пути наша машина остановилась у ворот одного из домов на Поварской улице. Симонов нырнул в глубь двора и скоро вернулся с молодой женщиной в белом полушубке, белой ушанке и таких же белых валенках. Это была жена Симонова – Валентина Серова, популярная актриса театра и кино. Мы переехали Бородинский мост, промчались по Дорогомиловской улице и выехали на Можайское шоссе, проехали мимо Поклонной горы. (В который раз все эти названия напомнили времена наполеоновского нашествия…) В машине лежала пачка сегодняшней «Красной звезды», где была, кстати, напечатана и моя карикатура. Завидев на дороге прохожих, Ортенберг приоткрывал окно и, как птиц, выпускал на волю несколько номеров газеты. Их тотчас же подхватывал ледяной ветер. Глядя в заднее окошечко и убедившись, что они подобраны прохожими, Ортенберг говорил с довольной улыбкой:
– Уже получили сегодняшнюю «Звездочку». Неплохо, а?
Когда мы подъехали к штабу дивизии, мороз настолько освирепел, что войти в теплую избу было истинным наслаждением. Командующему дивизией Орлову, которому на днях было присвоено звание генерал-майора, Ортенберг привез подарки – генеральскую папаху и шинель с соответствующей нарукавной нашивкой (погоны еще не были введены).
– Доложите обстановку, – попросил Ортенберг.
На столе разложили карту. После карты на столе появились горячие щи и вареное мясо. По стаканам, не скрою, разлили разведенный спирт. Были произнесены соответствующие тосты, а потом Симонов прочел свое знаменитое, облетевшее и фронт и тыл стихотворение «Жди меня», посвященное, как все знали, Вале Серовой. Мы искоса на нее посматривали, а она сидела скромно потупив глаза. С удовольствием осмотрев привезенные ему обновы, Орлов провожал нас так же, как и встречал – в кожаном танкистском шлеме и закопченном полушубке. Уже стемнело, когда мы подъехали к переднему краю, вошли в просторную избу, где располагался КП (командный пункт) дивизии. Кто-то, стоявший коленями на стуле, кричал в находившийся на столе полевой телефон:
– Хозяин недоволен такой работой! Хозяин крепко недоволен такой работой! Сколько вы будете возиться с этой высоткой? Что? А ты им огурчиков! Огурчиков!..
И опять:
– Хозяин крепко недоволен такой работой!..
Под крики о недовольстве неведомого «хозяина» я стал присматривать себе местечко для отдыха, а может быть, и для сна – предполагалось, что только поздней ночью мы выйдем на передовую линию, чтобы наблюдать штурм этой самой высотки. Симонов и Серова уже сидели рядышком на какой-то раскладушке и о чем-то шептались. Между прочим, мне были известны их заботы: Симонов в это время работал над пьесой «Русские люди», которая вскоре с огромным успехом прошла чуть ли не по всем театрам страны. И одной из целей их поездки была встреча с уже прославившим себя полковником Полосухиным. От него Симонов рассчитывал почерпнуть интересные боевые эпизоды. Поспать, однако, не пришлось. Часа через два Ортенберг дал команду выходить. Глубоко волнующее, драматическое впечатление произвели на меня молчаливые ряды одетых в маскировочные белые халаты бойцов на лыжах с автоматами и ручными пулеметами в руках. Вскоре они куда-то двинулись и исчезли в ночном сумраке. Мы вернулись на КП, но тут же неугомонный Ортенберг велел всем выходить и ехать в штаб Пятой армии, куда мы прибыли поздно ночью. А наутро мы двинулись на КП командующего Пятой армией, в недалеком будущем Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова. Для меня это был, пожалуй, самый интересный эпизод нашей поездки. Говоров весьма любезно встретил нас в своей просторной землянке в пять накатов. С ним находились еще два генерала, приехавшие с Дальнего Востока. Ортенберг не отказал себе в удовольствии представить военачальникам своих спутников. Происходило это так:
– Вы видели фильм «Девушка с характером»? Так вот, позвольте вам представить актрису Валентину Серову.
– Как же, как же, – раздавалось в ответ. – Конечно, видели. Весьма, весьма приятно!
– А вы читаете в «Красной звезде» стихи Константина Симонова? Так вот, он перед вами, собственной персоной.
– Как же, как же! Читали. Весьма приятно. Весьма…
– А вы смотрите в «Красной звезде» карикатуры Бориса Ефимова? Так вот…
– Как же… – слышалось уже с несколько меньшим энтузиазмом. – Видели… Весьма…
Такая процедура повторялась, между прочим, повсюду, где мы бывали с Ортенбергом…
Из разговора с Говоровым вскоре выяснилось, что проехать в расположение частей Полосухина на тяжеловесном редакционном ЗИСе невозможно. Надо было пересаживаться в легковую машину, в которой для всех нас места не хватало. Ортенберг быстро разрешил эту проблему.
– Симонов и Серова не разделяются, – сказал редактор. – Бернштейн будет снимать. Здесь останется Ефимов.
Они отбыли. Куда-то уехали и все генералы. Я остался один и как-то сразу заскучал. К тому же усилилась канонада, и мне почудилась даже трескотня пулеметов. Подобно матросу-новичку, который видит бушующие волны там, где для опытного моряка только легкая зыбь, я не отличал выстрелы наших орудий от разрывов немецких снарядов. И подумал, не началось ли на этом участке фронта большое немецкое наступление… Испытывая некоторую тревогу, я одиноко сидел в землянке КП, как вдруг к моей радости вернулся Говоров с группой офицеров и началось оперативное совещание. Один из работников штаба намекнул мне, что присутствие постороннего человека здесь нежелательно. Но мне до того не хотелось уходить, что я набрался смелости и обратился к Говорову:
– Леонид Александрович! Мне, как журналисту, здесь очень интересно. Позвольте остаться.
– Пожалуйста, пожалуйста, – рассеянно сказал Говоров. – Оставайтесь.
Работник штаба недружелюбно на меня посмотрел, но я его уже не боялся. И мне действительно было исключительно интересно наблюдать, как, подобно опытному хирургу во время сложной операции, немолодой подтянутый военный с аккуратной щеточкой усов управлял огромным армейским механизмом. Лаконично и деловито он сообщал кому-то по телефону, что положение на определенном участке фронта осложнилось, так как немцы довольно значительными силами (была указана цифра) перешли водный рубеж. Затем было дано задание выяснить, куда девалось «хозяйство Белова», прибытие которого ожидалось с нескрываемым нетерпением. Строго напоминалось какому-то Семенову, чтобы он немедленно вернул в «хозяйство Ткаченко» взятые им неделю тому назад на два дня «эрэсы». Был вызван начальник разведки, которого генерал очень спокойно, не повышая голоса, но весьма чувствительно распушил.
– Вы, может быть, думаете, что вести разведку – это значит регистрировать донесения и разносить их по карточкам? – ядовито-вежливо спрашивал командующий. – Или считаете, что я должен довольствоваться разведданными недельной давности? А если нет, то не будете ли вы добры объяснить, каким образом на стороне противника появилась свежая эсэсовская часть? Когда она прибыла? Откуда переброшена? Какова ее численность и вооружение? Не укажете ли вы, от кого я могу рассчитывать получить эти сведения, если ими не располагает начальник моей разведки?








