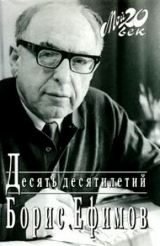
Текст книги "Десять десятилетий"
Автор книги: Борис Ефимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
Я беру в руки листок той поры, который представляется мне особенно примечательным. Это – отпечатанное типографским способом обращение с эмблемой ЦДРИ, куда после слова «многоуважаемый» вписаны от руки мое имя и отчество. Далее сообщается о том, что ЦДРИ СССР «начал большую и очень важную работу» над тем, чтобы «в нем встречались люди, всей своей жизнью связанные с искусством». Немногословное это обращение заканчивалось подлинно проникновенным призывом:
«Война и подготовка к огромной работе восстановительного периода обязывают всех нас к настоящей большой дружбе. Вот почему мы уверены, что на это наше письмо Вы ответите согласием стать участником творческой жизни ЦДРИ».
На этом письме стояли собственноручные подписи А. В. Неждановой, А. В. Александрова, В. И. Мухиной, И. Я. Судакова, Н. С. Голованова – корифеев нашего искусства. Но приковывает внимание еще одна деталь – на обороте письма напечатано Положение о членстве в ЦДРИ, утвержденное советом ЦДРИ 16 июля 1943 года. Надо ли подчеркивать смысл этой даты? Надо ли напоминать, что 5 июля этого третьего года Великой Отечественной войны переходом к наступлению мощной группировки немецко-фашистских армий началась гигантская историческая битва на Курской дуге? Надо ли рассказывать, что к 11 июля бешеный натиск врага был остановлен, а 12–16 июля советские войска, сломив отчаянное сопротивление гитлеровцев, перешли в неудержимое контрнаступление, ставшее прелюдией к окончательному сокрушительному разгрому фашистской Германии?
Вдумаемся! Разве не поразительно и не символично, что именно в эти раскаленные июльские дни, под гром тысяч орудий и скрежет сталкивающихся танковых дивизий и корпусов, виднейшие деятели советского искусства глубоко верили, что уже не за горами победа, и задумывались о развитии культуры в стране после войны. И «музы» заговорили с новой силой и вдохновением, внося свой вклад в великое дело возрождения нашего государства, израненного вражеским нашествием.
Я с величайшей охотой откликнулся на призыв «стать участником творческой жизни ЦДРИ». И, собственно, именно с этого времени исчисляю свой переход из категории посетителей Дома в ряды его активистов.
Между прочим, размышляя о роли искусства в трудные и жестокие военные дни, я не могу не сказать о деятельности художника Бориса Пророкова. Ему не довелось принимать участие в Гражданской войне по той уважительной причине, что к ее окончанию он был девятилетним мальчиком. Но в Великую Отечественную войну он вошел уже взрослым человеком и известным художником. С первых дней войны добровольцем ушел в армию и провоевал все четыре года, как говорится, «от звонка до звонка», совмещая в себе бесстрашного солдата, активного политработника и неутомимого, наблюдательного фронтового художника. Пророков прошел через суровые боевые испытания в блокадном Ленинграде, на кораблях Балтфлота, на знаменитой «Малой земле» и, пожалуй, самые трудные – на полуострове Ханко (Гангут). Отрезанный от главных сил Красной армии, гарнизон Ханко в течение нескольких месяцев храбро отражал атаки фашистов, непрерывно бомбивших и обстреливавших полуостров. Защитники Ханко окопались в земле. Под землей находилась и редакция газеты «Красный Гангут», для которой Пророков рисовал портреты отличившихся бойцов и многочисленные, метко и беспощадно высмеивавшие врага карикатуры на гитлеровцев. Пророков – один из авторов саркастического «Письма барону Маннергейму», посланного защитниками Ханко в ответ на предложение капитулировать. Текст «Письма» и сопровождающие его рисунки Пророкова выдержаны в стиле знаменитого послания запорожцев турецкому султану. Но вскоре пришел день, когда наше командование приняло решение оставить полуостров Ханко и эвакуировать его героических защитников. Уход с Ханко происходил в труднейших условиях, под непрерывным вражеским огнем с воздуха и с моря. Корабль, на котором находился Пророков, наскочил на мину, начал тонуть, и многих охватила растерянность, грозившая перейти в панику. Пророков был в числе тех, кто сохранил самообладание и присутствие духа, он помогал эвакуировать раненых и установить порядок. Сам он одним из последних спрыгнул на подошедший тральщик.
А после Ханко были для него другие фронты, новые бои, новая опасная работа фронтового художника. В последний год войны он перенес подряд две тяжелые контузии, результатом которых стала неизлечимая, мучительная головная боль с приступами конвульсий, терзавшая его до конца жизни. Без малого тридцать лет, мужественно превозмогая коварный, злой недуг, Пророков продолжает работать как художник, оставив после себя произведения высокого художественного, гражданского и нравственного значения.
Свою творческую биографию Борис Пророков начинал как одаренный и остроумный карикатурист. Несколько лет он постоянно печатается в «Комсомольской правде», а с 1938 года приходит в «Крокодил». Там я с ним и познакомился лично, и между нами установились добрые, дружеские отношения. Талантливый художник, он импонировал людям своим спокойным уравновешенным характером, чувством собственного достоинства, непоказной твердой принципиальностью. Пророков продолжает работать в жанре карикатуры, но диапазон его творчества растет из года в год. Художника начинает привлекать более серьезная тематика, более сложные художественные задачи. Он отходит от газетной и журнальной карикатуры и решительно становится на путь создания станковых, плакатно-символических монументальных образов, поднимаясь в них до художественных обобщений огромной силы. Роковая болезнь мешает его общению с людьми, но выходящие из его мастерской плакаты, картины, станковые серии, пронизанные подлинной публицистической страстью, раздумьями, сарказмом, трагизмом, завоевывают ему всенародную славу, приносят почетные звания и правительственные награды. Вместе с тем, из своего нелегкого затворничества Пророков внимательно следит за всем, что происходит в окружающем мире. Вот убедительный пример. После моего доклада на очередном пленуме Союза художников, где-то году в 60-м, я получаю от Пророкова следующее письмо.
«Дорогой Борис Ефимович!
Обращаюсь к Вам, как к докладчику. Некоторые положения доклада вынуждают меня сделать это.
Упрек, брошенный Сойфертису в том, что ему якобы неинтересно рисовать международные темы, несправедлив, а лично мне кажется оскорбительным. Кстати о Сойфертисе. Это – художник, который с большим интересом и искренностью работает в области международной карикатуры. Наперекор существующему шаблону, он пытается привнести в рисунок дыхание жизни, непосредственность наблюдений. Огромное количество труда отдает он на поиски нового реального типажа. Казалось, такие начинания нужно приветствовать и поддерживать, а не отгонять талантливого художника от жанра, в котором он так успешно трудится.
…Простите меня за эту бюрократическую записку, да беда в том, что я опять четвертый месяц валяюсь и не могу лично побеседовать с Вами.
Желаю успехов и здоровья
Душевно преданный Вам Б. Пророков».
Я ему ответил:
«Дорогой Борис Иванович!
Большое спасибо за отклик, который тем более для меня интересен и ценен, что наши художники, к сожалению, не очень щедры на критические и полемические выступления, предоставляя эту неблагодарную работу немногим энтузиастам, таким, как Вы или я. Надо ли подчеркивать, что я совершенно не претендую на безошибочность своих суждений и бесконечно далек от намерения «оскорбить» Сойфертиса – прекрасного художника, которого я, как и Вы, высоко ценю и уважаю. Вместе с тем, мне кажется, нет оснований опасаться, что мои замечания могут «отпугнуть» Сойфертиса от международной тематики…
С искренним уважением и пожеланием скорейшего выздоровления.
Ваш Бор. Ефимов».
Эта профессиональная полемика ни в малейшей степени не омрачила наших дружеских отношений с Пророковым. Вскоре после этого я отмечал свое шестидесятилетие и получил от Бориса Ивановича следующее доброе послание с приложенным к нему рисунком.
«Дорогой Борис Ефимович!
От всей души поздравляю Вас. Не удивляйтесь этому странному подношению. Я сейчас объясню, в чем дело. На этом наброске изображен румынский солдат, который перешел к нам в бригаду морской пехоты, отдал винтовку и заявил, что он не хочет воевать против Советского Союза. Было это в конце лета 1942 года на Северном Кавказе. Увидя, что я рисую листовки, он отозвал меня из окопа в сторону, за кусты и там, соблюдая все предосторожности, показал мне маленькую листовку, извлеченную из потайного кармана. Он захохотал, но тут же сдержал себя и мгновенно спрятал листовку обратно. По привычке он все еще осторожничал. На этой листовке был Ваш рисунок. Вспомнив об этом маленьком эпизоде, я разыскал набросок и мне захотелось послать его Вам на память о военных днях.
25 декабря 1960 года
Ваш Б. Пророков».
Тем, кто хотел бы больше узнать о жизни, творческой биографии Бориса Пророкова, человека удивительной – счастливой и трагической судьбы, следует прочесть его книгу «О времени и о себе» (фраза любимого им Маяковского), значительную часть которой занимают записи из дневников художника с 1956 по 1972 год – последние 16 лет его жизни. Это – потрясающий по силе и исповедальной откровенности человеческий документ.
Вернемся, однако, в годы войны. Хочу рассказать об эпизоде, который по сей день остался для меня загадкой. Мне как-то позвонили из Союза писателей и сообщили, что приехавший в Москву на совещание председатель Саратовского союза Матвеенко располагает какими-то сведениями о Кольцове. Я немедленно помчался в Союз и сразу отыскал Матвеенко – солидного, пожилого мужчину. Он поведал мне следующее: недавно по писательским делам был у генерала, командующего Приволжским военным округом. После делового разговора тот неожиданно сказал:
– А знаете, у меня тут находится один ваш собрат по перу.
– Да? А кто именно? – спросил Матвеенко.
– Михаил Кольцов.
– Как? Тот самый? Который в Испании…
– Да, тот самый. Он тут после ранения под Брянском, во втором резервном офицерском полку. Хотите с ним поговорить?
Генерал куда-то позвонил по телефону, приказал позвать старшего лейтенанта Михаила Кольцова и передал трубку Матвеенко.
– Понимаете, – говорил мне Матвеенко, – я не был лично знаком с вашим братом и, откровенно говоря, не знал, что сказать. Спросил: «Это вы, Михаил Кольцов?» – «Да, я», – был ответ. Я не знал, о чем говорить дальше, и только спросил: «А вы что-нибудь здесь пишете?» – Он ответил что-то невнятное, и трубка была положена.
Должен сказать, поверив в свое время лживым словам Ульриха, будто по приговору Военной коллегии Кольцов отправлен в «дальние лагеря за Уралом», я надеялся, что его в связи с войной освободят, и поэтому не столько удивился, сколько обрадовался рассказу Матвеенко. Правда, мне было странно, что, выйдя на свободу, Миша не дал мне о себе знать. Но кто-то меня уверял, что это не редкое явление: люди, вышедшие из заключения, психологически избегают первое время общения со знакомыми и даже с близкими.
«Вряд ли, – думал я, – Миша стал бы избегать общения со мной. Но чего не бывает…»
Не имея возможности самому поехать в Саратов, я обратился к новому, сменившему Ортенберга, редактору «Красной звезды» генерал-майору Николаю Александровичу Таленскому, и он совершил, на мой взгляд, благородный и, по тем временам, смелый поступок. За его подписью на официальном бланке «Красной звезды» ушла в Саратов следующая бумага:
«Секретно. Командиру 2-го офицерского полка запаса. Прошу сообщить, действительно ли с сентября 1943 г. по март 1944 г. проходил службу в 5-м батальоне вверенного вам полка старший лейтенант Кольцов Михаил Ефимович, рождения 1898 г. город Киев, а также куда и когда убыл. Ответственный редактор генерал-майор Н. Таленский».
Одновременно я отправил туда же фототелеграмму, примерно аналогичного содержания, на имя командира этого полка подполковника Лукьянова (эту фамилию мне сообщил тот же Матвеенко). Через несколько дней фототелеграмма вернулась ко мне в конверте со следующей сопроводительной запиской: «Тов. Ефимов. Возвращаю вашу фототелеграмму обратно и сообщаю, что в отделе кадров ПРИВО подполковника Лукьянова не значится, а также ст. лейтенанта Кольцова М. Е. найти по учету кадров не могли и 2-го офицерского полка в ПРИВО нет. С приветом нач. экспедиции штаба ПРИВО ст. л-т а/с А. Капелина».
Не трудно себе представить мое ошеломление. Как так? Что это значит? Что за наваждение? Неужели рассказ Матвеенко – это плод воображения или недоразумения? Непостижимо… Тем более, что на письмо генерала Таленского пришел аналогичный ответ: «Редакция «Красной звезды». В ПРИВО такой части нет». Пришлось развести руками и примириться с этой загадочной историей, прийти к выводу, что какой-то неведомый человек по неведомым причинам выдавал себя за Кольцова.
Но эта загадочная история спустя много лет получила еще более загадочное продолжение. В январе 1972 года мне пришло следующее письмо:
«Художнику Б. Ефимову. Москва, газета «Известия».
На днях в одной старой газете я прочел статью о жизни и литературно-общественной деятельности М. Е. Кольцова. В связи с этим вспомнилось прошлое.
В годы войны, будучи на военной службе в политуправлении Приволжского военного округа (Куйбышев), однажды в экспедиции штаба ПРИВО я познакомился с фототекстом Вашего письма, в котором Вы запрашивали о службе своего брата Михаила Кольцова, что меня очень тогда заинтересовало, но в тот год я счел нецелесообразным Вас беспокоить.
В день моего дежурства в приемной начальника ПУ ПРИВО мне позвонили и сказали, чтобы я заказал пропуск М. Кольцову. Исполнив это, я стал ожидать прихода известного человека. Хочется спросить, служил ли в частях Приволжского военного округа (г. Кинель) ваш брат? Извините за беспокойство. С уважением H. Л. Иванов.Воронеж, улица Комиссаржевской, д. 1, кв.65. Иванов Николай Лукич, инженер-майор в отставке. 3 января 1972 года».
Я ответил:
«Уважаемый Николай Лукич! Сведения о том, что мой брат – Михаил Кольцов – проходит военную службу в частях ПРИВО, исходили от писательской организации Саратова. Проверить правильность этих сведений тогда, в 1944 году, не удалось. В частности, на свою фототелеграмму, которую Вы видели, определенного ответа не получил. И мне по сей день неизвестно, кто был человек, которого принимали за Михаила Кольцова.
В своем письме Вы сообщаете, что заказали пропуск М. Кольцову и стали «ожидать прихода известного человека». Поэтому я, в свою очередь, обращаюсь к Вам с вопросом: дождались ли Вы этого человека, видели ли его? Можете ли Вы описать его внешность, приметы? И еще вопрос: знали ли Вы в частях ПРИВО подполковника Лукьянова, которому был адресован мой запрос о брате? Буду весьма благодарен за ответ. С товарищеским приветом Б. Ефимов, народный художник СССР».
Ответа долго не было. И наконец…
«Многоуважаемый Борис Ефимович! Извините, что ответ пишу с опозданием. Посылал письмо в г. Куйбышев, обращался к знакомым, хотел узнать о подполковнике тов. Лукьянове, о котором Вы упоминаете в своем письме. Сообщили, что он им также неизвестен.
Будучи дежурным офицером в приемной начальника политуправления ПРИВО, я действительно заказывал пропуск на имя Михаила Кольцова. С большим волнением ожидал его прихода. Вспомнил прошедшие годы, когда мы, читатели, с интересом читали очерки, фельетоны, статьи любимого и популярного автора.
Когда он пришел в приемную, я внимательно, с переживанием смотрел на редкого посетителя, видел его исхудалое и бледное лицо. Он был в звании лейтенанта, в хлопчатобумажном полевом офицерском костюме. Он был небольшого роста, весьма подвижным, очень энергичным, целеустремленным. Осталось впечатление, что его беспокоит, даже волнует весьма важное дело. И такое переживание человека сочеталось с простотой, привлекательностью, что убеждало меня в том, что это действительно был сам Михаил Ефимович Кольцов.
Но… вспомнив газетные и журнальные фотографии М. Е. Кольцова и сравнив их с внешним видом посетителя, я усомнился, хотя думы, что он пережил тяжелое, которое могло изменить внешность любого человека, снова возвращали к моему первому заключению. В тот памятный день М. Кольцов был принят начальником политического управления Приволжского военного округа. Беседа продолжалась примерно 30–40 минут, но ее содержание мне было неизвестно…»
Загадка осталась загадкой.
В редакции «Красной звезды» я познакомился, а вскоре и подружился с Василием Гроссманом, писателем талантливым, мыслящим, глубоко и остро чувствующим. Мне нравились его фронтовые корреспонденции и очерки, с неожиданной в штатском человеке достоверностью и грамотностью раскрывавшие суть и значение военных операций. К тому же они были ярко и образно написаны, и я всегда думал: так бы написал Кольцов. И однажды, прочтя очерк Гроссмана о сталинградских его впечатлениях «Глазами Чехова», я не удержался и сказал ему об этом. Он ничего не ответил и только печально на меня посмотрел (в ту пору было не принято говорить о «репрессированных»), Надо сказать, что очерки и корреспонденции Гроссмана высоко ценились в среде военных, и, когда в редакцию приходила с какого-нибудь участка фронта телеграмма «Пришлите Симонова или Гроссмана», это означало, что там предстоят крупные военные события. Василий Семенович был человеком серьезным, но отнюдь не мрачным. Он обладал чувством юмора, любил шутку и даже незлобивый «розыгрыш». Кстати, он мне смешно рассказывал, как пришел к некоему полковнику Боеву, ведавшему в ГЛАВПУРе с началом войны распределением литераторов в различные органы печати. Тот сказал:
– Вы сможете работать в «Красной звезде»? Ведь вы пишете, главным образом, для детей.
– Почему для детей? Я пишу для взрослых.
– Ведь вы – Лев Кассиль?
– Я не Кассиль, я – Гроссман.
– Гроссман? Гм… Так вы согласны в «Красную звезду»?
– Согласен.
И Гроссман направился к выходу со словами:
– До свидания, товарищ Боев.
На что последовал ответ:
– Я не Боев. Я – Ортенберг.
Гроссман писал не только очерки и корреспонденции. Насколько мне известно, он единственный из всех фронтовых писателей печатал в «Красной звезде» большую повесть «Народ бессмертен», правдиво и вдумчиво отражавшую наши неудачи первого года войны.
Незабываема для меня совместная поездка с Гроссманом. Это было позже, в 1944 году. Мы встретились в коридоре редакции.
– Как дела, Василий Семенович? Здоровье? Политико-моральное состояние? Творческие планы?
– Спасибо. Нормально. Послезавтра выезжаю под Варшаву, там ожидаются некоторые события. – И прибавил с некоторым лукавством: – Может быть, поедете со мной?
Он, видимо, ожидал моего ответа в том духе, что я поехал бы с ним с величайшей охотой, но, к сожалению, в данный момент очень занят. И был явно немного удивлен моей реакцией:
– А что? Можно и поехать.
– Нет, я серьезно, – сказал Гроссман.
– Ну и я серьезно.
И вот в новеньком редакционном «виллисе», за рулем которого девушка-шофер Лена с «автомобильной» фамилией Рулева, расположились мы с Гроссманом и военный обозреватель «Красной звезды» полковник-танкист Петр Коломейцев. Неблизок путь от Москвы до Варшавы. Мы едем через разрушенные города, сожженные деревни, поля недавних ожесточенных боев. Проезжаем и «Бобруйский котел», где не так давно металась, пытаясь вырваться из окружения, немецкая группировка фельдмаршала фон Бока. Значительная часть немецких войск достигла Москвы, но… в качестве военнопленных. Они приняли участие в памятном прохождении немецких солдат и офицеров на глазах у тысяч москвичей по центральным улицам столицы, начиная от стадиона Юных пионеров. Мне удалось близко наблюдать колонну немецких «завоевателей» из автомашины кинохроники и видеть, как немцы, и солдаты и офицеры разных высоких званий, с внушительными орденскими планками на груди, шли довольно бодро, с интересом осматриваясь вокруг, видимо, довольные, что остались в живых.
И вот мы колесим по Польше. Между прочим, перед отъездом из Москвы Гроссман спросил меня, слабо улыбаясь и глядя поверх круглых роговых очков большими печальными глазами:
– А вы знаете, что это моя тринадцатая поездка на фронт?
Мне стало немножко не по себе.
– Ничего, – ответил я бодро, – зато я еду на фронт только в третий раз. Тринадцать плюс три – шестнадцать, разделить на двоих – восемь, число вполне безопасное.
Гроссман с сомнением покачал головой, но, как мне показалось, несколько повеселел.
…Слышится легкий удар, и по ветровому стеклу «виллиса» расплывается большое кровяное пятно – это разбилась налетевшая на машину птичка.
– Ну? Что я вам говорил? – почти торжествующе восклицает Гроссман. – Теперь ясно, что никто из нас не вернется домой. Вот это уж верная примета.
– Ерунда, – возражаю я неуверенно. – Предрассудок.
Но на всех нападает задумчивость… Эх, «пути-дорожки фронтовые»! Сколько написано о них задушевных песен и стихов, сколько талантливых очерков. Бегущая навстречу лента шоссе несет все новые и новые впечатления, образы, эпизоды. Живописные уголки сменяются суровыми руинами войны, милые сельские пейзажи чередуются с закопченными пожарищами и развалинами. Трудно не поддаться проникающей в душу дорожной романтике. Но мои спутники – полковник-писатель и полковник-танкист, как бывалые фронтовики, уже изрядно понюхавшие пороху в прежних поездках, вносят в мои путевые впечатления существенные коррективы, считая, видимо, полезным поучить уму-разуму да и немножко припугнуть необстрелянного художника-тыловика. Происходит это примерно так.
– Какое изумительное место! – восхищаюсь я, когда машина едет между двух рядов могучих тополей, превращающих дорогу в сплошную тенистую аллею.
– Изумительное-то изумительное, – задумчиво говорит Гроссман, сосредоточенно глядя вперед, – но не люблю я таких замкнутых участков дороги. Здесь и свернуть некуда.
– А зачем нам, собственно говоря, сворачивать?
– А затем, что в таких местах в любую минуту может спереди или сзади появиться «фердинанд». Или легкий танк. Я уже видел такие дела.
– «Фердинанд»? Откуда здесь возьмется «фердинанд»? Немцы за тысячу километров.
– Немцы-то далеко, – вступает в разговор флегматичный полковник-танкист, – а вы что-нибудь слышали о бандеровцах? Или бульбовцах?
– Ну, слышал. А откуда у бандеровцев «фердинанды»?
– А зачем им «фердинанды», если они могут вон из-за тех кустов так шарахнуть по нам из автоматов…
Прислушиваясь к нашему разговору, Лена Рулева вдруг решительно прибавляет газу, и «виллис» быстро вырывается из темной аллеи на широкий солнечный простор. Тема «фердинандов» иссякает. Но есть и другая неисчерпаемая дорожная тема – неразорвавшиеся мины. Новичкам они мерещатся на каждом шагу, да и опытные фронтовики относятся к этому делу серьезно.
– Вы не смотрите, что шоссе покрыто следами автомобильных шин, – наставляет меня полковник-танкист, – это ничего не значит. Бывает, что по какому-то месту тысяча машин пройдет благополучно, а тысяча первая взлетит на воздух…
– Да будет вам, Петр Илларионович, – говорю я небрежно, невольно косясь при этом на исполосованную следами автомобильных покрышек дорогу.
– Чего «будет вам»? Я серьезно говорю. Сколько таких случаев – будь здоров!
Вскоре полковники останавливают машину, решив осмотреть замеченную у самой дороги разгромленную гитлеровскую батарею. Шагая позади Коломейцева по изрытой снарядами земле, я, памятуя его авторитетные разъяснения о невзорвавшихся минах, стараюсь все же попасть ногой в оставляемые им следы. Потоптавшись среди искореженных орудий, мы благополучно возвращаемся к «виллису», и тут я неожиданно проникаюсь фаталистической философией, которую кратко можно сформулировать так: «чему быть, того не миновать», и перестаю думать о минах.
Одно из самых сильных впечатлений по пути в Польшу – это остатки «Бобруйского котла». Оставив машину, мы бредем вдоль мрачного кладбища былой фашистской силы, среди изуродованных и сгоревших немецких танков, раздавленных пушек. Кругом, насколько хватает глаз, валяются заржавевшие остатки машин, легковых и грузовых, походных радиостанций, бронетранспортеров, торчат во все стороны дула сотен орудий. Земля густо покрыта обугленным металлоломом, полуистлевшим воинским мусором, какими-то превратившимися в тряпки офицерскими мундирами, смятыми фуражками, рваной обувью. Из разбитого танка, как внутренности из пуза издохшего зверя, вывалилась целая куча какого-то грязного барахла, обгоревших чемоданов, покрытых плесенью книг, иллюстрированных журналов. Последние привлекают мое любопытство, но от кучи несет таким специфическим смрадом, что дотронуться до них руками невозможно. Пошевелив гитлеровскую литературу носком сапога, я подбираю парочку «сувениров» для сына – гитлеровский стальной шлем и два-три «железных креста».
Мы едем дальше, проезжаем через разоренный Бобруйск, оставляем за собой историческую Березину. В овеянном легендарной славой Бресте переезжаем через многоводный Буг, и отсюда уже расстилается перед нами земля многострадальной Польши, только-только начинающей приходить в себя после четырехлетнего кошмара гитлеровской оккупации, лишившей страну даже ее имени и превратившей ее в германское «генерал-губернаторство». Германским генерал-губернатором Польши был Ганс Франк, год спустя я видел его своими глазами на скамье подсудимых в Нюрнберге. Совсем непохожий на немца, смуглый, с маслянистым зачесом черных волос, он напоминал скорее жителя Латинской Америки. Рассказывали о его реакции на появление в Югославии листовки о том, что за нападение партизан на немецкий патруль, при котором убиты четверо немецких солдат, было расстреляно 80 мирных жителей деревни. Узнав об этом, Франк рассмеялся и сказал: «Если мы станем печатать листовки о каждых восьмидесяти расстрелянных поляках, то в Польше не хватит лесов, чтобы делать бумагу».
…Мы торопимся. Мои полковники нервничают. Их волнение передается и мне – что может быть страшнее для военных корреспондентов, чем приехать к «шапочному разбору», опоздать к событию, ради которого мы, подпрыгивая на железных сиденьях «виллиса», промчались полторы тысячи километров, подвести газету и (что особенно неприятно) предстать перед грозным ликом огорченного и разгневанного редактора. Забегая вперед, скажу, что к этому событию – освобождению Варшавы – мы не опоздали по той простой причине, что оно произошло не в этот раз, а значительно позже, в январе 1945 года.
Прибыв в политуправление нашей, стоявшей под Варшавой армии, мы узнали, что в городе происходит восстание против оккупантов. Мы слышали рычание орудий за Вислой, а иногда и треск пулеметов. Восставшие, очевидно, боролись не на жизнь, а на смерть, упорно сопротивлялись, надеясь, несомненно, на помощь советских войск. И никто не понимал, почему наши армии стоят на месте и не приходят на помощь. В воздухе носилось какое-то тягостное, неизъяснимое недоумение, но обсуждать вслух, какие стратегические, тактические или политические соображения тому причиной, никто особого желания не проявлял – это могло быть чревато весьма неприятными последствиями. Можно не сомневаться, что причина бездействия наших войск под Варшавой заключалась в далеко идущих планах Сталина, не желавшего помогать сторонникам Лондонского польского правительства и рассчитывавшего на установление в Польше после войны просоветского режима. Восстание в Варшаве, возглавляемое отважным Коморовским, было немцами жестоко подавлено, чего по сей день не могут на Западе простить почему-то не Сталину, а всему Советскому Союзу. И это сказалось, когда 60 лет спустя в Польше отмечалась годовщина этого героического и трагического восстания. По адресу представителя России Сергея Филатова были высказаны злые, почти оскорбительные, а главное – несправедливые, слова. Ведь все-таки Варшаву освободили ценою тысяч солдатских жизней именно советские войска, правда, не в сентябре сорок четвертого года, когда жертвами стали тысячи поляков, а в январе сорок пятого, когда тысячи поляков были спасены. И не стало от этого меньше горе тысяч матерей и жен в Советском Союзе, получивших «похоронки» на своих сыновей и мужей, павших в боях за Вислой.
«Некоторые события под Варшавой», на которые приглашал меня ехать Гроссман, таким образом не состоялись. Но нам довелось присутствовать при достаточно значительной военной операции – форсировании реки Нарев. Мы приехали в штаб 65-й армии поздно вечером, ночевали в какой-то избе на охапках сена. Я уже засыпал, когда кто-то вошел в избу со словами:
– Тут, говорят, товарищи из Москвы приехали. Привет, товарищи! Расскажите, как живет столица.
Я сразу узнал голос Романа Кармена.
– Привет, Рима! – отозвался я. – Мы действительно из Москвы, но выехали оттуда две недели назад.
Кармен безмерно удивился:
– Боря? Вы-то что тут делаете?
Я познакомил Кармена со своими спутниками, завязалась оживленная беседа. Вспоминались московские новости и общие знакомые, мы были посвящены в местные армейские дела и события.
– Ну, ребята, – сказал Кармен, прощаясь, – мне пора. Рано утром уже надо быть на передовой, снимать переход танков через Нарев. Встретимся завтра у командующего.
Так оно и вышло. На другой день в чистеньком, увитом проводами домике мы застали Кармена у генерала П. И. Батова, командующего 65-й армией. Они были старыми знакомыми по Испании. Генерал сражался там в 1937 году против фашистов и теперь, после некоторого перерыва, снова «давал им жизни» в несколько изменившихся условиях. Любопытная деталь: будучи в Испании, генерал, как и многие другие добровольцы, носил условное имя, которое сейчас звучало довольно курьезно – Фриц… Интересное зрелище представляли собою эти два человека рядом. По армейской субординации, между командующим армией и старшим лейтенантом-кинооператором была огромная дистанция, но, когда заговорили об Испании, перед нами были два земляка-однополчанина.
После беседы с Батовым мы намеревались отправиться на передний край, в танковую бригаду, захватившую и удерживавшую плацдарм на другом берегу Нарева. Тут произошел маленький забавный эпизод. Дело в том, что еще в пути, на дорогах Белоруссии и Польши, когда подходила моя очередь занимать переднее сиденье рядом с водителем Леной Рулевой (согласно неписаному дорожному закону, пассажиры через определенное время менялись местами), я, как старый автомобилист-любитель, с большим интересом присматривался к управлению «виллисом». Мне очень хотелось испробовать эту машину. Несколько раз я собирался предложить свои услуги в качестве напарника Лены, но понимал, что эта затея не вызовет у моих спутников энтузиазма. Наконец, набравшись духу, я небрежно, как бы мимоходом, сказал:








