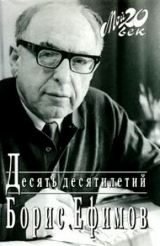
Текст книги "Десять десятилетий"
Автор книги: Борис Ефимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц)
Помню, как в редакции «Известий» дежурный редактор, некто Черномордик, поморщившись, сказал:
– Что? Маяковский застрелился? Наверно, был пьян. Ну что ж. В хронику происшествий. Пятнадцать строк.
И в этом духе кое-кто довольно продолжительное время строил отношение к Маяковскому. Правда, разительным противоречием этому холодному пренебрежению явились поистине эпические проводы поэта в последний путь.
Застрелившегося Маяковского я увидел, безмолвного и неподвижного, уже на квартире Бриков в Гендриковом переулке, пару часов спустя.
Поэт лежал в своем тесном кабинете на узенькой кушетке, лицом к стене. В квартире толпятся близкие, друзья, знакомые. Разговаривают шепотом, и эту гнетущую полутишину время от времени резким, ударяющим по нервам звоном разрывает висящий у дверей настенный телефон. Тот, кто стоит поближе к аппарату, берет трубку и вполголоса отвечает:
– Да… Правда…
– Да… Не слух…
Страшное впечатление производит приход равнодушных и деловитых сотрудников Института мозга в не первой свежести белых халатах. Они закрывают за собой двери в комнату, где лежит Маяковский, но оттуда отчетливо доносятся звуки разрубаемого черепа. Двери снова открываются, и оттуда выносят в глубокой тарелке что-то, небрежно прикрытое белой салфеткой. Нетрудно догадаться – это мозг великого поэта Владимира Владимировича Маяковского.
…А затем три дня непрекращающаяся скорбная река людей проходила мимо гроба, установленного в доме Федерации писателей. Как известно, печальные похоронные церемонии редко обходятся без нелепых, а то и смешных курьезов. Классический тому пример – гроб с телом А. П. Чехова, доставленный в Москву в вагоне, на котором была надпись «Для свежих устриц». Не обошлось без подобных ляпов и на прощании с Маяковским. Весьма охочий до популярности поэт Павел Герман, возложив на себя обязанности организатора, любезно спрашивал:
– Вам ноги или голову? – имея в виду место в почетном карауле у гроба. Помню, мне достались «ноги»…
Многотысячное шествие сопровождало увитый черно-красными полотнищами грузовик, за руль которого сел Михаил Кольцов. Никогда не забуду зрелища, которое представляла собой территория Донского крематория. То была подлинная Ходынка. Сквозь бурлящую толпу невозможно было перенести гроб с грузовика в здание крематория, на ступенях которого что-то кричал, размахивая руками, председатель похоронной комиссии, директор Гослитиздата Артемий Халатов. Я не поверил бы этому, если бы не слышал собственными ушами, как милиционеры начали стрелять в воздух, чтобы проложить путь гробу с телом поэта. В этой неописуемой давке я столкнулся с давним антагонистом и критиком Маяковского Вячеславом Полонским, который мне сказал с не очень уместным сарказмом:
– Маяковский даже здесь не может обойтись без скандала.
Бедняга Полонский… Он не знал, что ровно через год мне придется его самого провожать в эти страшные двери…
Пройти внутрь крематория мне все-таки удалось. Там уже заканчивалась очень короткая панихида, и тут Кольцов сунул мне в руку клочок бумаги – пропуск в подвальное помещение, где через «глазки» в бетонной стене можно было видеть зловещие печи. Перед одной из них уже стоял гроб, в котором с очень спокойным лицом лежал Маяковский. Чугунные двери раскрылись, гроб двинулся вперед, и я видел, как густая шевелюра поэта вспыхнула ярким пламенем. Этого не забыть.
Немало ехидных острот и шуточек вызвали в свое время строчки Маяковского, обращенные к Пушкину: «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пе, а я на Эм». Напоминали, что между этими двумя буквами имеется еще некоторое «НО». Но что получилось на самом деле? Разве Маяковский поистине не стал рядом с Пушкиным на полках библиотек, в школьных учебниках и, наконец, в памятниках на рядом расположенных площадях Москвы?
Далеко не просто и не быстро это произошло. И тут снова проявились сложность и, я сказал бы, парадоксальность и драматичность биографии поэта. Довольно продолжительное время на имени Маяковского лежал тяжелый камень пренебрежения и равнодушия. Стихи его перестали печатать, а полное собрание сочинений, выходившее в Гослитиздате, просто-напросто прекратили издавать. Но тут произошло следующее: близкий Маяковскому человек Лиля Брик набралась смелости и написала об этом письмо Сталину. «Отец народов» начертал на письме резолюцию, которая гласила, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи и что пренебрежение к его памяти и к его произведениям – преступление.
И сразу колесо с бешеной скоростью завертелось в обратную сторону. За самое короткое время появились площадь Маяковского, станция метро «Маяковская», театр имени Маяковского, музей Маяковского, монументальный памятник Маяковскому и так далее. При нашем традиционном отсутствии чувства меры это приняло такие формы, что даже искренний друг Маяковского Борис Пастернак как-то, много позднее, саркастически заметил: «Маяковского начали насаждать в обязательном порядке, как в свое время картошку или кукурузу». А известный французский критик и «маяковсковед» Клод Фриу сокрушался, что Маяковского – поэта-революционера, футуриста, бунтаря, превратили в Советском Союзе в обязательный предмет для школьных хрестоматий и поэта для детей. Эти соображения он высказывал на вечере памяти Маяковского в Доме культуры города Амьена во Франции. Я приехал туда в 1975 году на открытие выставки советского плаката и неожиданно для себя обнаружил в том же Доме знаменитую выставку Маяковского «20 лет работы», которую сам поэт открывал в Москве 1 февраля 1930 года, то есть за два с половиной месяца до самоубийства.
Помню, тогда, в Амьене, я вежливо, но решительно возражал профессору Фриу и, приводя по памяти различные, вошедшие в нашу разговорную речь «крылатые слова» из стихов Маяковского, объяснял, что Маяковский у нас поэт не только для детей, но очень даже и для взрослых.
Глава десятая
Как из маленького желудя вырастает развесистый дуб, так из небольшого вначале журнала «Огонек», задуманного и созданного Михаилом Кольцовым, выросло огромное Журнально-газетное объединение (ЖУРГАЗ), соединившее в себе десятки журналов и газет на нескольких языках, издание целых тематических многотомных серий, собраний сочинений, специальных номеров «Огонька», посвященных отдельным злободневным сюжетам, в том числе Первой Конной армии, советским курортам, отдельным областям Советского Союза и, наконец, повести «Губерт в стране чудес», о которой будет еще речь впереди. Мы помним, что «Огонек» при своем рождении занимал одну большую комнату, где находились и редакция, и контора журнала, толпились сотрудники и авторы. В конце 20-х годов ЖУРГАЗ размещался в отдельном просторном особняке с примыкавшими к нему дворовыми постройками. И все же было тесновато. Всем этим сложнейшим, хлопотливейшим литературно-издательско-финансово-производственным хозяйством твердой рукой управлял Кольцов, вникая во все детали, в специфику каждого издания, зная в лицо чуть ли не каждого сотрудника (ныне на этом здании – мемориальная доска памяти Михаила Кольцова).
Где-то в начале 1929 года Кольцов вдруг спохватился, что среди многочисленной и дружной семьи жургазовских изданий не хватает… сатирического журнала. И возник «Чудак». Вначале название это не всем понравилось, в том числе и мне, но Кольцов настоял на своем – и к названию все скоро привыкли. Естественно, что к сотрудничеству в этом журнале Кольцов привлек самых популярных сатириков – писателей, поэтов, фельетонистов, карикатуристов, и даже написал в Сорренто М. Горькому, приглашая его сотрудничать в новом журнале и что-нибудь дать для первого номера. Горький ответил очень добрым письмом, в котором между прочим писал:
«Искренно поздравляю Вас, милейший т. Кольцов, с «Чудаком».
Считая Вас одним из талантливейших чудаков Союза Советов, уверен, что под Вашим руководством и при деятельном участии таких же бодрых духом чудодеев журнал отлично оправдает знаменательное имя свое.
Что есть чудак? Чудак есть человекоподобное существо, кое способно творить чудеса, невзирая на сопротивление действительности, всегда – подобно молоку – стремящейся закиснуть.
Лично сотрудничать в журнале Вашем едва ли найду время, но – разрешите рекомендовать Вам знакомого моего Самокритика Кирилловича Словотёкова. Самокритик – подлинное имя его, данное ему родителем при крещении. Человек он уже довольно пожилой, но «начинающий». Беспартийный. Отношение к алкоголизму – умеренное».
Письмо Кольцова и ответ Горького положили начало замечательной, одновременно деловой и дружеской, серьезной и шутливой, пронизанной чудесным юмором переписке, которая, к счастью, сохранилась.
«Чудак» начал выходить в свет и сразу стал популярен. По сравнению со своим старшим собратом «Крокодилом» он был немного тоньше, немного острее, немного смелее, немного, я сказал бы, интеллигентнее. И мы, крокодильцы, не порывая со своим журналом, охотно печатались в «Чудаке».
Вместе с тем вольный, раскованный сатирический стиль «Чудака» далеко не всем пришелся по вкусу. Кое-кто «наверху» стал воспринимать его с неудовольствием, а потом и с раздражением. Каплей, переполнившей чашу, стал напечатанный в «Чудаке» фотомонтаж под названием «Ленинградская карусель» на тему о неблаговидных поступках и круговой поруке среди крупных партийных работников Ленинграда. Немедленно было «пришито» дело с весьма опасным обвинением – «попытка подорвать авторитет партии». Сразу последовало и решение: журнал закрыть, а его редактору закатить строгий выговор. В эти дни Кольцов как спецкор «Правды» находился на военных маневрах Белорусского военного округа, на которых присутствовал сам Ворошилов. Он, как я уже упоминал, симпатизировал Кольцову. И брат, выбрав удобный момент, сказал ему, улыбаясь:
– Вот, Климент Ефремович, пока тут на маневрах бьют условно, меня там, в Москве, бьют безусловно…
Надо отдать справедливость Ворошилову: его эта история возмутила.
– И правильно вы сделали, – сказал он, – что расчехвостили это жулье в Ленинграде. Это не подрыв, а укрепление авторитета партии! Я кое с кем переговорю.
Видимо, он действительно переговорил, в результате чего выговор с Кольцова был снят. Но сохранить «Чудака» не удалось. Правда, закрытию его придали более вежливую форму: сочли нецелесообразным издание одновременно двух сатирических журналов и постановили «слить» «Чудак» с «Крокодилом». Кстати, спустя некоторое время редактором сдвоенного журнала был назначен тот же Кольцов.
История с «Каруселью», как мы видим, закончилась, в общем, относительно благополучно, но сколько подобных «историй», более или менее неприятных, то и дело возникало в многогранной, сложно разветвленной деятельности Кольцова – журналиста, фельетониста, редактора, издателя, общественного деятеля! Сколько сил и нервов стоила ему не утихающая ни на день, ни на час борьба против тупоумных партбюрократов, зазнавшихся и зажравшихся партвельмож, против комчванства и комхамства, очковтирательства и подхалимства… – надо ли перечислять все сюжеты, которые в изобилии поставляла фельетонисту «Правды» та незабвенная эпоха? Сегодня представляется невероятным, что Кольцову приходилось буквально, как говорится, с пеной у рта отстаивать издание в ЖУРГАЗе полного собрания сочинений… Антона Павловича Чехова, от чего категорически отказалось Государственное издательство. Ох, нелегка была, помню, крамольная по тем временам затея! Особенно яростное сопротивление оказывала такая могущественная и влиятельная в литературных делах организация, как РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей). «Кому нужен этот Чехов? – вопили они. – Что дают его произведения пролетариату?» Печатный орган РАППа, журнал «На литературном посту», особенно возмущался тем, что двадцать четыре тома Чехова Кольцов объявил приложением к такому распространенному журналу, как «Огонек», что грозит продвижением этих безыдейных писаний, к тому же лишенных надлежащих комментариев с марксистских позиций, в широкие трудящиеся массы. Были и провокационные намеки, что настоящий коммунист, радеющий за пролетарскую литературу, этого себе бы не позволил. Но Кольцов не испугался – и первое при советской власти собрание сочинений прекрасного, умного, тонкого писателя вышло в свет на радость миллионам людей.
Не могу не вспомнить еще один характерный случай. Как-то между театральными рецензентами «Правды» и «Известий» возникли разногласия в оценке новой программы джаза Леонида Утесова. Я уж не припомню, кто ее хвалил, а кому она не понравилась, но между обоими почтенными органами печати вдруг возникла полемика. Обязанности редактора «Известий» (Николай Бухарин был уже арестован) исполнял культурнейший, интеллигентный Борис Таль, одновременно заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК. Не знаю, что толкнуло его на эту полемику о джазе, но она приобрела неожиданно острый характер, и Мехлис, тогдашний редактор «Правды», пришел в ярость: кто-то осмеливается возражать главной газете страны!.. И через самое короткое время выяснилось, что Таль связан с троцкистами и сам – скрытый троцкист… Его арестовали, он, разумеется, признался в своих преступлениях и был расстрелян.
Продолжу, однако, разговор о деятельности Кольцова-фельетониста. Она в корне и принципе отличалась от работы тех журналистов, которые писали (и пишут) свои фельетоны, используя материалы уже завершенных судебных дел. Очень удобно и, главное, спокойно. Допустивший злоупотребления, превышение власти, какие-нибудь другие «художества» человек уже давно снят с работы, осужден, может быть, уже сидит в тюрьме. И только тут появляется в газете лихо и остроумно разоблачающий его фельетон. Ничего общего с таким «творческим методом» не имела работа Кольцова. Его фельетонами не завершались,а начиналисьдела о злоупотреблениях, безобразиях, фактах очковтирательства, бюрократического тупоумия, чиновничьей черствости, унижения человеческого достоинства… При этом, знакомясь с такими фактами, которые в основном содержались в тысячах писем читателей, поступавших в редакцию на его имя, Кольцов производил свое собственное тщательное расследование, никуда их не «отфутболивая» и составляя свое собственное, обоснованное и твердое мнение, после чего диктовал своему постоянному «машинисту» Зембровскому фельетон (он не любил писать от руки и всегда диктовал на машинку фразу за фразой, расхаживая взад и вперед по комнате). Наутро фельетон уже стоял на газетной полосе. И – удивительное дело! – Кольцов ни разу не ошибся в своих мнениях, суждениях и выводах. И, как правило, обидчики бывали разоблачены и посрамлены, обиженные – защищены. Порок бывал наказан, добродетель, как положено, торжествовала.
Популярность Кольцова в стране была огромна. Миллионы людей видели в нем надежного защитника от волокитчиков, взяточников, самодуров, высокопоставленных хамов. Но, защищая обиженных, кольцовские фельетоны тем самым кого-то весьма решительно призывали к порядку, кого-то «выводили на чистую воду», кого-то выставляли на посмешище перед всей страной, кого-то клеймили позором, кому-то прямо напоминали о «плачущей тюрьме»… И надо ли удивляться, что каждый подобный оперативный фельетон приносил его автору новых злобных врагов: клеветников, доносчиков, анонимщиков. Однако для расправы со зловредным Кольцовым руки у них были коротки.
Я хочу подчеркнуть очень важный момент в деятельности Кольцова-публициста: он отнюдь не ограничивал диапазон своих фельетонов лишь разоблачением конкретных носителей зла. Его интересовали и беспокоили более масштабные и серьезные общественно-политические явления. Затрагивая эти явления, Кольцов несомненно вторгался в область рискованную и опасную. Но, повторяю, трусом он не был.
Смелость журналиста, пренебрежение к газетным трафаретам и казенным стандартам Кольцов показал еще в году двадцать девятом. В конце этого года на нашу страну обрушилось нечто, по своей стихийной мощи подобное тайфуну и циклону, вместе взятым. Бушевало это явление над страной и, в частности, над Москвой, целую неделю. И называлось это мощное стихийное, но управляемое людьми явление – пятидесятилетие товарища Сталина. Мне говорил московский корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» Вальтер Дюранти, с которым я был знаком, что ничего подобного он не видел в Америке даже во время самых упорных и азартных кампаний в дни президентских выборов.
Все до единой полосы всех до единой газет были заполнены статьями, рассказывавшими о заслугах, подвигах, мудрости и скромности товарища Сталина, его верности заветам Ленина, величии и грандиозности его генеральной линии на построение социализма в нашей отдельно взятой стране. При этом темы статей были продуманно разделены между руководителями партии и правительства. Так, скажем, Ворошилов писал о том, как Сталин создавал Красную армию и победоносно закончил войну против белогвардейцев и интервентов; Молотов обстоятельно описывал, как Сталин подготовил по идее Ленина, организовал и осуществил Октябрьский переворот, то есть Рабоче-крестьянскую революцию; Каганович взял на себя труд описать колоссальную роль товарища Сталина в восстановлении транспорта; Калинин раскрыл огромную заботу Сталина о сельском хозяйстве; Томский посвятил свой труд мудрым указаниям Сталина по развитию профсоюзов как «школы коммунизма»; Мануильский сообщал о громадных заслугах Сталина в деятельности Коминтерна, и так далее, и так далее. Уделили место даже Поскребышеву, помощнику Генерального секретаря, поведавшему, какие прочные узы связывают секретариат Сталина с трудящимися.
В этой накаленной безмерной хвалой атмосфере перед Кольцовым встала непростая задача. Он, ведущий и известный журналист, не мог, разумеется, остаться в стороне от этого мощного восторженного хора. Однако по своей природе он не в состоянии был выступить с чем-нибудь подобным этим велеречивым, суконным языком написанным, скучнейшим статьям. Он должен был написать что-то «по-кольцовски» – изящно, раскованно, весело. Но как к этому отнесется юбиляр? Он, похоже, не отличается большим чувством юмора, предпочитает пусть стандартные, но точные и недвусмысленные, проверенные политические формулировки. Не рискованна ли в данном случае легкая, фельетонная интонация? Здравый смысл подсказывал: да, рискованна. Осторожность говорила то же самое. Только Кольцов не был бы Кольцовым, если бы он тут, как и во многих других случаях, не рискнул. И вот на фоне тяжеловесных статей, похожих одна на другую, как бы написанных одним автором, в «Правде» появляется «Загадка-Сталин», полуфельетон-полуочерк, написанный без малейшего натужного преклонения, а легко, непринужденно, с улыбкой, «по-кольцовски»:
«…Как, разве уже 50? Думал, гораздо меньше, ведь он гораздо моложавее. Никогда не сказал бы…
Всё понятно в Сталине. Его трубка, его френч, его речи, его шутки. Трубка обыкновенная, френч тоже. Речи развиваются строго по порядку: во-первых, во-вторых… в-пятых, в-шестых. Шутки простые и произносятся нечасто. Нам понятен Сталин. А для других он – загадка».
«Сталин – таинственный обитатель Кремля». «Сталин – диктатор шестой части света». «Сталин – загадка». «Сталин – коммунистический сфинкс»…
Далее Кольцов пишет:
«…Есть в Америке большой город Кливленд, а в Кливленде выходит большая газета «Пресс». Газета совсем не большевистская. Во всех отношениях буржуазная газета. И печатает газета «Пресс» письмо в редакцию некоего мистера Полака. Письмо небольшое, всего пять строчек:
«Я удивляюсь, почему наша страна не могла бы совершить обмен: обменять президента Гувера на Сталина. Я думаю, что российское правительство нуждается в хорошем, энергичном инженере, а уж что нужно нам – это известно. Нам нужен человек, который каждому дал бы работу».
Но нет, милый мистер Полак. Мы не будем меняться с вами на Гувера. Ничего не выйдет!..»
Думаю, что самому юбиляру вряд ли понравился кольцов-ский фельетон. Не в его он был вкусе.
– Нашел чем шутить… – скорее всего проворчал он. – Какие еще тут, к черту, загадки.
Но никаких неприятностей для Кольцова в связи с этим не последовало: все-таки на дворе был только двадцать девятый, а не тридцать седьмой и даже не тридцать пятый год… Кто мог подумать, что всего через 6–8 лет неслыханный и безжалостный террор обрушится на страну, как чума.
Кольцову порядком доставалось от зажимщиков, перестраховщиков, демагогов, ханжей. Это, между прочим, нашло свое отражение в его переписке с Горьким, в характерном для этой переписки шутливом стиле.
Вот что Кольцов пишет Горькому в Сорренто в ноябре двадцать девятого после чисто деловой части письма, касающейся издательских вопросов:
«…Живу я сейчас серо и невыразительно, как черви слепые живут. Только изредка вынимаю из шкафа подаренные Вами пояса и вздыхаю, с шумом выпуская воздух из грудной клетки. Этим я хочу сказать, что скучаю по Вас. По-видимому, это кончится большим слезливым письмом с жалобой на нечуткость людей и просьбой указать, как поступить на зубоврачебные курсы…»
Горький отвечает Кольцову:
«О, брате мой любезный!
По что столь зазорно срамословишь, именуя ся червем слепорожденным? И отколь скорбь твоя? Аще людие древоподобны ропщут на тя, яко ветр повелевает, сотрясаяй смоковницы плодов не дающи и жолудю дубов завидующи, – помни: ты не жолудь есть и не на утеху свинию родила тя матерь природа, а для дела чести и смелости. Аще же пес безумен лаяй на тя, не мечи во пса камение, но шествуй мимо, памятуя: полаяв – перестанет!
В этом духе я Вам, дорогой Михаил Ефимович, мог бы сказать много, но, от старости, забыл уже сей превосходный язык, которым все можно сказать – исключая популярные фразы «матового» тона.
В самом деле: Вы что там раскисли? Бьют. И впредь – будут! К этому привыкнуть пора Вам, дорогой мой!
Крепко жму руку.
И – да пишет она
ежедневно
и неустанно
словеса правды!
Старец Алексий Нижегородский и Сорентийский.А «Огонек» следовало бы мне высылать! А. Пешков».
Кольцов продолжал «ежедневно и неустанно» писать «словеса правды», продолжая «ежедневно и неустанно» наживать себе новых злобных врагов.
Хочу сказать откровенно и решительно: меня до глубины души возмущает, когда кое-кто пытается сделать из Кольцова заядлого сталиниста, беспрекословно выполнявшего все указания Хозяина, оправдывавшего злодейские репрессии против безвинных людей. Это – ложь! Бессовестная и безграмотная ложь. Не стану отрицать, что не сразу, но примерно с середины 20-х годов Сталин стал импонировать Кольцову своей железной волей, неуязвимой логикой рассуждений, своего рода, если хотите, гипнозом личности, в какой-то степени, безусловно, загадочной, непредсказуемой, притягательной. И не один Кольцов испытывал это ощущение.
Брат мне как-то рассказывал о характерной сценке, которую ему довелось наблюдать еще в начале 20-х годов. В перерыве какого-то совещания или пленума в комнате за сценой собрались руководители партии, как их тогда именовали – вожди рабочего класса. Отдыхали, пили чай, беседовали. Были Рыков, Калинин, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Томский, другие. Был тут и Сталин. Он не принимал участия в разговоре, покуривал трубку и только поглядывал на беседовавших своими желтоватыми глазами. Вскоре он зачем-то вышел из комнаты. И произошла странная вещь… Все явно почувствовали какое-то облегчение, задвигались, заговорили свободнее, оживленнее. Сталин вернулся и вновь будто заморозил всех леденящим фактом одного своего присутствия. А между прочим, обладая незаурядными актерскими способностями, он умел, когда хотел, быть и любезным, и общительным, и обаятельным. Достаточно вспомнить его встречи с Фейхтвангером, Лавалем, супругами Сиснерос из Испании, впоследствии с Черчиллем и Рузвельтом.
Кольцов, повторяю, абсолютно искренне отдавал должное властной, впечатляющей личности Хозяина отнюдь не из страха или угодничества. Не раз брат с неподдельным удовольствием, граничащим с восхищением, пересказывал мне отдельные замечания, реплики и шутки, которые ему доводилось от него слышать. Сталин ему нравился. И вместе с тем Михаил продолжал по своей «рисковой» натуре опасно испытывать его терпение. И дальше – больше. Кольцов писал фельетоны, по сравнению с которыми «Загадка-Сталин» был невинной робкой шуткой, хотя можно не сомневаться, что в феноменальном «запоминающем устройстве» – в голове Сталина он занял прочное место рядом с давним фактом, касающимся фотографий Троцкого.








