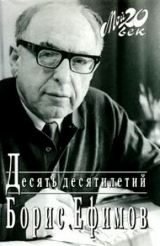
Текст книги "Десять десятилетий"
Автор книги: Борис Ефимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 45 страниц)
…А не мещанство – брак равнять с панелью?
Нет! Своего рабочего окна
Я не украшу… Розенелью!
Все сходило Демьяну с рук. Он почти официально был возведен в сан непререкаемого главы советской литературы. Литературные подхалимы требовали «одемьянивания» советской поэзии.
И вдруг… Незыблемое, казалось, величие Демьяна с треском рухнуло. А все началось с малозаметного на первый взгляд обстоятельства. Что же произошло? Как и почему благоденствующего Демьяна постигла жестокая опала? Причина происшедшей с ним аварии заключалась, несомненно, в том, что в своем глупейшем самомнении, в оголтелом упоении своими успехами он не удостоил внимания или не придал значения высказываниям Сталина по вопросам исторической науки и преподавания истории в учебных заведениях, а продолжал иронически-пренебрежительно, почти издевательски писать о таких событиях, как крещение Руси, высмеивал былины о русских богатырях и т. п. В частности, написал разухабистый, почти пародийный текст для постановки оперы «Богатыри» в Камерном театре.
Это вызвало неудовольствие Сталина, так же как и пространные стихотворные фельетоны «Перерва», «Слезай с печки», безудержно громившие такие «исконные русские черты», как лень, отсталость, пьянство, низкопоклонство…
Тут необходимо сказать еще об одном обстоятельстве, несравненно более мелком и незначительном, чем глубокие проблемы русской истории, но которое тоже весьма повредило Демьяну. Дело в том, что в аппарате правительства в Кремле работал один молодой журналист, Миша Презент. Бойкий, остроумный, находчивый, он пришелся Демьяну по душе и стал у него в доме «своим человеком». Запросто приходил, рассказывал Демьяну городские новости и сплетни, болтал о разных разностях. Этот Миша Презент имел обыкновение вести дневник, куда записывал все события дня и, естественно, все высказывания Демьяна, в особенности его впечатления, когда поэт возвращался после встреч со Сталиным и был под свежим впечатлением от беседы с Хозяином.
Нетрудно догадаться, что литературное занятие Презента не ускользнуло от внимания тех, кому это было положено. Дневники были изъяты, а их автор очутился за решеткой, откуда больше не вышел… А Хозяин получил возможность прочесть о себе такой отзыв Демьяна: «Не могу видеть, как он обращается с книгами… При мне принесли новые издания и толстые журналы. Так он не берет разрезального ножа, а разрывает страницы своим толстым пальцем. Какое варварство!..» Можно понять страдания книголюба Демьяна, но нетрудно догадаться, что к подобным замечаниям о себе Хозяин не привык…
Вспоминаю, кстати, как в ту же пору я встретился с Демьяном в букинистическом магазине. Едва мы вышли на улицу, как Демьян разразился жалобами на «этого подонка Презента»:
– В какое дурацкое положение меня, мерзавец, поставил! Иду по Кремлю, встречаю Авеля Сафроновича Енукидзе. Смотрит в сторону… Я сразу ему: «Авель, ты что? Поверил?» Он бормочет: «Мало ли что пишут…» А я по глазам вижу, что поверил. А этот подонок написал в своем дурацком дневнике: «Сегодня Демьян сказал: “Какой непроходимый дурак Енукидзе. Достаточно мне поговорить с ним пять минут, чтобы дико разболелась голова”».
Но это были для Демьяна только «цветочки». За ними вскоре последовали и «ягодки». Опера «Богатыри» с текстом Демьяна была постановлением ЦК снята с репертуара, а сам Демьян получил сильнейшую партийную нахлобучку. Ему бы тихо принять ее к сведению, деловито признать свои ошибки, но, привыкнув считать себя безгрешным и неприкасаемым, Демьян «полез в бутылку». Забыв, по-видимому, с кем имеет дело, он написал полное возмущения письмо «знакомому не понаслышке» другу-покровителю. Отдельные места из ответа Сталина стоит привести текстуально.
«Десятки раз хвалил Вас ЦК, когда надо было хвалить. Десятки раз ограждал Вас ЦК (не без некоторой натяжки!) от нападок отдельных групп и товарищей из нашей партии… Вы все это считали нормальным и понятным. А вот когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике Ваши ошибки, Вы вдруг зафыркали… На каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать Ваши ошибки?.. Может быть, Ваши стихотворения выше всякой критики?.. Побольше скромности, т. Демьян… И. Сталин».
Гром грянул. Вскоре после теоретического разбора ошибок Демьяна, политических, исторических, антинародных, аморальных и всяких иных, последовали и оргвыводы. У Демьяна был отобран партбилет, его исключили из Союза писателей, отстранили от работы в печати. Разумеется, вчерашние подхалимы, требовавшие «одемьянивания» поэзии, быстренько превратились в свирепых критиков, разносивших в пух и прах его произведения последних лет. Но по тем страшным временам можно было считать, что Демьян отделался легким испугом: ведь не попал ни за решетку, ни за колючую проволоку, а остался в Москве со своей библиотекой. И где-то на втором году Великой Отечественной войны был до определенной степени амнистирован: допущен к работе в «Известиях», где под моими карикатурами, как бывало в 20-х годах, стали печататься его стихотворные тексты. Но подпись под ними была не Демьян Бедный, а другая: Д. Боевой.
Рассказав о Демьяне Бедном, я вспомнил еще одного поэта той поры, с которым был неплохо знаком. Это – Иосиф Уткин. Ему больше к лицу была бы не эта безобидно-тихонькая «птичья» фамилия, а скорее – Орлов или Ястребов, на худой конец – Дроздов или Синицын. Он был статным, стройным, с горделивой осанкой, с волнистой копной непокорных волос, что называется – красавец мужчина. Под стать внешности были и его стихи, задуманные быть красивыми, звонкими, бьющими на эффект. Поэзию Уткина трудно назвать подлинно глубокой по мысли, проникновенной и волнующей, хотя его творчество периода Великой Отечественной войны, безусловно, заслуживает высокой оценки по своей эмоциональной и патриотической направленности.
Иосиф Уткин появился в Москве в начале 20-х годов. Он родился на Дальнем Востоке в небогатой еврейской семье. В 20-м году семнадцатилетним юношей вступил в ряды Красной армии. Его поэтическим дебютом в Москве стала проникнутая тонким юмором и лирикой поэма «Повесть о рыжем Мотэле», сразу обратившая на себя внимание. Эту небольшую книжечку с прелестными иллюстрациями Константина Ротова Анатолий Луначарский назвал «подлинной жемчужиной», ее похвалил даже такой требовательный человек, как Маяковский.
Стихи Уткина стали систематически появляться в столичных газетах и журналах. Многие строчки из его произведений становились крылатыми, но, если можно так выразиться, со знаком «минус», вызывая часто иронические реплики. Так, обращаясь в одном из своих стихотворений к некой девушке, по мнению поэта, мещанке по духу и стилю, Уткин патетически восклицал:
…Что же дали вы эпохе,
Живописная лахудра?
Поэт Александр Жаров откликнулся такой эпиграммой:
Быть может, я не буду мудр,
Когда скажу, припоминая,
Что «живописных» тех «лахудр»
Мы девушками не считаем.
А на другие уткинские строки: «…Не твоим ли пышным бюстом Перекоп мы защищали?..» из того же стихотворения о «лахудре» Маяковский отозвался с удивлением, заметив, что Перекоп мы отнюдь не защищали, а брали штурмом. Он же адресовал Уткину такую эпиграмму:
О, бард,
сгитарьте тарарайра нам!
Не вам
строчить
агитки хламовые.
И бард поет,
для сходства с Байроном
на русский
на язык
прихрамывая.
Возможно, тут требует пояснения слово «сгитарьте». Дело в том, что Уткин в противовес известной поэме Жарова «Гармонь» объявил себя приверженцем гитары, написав в честь этого инструмента соответствующие стихи.
…Я дружил с Уткиным. Он был мне симпатичен при всей его явной и, я сказал бы, простодушной самовлюбленности. Помню, как он говорил мне на полном серьезе:
– Ты знаешь, Боря, трудно описать, как меня любит молодежь. Просто удивительно.
– Главным образом, наверно, ее женская половина, – заметил я.
Уткин, улыбаясь, небрежно махнул рукой. Потом сказал:
– Кстати, Боря, у меня к тебе просьба. Я тут дал в «Огонек» одну вещицу. Может быть, сделаешь к ней рисунок?
Рисунок я сделал. И так случилось, что к стихотворению, адресованному Уткиным даме его сердца, послужил иллюстрацией рисунок, изображавший даму моего сердца, что, между прочим, было с неудовольствием воспринято обеими дамами.
А Жаров с Уткиным примирились между собой, несмотря на непримиримую их «конфронтацию» в вопросе о первенстве гармони и гитары. Их фамилии часто появлялись рядом в их печатных и устных выступлениях против литературных противников – Маяковского, Кирсанова, а иногда и Пастернака. Остряки даже стали соединять их фамилии в одну – ЖУткин. Помню, как в нашумевшем в свое время диспуте «ЛЕФ или блеф» – ожесточенной словесной баталии в Большой аудитории Политехнического музея, Жаров и Уткин сидели в первом ряду на одном стуле, забрасывая стоявшего на сцене Маяковского всяческими ехидными репликами. Маяковский крикнул Уткину:
– Если вам не нравятся стихи в «ЛЕФе», как же вы подписали его к печати в Гослитиздате?
– Я подписал как редактор отдела поэзии, – ответил Уткин. – А как поэт я против.
– Но вы редактор, – отпарировал багровый от злости Маяковский, – только потому, что вы поэт. Не буду говорить – какой.
В предвоенные годы Уткин продолжал вращаться в «высшем свете» столицы с утвердившейся за ним репутацией покорителя женских сердец, неизменно давая повод к пересудам и даже сплетням по поводу его романтических дел. Казалось, что он уже войдет в историю литературы этаким не очень серьезным, временно модным поэтом, о которых с иронией писал Маяковский. Но грянувшая вскоре Великая Отечественная война стала суровой и беспристрастной проверкой людей, их подлинной сущности. И Уткин успешно выдержал испытание. Он оказался мужественным бойцом, настоящим фронтовым поэтом. На третьем году войны он был тяжело ранен в руку и ненадолго приехал в Москву. Мы встретились на улице, у Центрального Дома литераторов. Я не сразу узнал его, загоревшего и как-то повзрослевшего.
– Ты ли это, Иосиф?! – воскликнул я.
– Вроде бы я, Боря. На пару дней в Москву, а потом обратно, гнать фрицев до Берлина. И снарядами, и пулями, и стихами.
Но Уткин не дошел до Берлина. Тут же под Москвой он погиб в нелепо потерпевшем аварию самолете.
Глава девятая
… 1929 год ознаменовался для меня интереснейшим воздушным путешествием – круговым перелетом по Европе маршрутом: Москва – Берлин – Париж – Рим – Лондон – Варшава – Москва. Этот перелет был задуман в Москве как своего рода наглядная иллюстрация к высказыванию Сталина в характерном для него афористическом стиле: «У нас не было авиационной промышленности. У нас теперь есть авиационная промышленность». Самолет АНТ-9, на котором совершался перелет, был детищем Андрея Николаевича Туполева, талантливого советского авиаконструктора. Самолет этот еще очень мало напоминал собой сегодняшние межконтинентальные лайнеры, но по тем временам представлял собой великолепное достижение молодой советской авиационной промышленности. Ему присвоили многозначительное имя – «Крылья Советов». Пилотом был тогда уже известный, а впоследствии Герой Советского Союза – Михаил Громов. Пассажирами – деятели гражданского воздушного флота и группа журналистов, всего 11 человек.
Серебристо-алюминиевые «Крылья Советов» с блеском пронеслись над Европой, вызывая самые разноречивые чувства: у одних искреннюю радость за успехи социалистического государства, у других – почтительное и вынужденное признание, у третьих – плохо скрытое недоброжелательство и откровенную злобу. Появление на аэродромах Берлина, Парижа, Рима, Лондона, Варшавы новехонького краснозвездного «флюгцойга», «авиона», «тримоторе», «плэйна», «платовеца» неизменно вызывало огромное любопытство, живейший интерес и даже некоторое потрясение. В самом деле: большевики, которые, по достоверным и точным выкладкам белогвардейской и антисоветской печати, должны были вот-вот погибнуть от внутренних затруднений, не только упорно не погибали, но даже ухитрялись строить замечательные самолеты, не уступающие по своим летным качествам лучшим европейским образцам. Буржуазная пресса писала о «Крыльях Советов» в самых сенсационных тонах: «Большевистский разведчик над Европой!», «Красный бомбардировщик», «Русский трехмоторный гигант», «Таинственный самолет из Москвы» – каких только названий и прозвищ не получал наш работяга АНТ-9…
Перелет по Европе продолжался около месяца, и все это время как самолет, так и его экипаж были окружены пристальным и не всегда дружеским вниманием, что, впрочем, нисколько не помешало богатству и разнообразию наших впечатлений. Особенно хочется вспомнить Рим.
Я впервые увидел своими глазами Вечный город и мог бы рассказывать о нем много и долго. Для экономии места и времени выделю только один день – подобный тому, который Бомарше назвал «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Но если великий французский писатель не указывает точную дату своего «Безумного дня», то наш в Риме имеет совершенно точное число: 26 июля. Он начался с того, что рано утром нас всех усадили в машины и с бешеной скоростью помчали по прямому, как стрела, шоссе Рим – Остия к древнейшему морскому порту Италии. Там нас погрузили в новейшие итальянские гидросамолеты «Савойя» ослепительно белого цвета, пилотируемые шикарными летчиками в столь же белоснежной форме – хоть сейчас на теннисную площадку… Мы со спецкором «Известий» А. Гарри очутились внутри самолетных поплавков, где довольно комфортабельно устроились на пулеметных гнездах.
Гидросамолеты доставили советских пассажиров в Неаполь. Однако нам не удалось толком рассмотреть красоты прославленного города: прямо из порта любезные хозяева привезли нас в расположенный на самой высокой точке Неаполя, холме Вомеро, ресторан, с площадки которого мы могли любоваться городом только с «птичьего полета», совсем как из самолета. Нас угостили длительным обедом и еще более длительным концертом вокально-музыкального квартета, исполнявшего, однако, не тарантеллу и не «Санта-Лючию», а (по-видимому, в порядке гостеприимства) душещипательные русские романсы: «Молчи, грусть, молчи», «На последнюю да на пятерку» и «Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской…» Вся эта музыка длилась ровно до того момента, когда уже пора было возвращаться в Рим. Снова порт, белоснежные «Савойя», Остия, Рим, и автомашины во весь опор несутся к собору святого Петра. В чем дело? Ведь мы уже посещали это великолепное сооружение!
Оказывается, внимательные хозяева угощают нас уникальным зрелищем, которого надо было ждать в буквальном смысле слова десятки лет: сегодня, впервые после 60-летнего добровольного и демонстративного заключения Римских Пап в Ватикане, Папа Пий XI торжественно выходит на окруженную знаменитой колоннадой архитектора Бернини площадь Святого Петра, то есть на территорию Итальянского королевства. Это историческое событие стало возможным в результате недавно подписанных между Святейшим престолом и правительством Муссолини Латеранских соглашений, предоставляющих Ватикану права суверенного государства наравне с Италией. Католический отец умилительно принял в свои объятия фашистского «блудного сына». Для созерцания этого трогательного зрелища нам заботливо абонировали окна в одном из окружающих площадь домов, в помещении какой-то школы. И вот, расположившись на партах и подоконниках, мы, как из театральной ложи, наблюдаем пышное церковно-театральное зрелище выхода Папы «на волю». И действительно, подобно хору, кордебалету и статистам в роскошной оперной постановке перед нами более двух часов подряд, появляясь из ворот Ватикана, огибая огромную площадь, возвращаясь в собор Святого Петра и снова выступая из ворот папской резиденции, дефилирует бесконечная процессия мальчиков в кружевных стихарях и с огромными красными свечами в руках, монахов, солдат швейцарской гвардии, аббатов, епископов, кардиналов… Наконец в тяжелых раззолоченных носилках поплыл над головами сам Пий XI. Я хорошо разглядел тучного старика в очках, с хищным ястребиным носом, и это мне очень пригодилось, когда меньше чем через год из Ватикана разнесся призыв к «крестовому походу» против большевиков и изображение чрезмерно воинственного святого отца замелькало в советских карикатурах.
Но что это? Живописное зрелище еще не закончилось, а нас снова лихорадочно торопят. В министерстве авиации советскую делегацию нетерпеливо ждет в полной парадной форме рыжебородый генерал Бальбо, заместитель министра. Бальбо здесь весьма видная фигура. Он один из «квадрумвиров» – четырех, включая Муссолини, главных вожаков фашистской партии. Впоследствии Бальбо получил звание маршала, был назначен вице-королем Ливии и завершил свою блестящую карьеру тем, что, не поладив с дуче, скоропостижно почил во время авиационной катастрофы, причины которой остались невыясненными.
Из министерства авиации кавалькада машин мчится через весь Рим куда-то за город и, остановившись на минуту у чугунных ворот возле часовых, въезжает в сад старинного римского палаццо – Виллы Торлония. Несколько минут ожидания в небольшом зале в стиле ренессанс – и к нам выходит выхоленный загорелый мужчина с проседью, одетый в белый фланелевый костюм и франтовские двухцветные туфли. Это итальянский министр авиации, он же по совместительству министр военный, морской, внутренних дел, иностранных дел, труда и колоний, а заодно и председатель совета министров и одновременно глава фашистской партии. Короче говоря – Муссолини.
Корреспондент «Правды» на «Крыльях Советов» Михаил Кольцов иронически писал потом в своем очерке: «Да, да, в исторический для всей Италии и для всех католиков вечер исхода Папы из шестидесятилетнего заключения глава правительства, дуче официально принимал одиннадцать советских граждан-безбожников… Да простит Господь это вольное или невольное прегрешение Бенито Муссолини!»
Полпред Дмитрий Иванович Курский поочередно представил членов экспедиции. Каждому Муссолини пожал руку. Дуче принимал картинные позы, по-наполеоновски скрещивал на груди руки, задавал вопросы и, величественно кивая головой, выслушивал ответы Д. И. Курского и В. А. Зарзара – руководителя нашей делегации и деятеля советского гражданского воздушного флота.
Я с понятным любопытством разглядывал эту живую сатирическую «натуру» и с особым вниманием нос дуче. Дело в том, что недавно на Муссолини было совершено покушение, причем пуля задела внушительный его нос. При его болезненной страсти к саморекламе было использовано даже это обстоятельство: я видел своими глазами открытки, где красовался Муссолини с наложенной на нос повязкой. Но, видимо, пластическую операцию провели на высоком уровне, и нос главы правительства был в полном порядке.
Наконец беседа, в основном, о развитии международных воздушных сообщений и об авиалиниях в СССР, протяженности которых Муссолини выразил вежливое удивление, пришла к концу. В этот момент Кольцов выступил вперед и протянул Муссолини свой альбом для автографов, который всегда брал с собой в поездки. Дуче отпрянул, но потом, улыбнувшись, взял альбом и на самом верху открытой страницы крупно начертал свою фамилию. Затем, отступив еще на шаг, поднял руку в «римском приветствии» (вскоре заимствованном Гитлером) и скрылся за дверью.
Этот безумный день завершился товарищеским ужином в недорогом ресторанчике на Яникюльском холме у памятника Гарибальди. Мы оживленно обсуждали события дня – и тут произошло еще одно событие, безусловно, не имеющее большого общественного значения, но для меня достаточно значительное. Запоздавший к нашему застолью корреспондент ТАСС Карл Гофман принес мне телеграмму из Москвы, почему-то на латинском языке, извещавшую меня о рождении сына. Этот факт не остался незамеченным, и мне пришлось из своих скудных командировочных раскошелиться на большую флягу «Кьянти».
Вскоре к нам присоединился запоздавший Громов.
– Вот, Михаил Михайлович, – начал я, улыбаясь, – днем мы видели Римского Папу, а теперь один из ваших пассажиров сам стал папой.
Он невозмутимо, без улыбки обратил на меня спокойный взгляд своих зорких глаз.
– Вот как? – заметил он. – Кто же этот счастливец?
Я молча протянул ему только что полученную из Москвы телеграмму. Громов взял в руку листок, прочел текст «Поздравляем сыном», но «на челе его высоком не отразилось ничего». Он вернул мне телеграмму, заметив:
– Коротко, но вполне содержательно. Что ж, поздравляю.
Я хотел было еще пошутить насчет «разных пап», но поперхнулся, поняв, что Громова занимают совсем другие предметы – наш завтрашний вылет из Рима.
Не берусь судить, из каких соображений: политических, экономических, дипломатических или саморекламных – дуче счел нужным принять советскую делегацию, но этот странный флирт фашистов с большевиками не прошел на Западе незамеченным. Разные газеты изощрялись в комментариях и домыслах, причем кто-то сочинил, что в ответ на «римский жест» фашистского главаря мы все тоже подняли вытянутые руки. Свидетельствую, что на самом деле этого не было, мы просто поклонились. Тем не менее эта шумиха получила соответствующий отклик в Москве: «за несогласованную встречу с руководителем итальянской авиации», как было сформулировано в постановлении высокой инстанции, всем участникам перелета был объявлен строгий выговор с запрещением выезда за границу в течение двух лет.
Другой день, о котором я хочу рассказать, был днем нашего отлета из Рима в Лондон и начался как-то кисло и нескладно. Прежде всего выяснилось, что сводка погоды на трассе этого, по тем временам весьма трудного перелета не внушает восторга. Далее, А. Гарри, который отличался тем, что знал все на свете, включая то, чего на свете и не было, сообщил по секрету каждому из членов экипажа, что наш всегда спокойный и выдержанный пилот находится в весьма скверном расположении духа и дал домой телеграмму, заканчивавшуюся словами: «Надеюсь, увидимся». Хорошо зная богатую и гибкую фантазию спецкора «Известий», мы тем не менее несколько приуныли.
Окончательно испортилось наше настроение, когда, прибыв рано утром на столичный аэродром «Литторио», мы обнаружили, что любезные хозяева абсолютно ничего не подготовили к старту. Никто из итальянской администрации даже не знал, где находятся ключи от ангара, в котором стоял под охраной наш АНТ. Начались бесконечные переговоры и звонки в министерство авиации, откуда наконец прибыл какой-то невыспавшийся офицер. Потом мы собственными руками бодро выкатили самолет из ангара и помогали заправлять горючим. Нетрудно догадаться, что свежий воздух римского утра оглашался в это время весьма теплыми и сочными пожеланиями по адресу местного начальства. Особенно «высокого художественного уровня» достигал при этом начальник экспедиции Зарзар. Наконец с почти двухчасовым опозданием мы стартовали из Рима, держа курс на Ливорно – Геную – Марсель.
Не успели мы занять свои места в самолете, как Кольцов начал что-то писать в своем блокноте и вскоре пустил по рукам составленный по всей форме опросный лист, содержавший один-единственный вопрос: «Прилетим ли мы сегодня в Лондон?» В кабине самолета заскрипели карандаши, и лист стал покрываться утвердительными ответами: «Да», «Конечно», «Без всякого сомнения» и т. п. Предпоследнюю запись сделал Зарзар: «Безусловно!», после чего опросный лист поступил в пилотскую кабину и вернулся оттуда со следующим, повергшим всех в глубокое раздумье ответом М. Громова: «И да, и нет».
Между тем погода продолжала ухудшаться. Когда после короткой остановки в Марселе АНТ-9 круто взял на север и пошел вдоль долины реки Роны, все вокруг заволокло туманом, в окна самолета начал хлестать проливной дождь. Стало темно и противно. Преодолевая сопротивление злого, порывистого ветра, АНТ на небольшой высоте упорно шел вперед над каким-то угрюмым, поросшим лесом горным хребтом. «Да-a, в случае чего садиться-то здесь негде…» – подумал я, глядя в окно.
Но я ошибся: посадка самолета состоялась, причем вынужденная. Когда самолет резко пошел на снижение, Кольцов обернулся ко мне и сделал жест большим пальцем вниз. Это было достаточно красноречиво. «Ну, вот и катастрофа», – решил я и приготовился к удару о землю. Но катастрофы не произошло: самолет упруго коснулся колесами мокрого луга, прокатился еще десяток-другой метров и остановился. Все мы высыпали наружу. «Ну, я думал, гроб», – спокойно сообщил пилот своим пассажирам.
Как оказалось, мы совершили эту незапланированную посадку вблизи небольшого городка Невер, и нужно было выдающееся мастерство Громова, чтобы в эту непогоду разглядеть подходящую площадку для приземления, которая, как потом выяснилось, оказалась засекреченным военным аэродромом. Можно себе представить, какой переполох произвело в тихом провинциальном городке буквальное «падение с неба» того самого таинственного большевистского бомбардировщика-разведчика, о котором столько писали газеты. И те же самые газеты получили настоящую добротную сенсацию, наперебой сообщая о жуткой катастрофе, не сходясь только в количестве убитых и раненых.
Переночевав в лучшем неверском отеле, где, между прочим, в свое время останавливался Наполеон с некой неизвестной дамой, мы снова погрузились в наш вымытый и заправленный самолет и стартовали. Не успели мы подняться высоко в воздух, как Кольцов снова достал свой блокнот и снова пустил по кабине опросный листок опять с тем самым единственным вопросом: «Прилетим ли мы сегодня в Лондон?» К сожалению, ответы на этот вопрос, и устные и письменные, содержали такие высказывания по адресу автора опросного листка, что я не решаюсь их воспроизвести. Только из пилотской кабины листок вернулся с кратким и вежливым ответом Михаила Громова: «Да».
…Напомню, что до Рима «Крылья Советов», согласно маршруту нашего перелета, посетили Париж. Перед глазами: Лувр, собор Парижской богоматери, Триумфальная арка, Вандомская колонна, Версальский дворец, кладбище Пер-Лашез, десятки и сотни других достопримечательностей – и виденных мною ранее, и увиденных впервые. К числу последних относится и «достопримечательность» несколько особого порядка, о которой я собираюсь рассказать. Надо при этом иметь в виду, что Париж – это Париж… И в облике, и в быту этого великого города, сложного, многогранного и противоречивого, мы находим не только светлые черты…
Итак, мы входим в шикарный подъезд большого здания на улице Шабанэ. Здесь располагается учреждение, или, вернее, предприятие, под названием «ШАБАНЭ. Дом всех наций». Видимо, здесь располагается нечто, связанное с интернациональной солидарностью? Может быть, новый Интернационал, после 2-го Социалистического и 3-го Коммунистического? Нет, «Дом всех наций» не имеет ничего общего с идеями социализма и коммунизма. Не висят в нем портреты Маркса, Бебеля или Жореса. Здесь царит нечто совсем другое – то, что является силой не менее мощной и непреодолимой, чем голод или жажда. Эта сила – секс.
В вестибюле нашу группу встречает важная дама и сразу осведомляется: намерены ли господа только осматривать Дом или пожелают в нем задержаться?
– Только осматривать, – поспешно говорит сопровождающий нашу группу сотрудник полпредства. (Им был Лев Эльберт, выполнявший в посольстве «определенные» обязанности.)
Интерес важной дамы к нашей группе явно снижается, но она вызывает другую даму, по-видимому, рангом пониже, и поручает ей быть нашим гидом. Мы шествуем по этажам и коридорам и видим «производственную деятельность» этой оригинальной «индустрии», так сказать, на ходу… Все чрезвычайно организованно и деловито, как где-нибудь на кондитерской фабрике или на производстве детских игрушек. Но вот мы лицезреем «гвозди», которыми гордится этот Дом.
Это, во-первых, огромная зеркальная комната испанского короля Альфонса (забыл его порядковый номер), который, как оказывается, любил вкушать радости жизни, видя свое отражение, тысячекратно повторенное на стенах, потолке и на полу. Показывают и личную комнату английского короля Эдуарда VII, где установлено специальное большое кресло, похожее на зубоврачебное. Грузная комплекция монарха требовала именно такого оборудования… Далее демонстрируется специальная комната для клиентов, отмеченных садистскими или мазохистскими наклонностями, в которой висят в должном порядке хлысты, плетки, палки и другие соответствующие принадлежности. Далее показывают… впрочем, ей-богу, противно об этом рассказывать. Ограничусь только одной сценкой.
Небольшая комната. В ней широкая кровать. Две девицы в чем мать родила демонстрируют «способы любви». Видимо, информированные о том, что мы – гости из Москвы, они сопровождают свой «показ» забавно искаженными и перевранными русскими песенками: «Ой, польним-польна коробуска, есть и ситес, и порся», «Ехаль ня ялмалку укарь-купесь» и тому подобное.
Обход «Дома всех наций» потребовал довольно продолжительного времени, но наконец он заканчивается, и нас приводят в зал, где расселись девицы точно по численности нашей группы. Дама-гид обращается к нам:
– Может быть, уважаемые господа все-таки пожелают?..
– Нет, спасибо, мадам, – торопливо говорит сопровождающий нас Эльберт. – Мы очень торопимся.
Дама смотрит на него, не скрывая презрения.
– Вы, я вижу, поставлены охранять нравственность ваших друзей, – цедит она.
И мы покидаем «Дом наций», испытывая довольно противное ощущение. Но, думаю, было бы бессмысленно закрывать глаза или ханжески возмущаться этими не слишком светлыми явлениями жизни и быта Парижа, где, впрочем, как и в других столицах мира, они были, есть и будут. И ничего тут не поделаешь. Но думается, совсем не этот Париж имеют в виду писатели, поэты, барды, просто гости великого города на Сене, веками его воспевавшие и славившие, восхищавшиеся его красотой, культурой, сокровищами искусства. Не этот Париж имел в виду Маяковский, когда писал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже…»
Маяковский в Париже… Я вспоминаю поэта во дворе советского посольства, красивого, уверенного в себе, полного жизненной энергии, радости бытия и творчества…
Кто бы мог тогда подумать, что этот большой, могучий, жизнерадостный человек уйдет из жизни через два с небольшим года. Уйдет трагически, в обстановке недоброжелательства и злопыхательства, угнетенный вереницей «болей, бед и обид» в личной жизни, преданный самыми близкими друзьями. Впрочем, если вдуматься, вся жизнь и творческая биография Маяковского – это неустанное и непримиримое борение за свою поэзию, за свой стиль, за свои чувства, за свои взгляды. Это упорная, порой драматическая борьба с непониманием, косностью, завистью, злобой. Даже трагическая смерть его была многими воспринята как-то неуважительно, криво, иронически.








