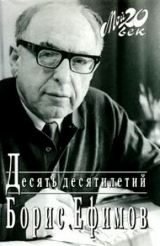
Текст книги "Десять десятилетий"
Автор книги: Борис Ефимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 45 страниц)
Глава двадцать четвертая
…Идет год пятидесятый. Половина века – как и мне, его ровеснику. Дата внушительная, красивая, но для меня ни с какими торжествами не связанная. Хотя я и лауреат Сталинской премии – звание достаточно почетное, но, тем не менее, остаюсь в какой-то степени «персоной нон грата» и никаким общественным чествованиям не подлежу. Поэтому я охотно соглашаюсь на предложение Льва Романовича Шейнина поехать вместе в Кисловодск, отдохнуть и полечиться. Мне-то, откровенно говоря, лечиться было не от чего. Но Лев Романович к этому времени обзавелся болезнью, не совсем обычной и, увы, неизлечимой – ракобоязнью. Он не переставал говорить о коварстве этого недуга, который, по его словам, может возникнуть из любой родинки, бородавки, царапины. Помню, однажды он чуть не насильно поволок меня на прием к видному профессору, генералу медицинской службы.
– Уверяю вас, Боря, – настаивал он, – это необходимо. Надо время от времени проверяться. Сначала профессор посмотрит меня, а потом вас.
Так и сделали. Я подождал в приемной, куда минут через двадцать вышел Шейнин, и вошел в кабинет. Профессор осмотрел меня быстро, довольно небрежно и отпустил, сказав, что не видит оснований для беспокойства и специального обследования. Но Шейнин вцепился в меня мертвой хваткой.
– Боря! Скажите честно, что он сказал вам обо мне? Ничего от меня не скрывайте! Что он сказал?
– Левушка! Ничего он о вас не говорил.
– Нет! Говорите правду! Не сказал ли он – плохи дела у нашего Льва Романовича?
– Клянусь вам, Левушка, абсолютно ничего такого он не говорил!
Но Шейнин смотрел на меня подозрительно и долго не мог успокоиться…
Весьма любопытной фигурой остался он в моей памяти – личность своеобразная, парадоксальная, ни в какие привычные рамки не вмещающаяся. В чем же был его парадокс? В нем как бы совмещались два человека. Один – веселый, общительный, остроумный балагур, «душа общества», подкупающий редким даром рассказчика, мастер добродушных, смешных розыгрышей. С ним охотно дружили такие известные деятели культуры, как Иван Берсенев, Григорий Александров, Юрий Завадский, Василий Гроссман, братья Тур, Фаина Раневская, Роман Кармен, Мария Миронова, Константин Симонов, многие другие. Шейнин был также одаренным литератором – его перу принадлежит книга «Записки следователя», «бестселлер» той поры, а также пьесы и киносценарии. Но был и другой, как бы остававшийся в тени Шейнин – следователь по особо важным делам Прокуратуры СССР И многие уже догадывались, что в компетенции Шейнина не только уголовники – жулики, воры и спекулянты, описываемые в «Записках следователя» весело и благодушно, но он имеет прямое касательство к страшной карательной машине сталинского режима, тем более что не была секретом его непосредственная близость к Андрею Януарьевичу Вышинскому, бессменному обвинителю на инсценированных процессах 30-х годов. Думается, что Лев Романович, будучи по должности помощником такого человека, не мог не знать, как добывается признание от «врагов народа» (согласно постулату Вышинского – «признание – царица доказательств»), хотя мне не верится, что он был непосредственно причастен к пыткам и истязаниям.
Мы дружили, что называется, домами. Я был для него – Боря, он для меня – Левчик. Помню забавный эпизод, когда Левчик пригласил нас с женой к себе домой обедать, предупредив, что будут также Александров с Орловой, пойдет разговор о планируемом кинофильме по его сценарию, оформление которого, как я догадывался, он хотел предложить мне. Моя жена, весьма щепетильная в вопросах этикета, не переставала мне напоминать, что на обед ни в коем случае не принято опаздывать и что мы должны быть у Шейниных минута в минуту к шести часам, согласно приглашению. И помню, я свято поверил жене, что можно опаздывать куда угодно, но только не к обеду. И поэтому, когда мы подошли к подъезду, где жил Шейнин и, взглянув на часы, обнаружили, что до шести остается еще семь минут, я предложил погулять на улице перед домом, чтобы позвонить в квартиру Левчика точно в срок. Так мы и сделали, но на наш звонок дверь не открылась. За ней слышались только чьи-то торопливые шаги, какие-то приглушенные голоса. Подождав пару минут, я позвонил снова. На этот раз за дверью вообще ничего не было слышно. Мы в недоумении переглянулись. Еще один звонок также не дал результатов. Мы не знали, что и думать, но дверь неожиданно отворилась и перед нами предстал Шейнин в подтяжках и в одном ботинке.
– Тамара! – закричал он в глубь квартиры. – Пришли гости.
– Я еще не готова! – послышался отдаленный голос его жены. – Попроси подождать.
Широким гостеприимным жестом, ничуть не смущаясь, Шейнин пригласил нас к себе в кабинет и куда-то исчез.
– К обеду не принято опаздывать, – прошипел я, глядя на жену.
Она молча развела руками.
Примерно минут через сорок появились Григорий Александров и Любовь Орлова, еще минут через двадцать нас пригласили к столу. Как я и ожидал, после обеда пошел разговор о задуманном Шейниным фильме «Встреча на Эльбе». Должен сказать, что от оформления этого фильма я уклонился: все-таки не мой жанр.
Шейнин продолжал преуспевать на литературно-театральном поприще. Его пьесы (некоторые в соавторстве с братьями Тур) ставились в таких театрах, как Камерный и Ленинского комсомола, выходили на экран фильмы по его сценариям, переиздавались, дополненные новыми увлекательными новеллами «Записки следователя». Надо думать, что он преуспевал и в своей ипостаси «следователя по особо важным делам». Он был, как говорится, «в полном порядке».
И вдруг… Встретив как-то на улице Сергея Михалкова, я от него услышал:
– А знаешь, Боря, этого толстяка Шейнина посадили. Говорят, упал в обморок, когда за ним пришли. Там теперь, поди, похудеет.
Я остолбенел.
– Да ты что, Сережа? Шейнина посадили? Да он сам всех сажает.
– Ну и что? – философски заметил Михалков. – Сажал, сажал и досажался…
Забегая вперед, скажу, что Шейнин года через полтора так же внезапно как и был арестован, вышел на свободу. Мы с ним встретились в Серебряном бору и, естественно, разговорились. Конечно, он не стал посвящать меня в причины своего ареста, ограничившись чисто бытовыми подробностями, и сказал, между прочим:
– Боря, спросите у Тамары, с каким олимпийским спокойствием я уходил из дома.
Я вспомнил слова Михалкова и, признаться, остался в недоумении: что было тогда – «обморок» или – «олимпийское спокойствие». Однако меня не переставали интересовать причины его ареста, и однажды, при встрече на улице, оглянувшись по сторонам и понизив голос, Шейнин произнес одно единственное слово:
– Михоэлс….
Смысл этого, более чем краткого ответа стал мне ясен только несколько лет спустя, когда после смерти Сталина люди стали более откровенны и Шейнин поведал мне, что с ним произошло. Я узнал, что он был командирован в Минск в качестве «следователя по особо важным делам» в связи с загадочной гибелью выдающегося артиста Михоэлса. И для опытного Шейнина не представило труда установить, что никакой автомобильной аварии, о которой официально было объявлено, не произошло, а имело место хорошо подготовленное циничное убийство, следы которого вели непосредственно в органы государственной безопасности и, в частности, к весьма высоким особам. Можно не сомневаться, что самая тщательная слежка велась и за «следователем по особо важным делам», от которого, видимо, ожидали, что он подтвердит факт «автомобильной аварии» и чистую случайность гибели Михоэлса. Таким образом, следовательская зоркость, опыт и умение Шейнина оказали ему в данном случае плохую услугу.
«Наверху» сочли необходимым немедленно убрать слишком дотошного следователя.
Один из руководителей Еврейского антифашистского комитета, в дни войны посещавший США и пламенно агитировавший там за поддержку Советского Союза против гитлеровского фашизма, Михоэлс не был арестован вместе с Фефером, Лозовским, Маркишем, Квитко, Зускиным, другими общественными деятелями, поэтами, артистами – членами Комитета. Для него по указанию Сталина была применена другая форма расправы…
Михоэлса провожали в последний путь с большим почетом. Мне довелось присутствовать на многолюдной панихиде в помещении ГОСЕТа (Государственного еврейского театра, вскоре по указанию свыше закрытого). Выступали друзья и почитатели великого артиста – Александр Фадеев, другие выдающиеся русские писатели, торжественно и печально звучала музыка, пел Иван Козловский. А через короткое время было официально объявлено, что Михоэлс – буржуазный еврейский националист и агент американской террористической организации «Джойнт».
Следующей еще более широко задуманной антисемитской акцией должно было стать разоблачение «убийц в белых халатах» – арест группы крупнейших врачей еврейской национальности, профессоров, работавших в лечебном управлении Кремля. Их обвиняли в злоумышленном неправильном лечении, якобы ставшем причиной смерти Жданова и других высоких партийных сановников, а также в том, что они замышляли убиение самого «Отца и Учителя». По детально разработанному сценарию они после суда должны были быть преданы публичной казни на Лобном месте на Красной площади. И дело «убийц в белых халатах» должно было стать прелюдией к тотальной депортации их соплеменников в дальние лагеря Сибири. Осуществлению этого умело разработанного плана помешало только то, что Сталин неожиданно для самого себя отправился в мир иной.
…Казалось, что Сталин никогда не умрет. Во всяком случае, люди верили, что он, как многие кавказские долгожители, может прожить до ста лет. В глазах миллионов, думается мне, он был уже не человеком, а неким суровым и грозным явлением природы, как леденящий полярный холод или сжигающая все живое тропическая жара, как многолетняя гибельная засуха или эпидемия чумы. Но, страшно сказать, люди нашей страны привыкли жить в этой атмосфере, они так же освоились со своими условиями существования, как с ними осваиваются люди, живущие у подножия действующего вулкана под постоянной угрозой погибнуть при извержении огненной лавы. Люди жили своей повседневной жизнью, влюблялись и ревновали, вступали в браки и разводились, пели песни, сочиняли стихи и музыкальные произведения, писали романы и пьесы, строили города, фабрики, заводы, мосты, прокладывали железные дороги, воздвигали гигантские электростанции. И рядом с высоким созидательным трудом, рядом с развитием культуры и искусства существовали подлая жестокость, гнусное доносительство, низменный страх, всеобщая подозрительность. Ни для кого не было секретом, что многие «стройки века» возводятся миллионами людей, безвинно репрессированных и составляющих население огромного ГУЛАГа (десятков концентрационных лагерей) – своего рода государства в государстве.
Но Сталин не оказался кавказским долгожителем. А обстоятельства его смерти окутаны некоей тайной… О Последних предсмертных часах «Отца народов» существуют воспоминания Хрущева, Молотова и дочери Сталина Светланы, сотрудников охраны и некоторых врачей, во многом между собой не совпадающие. И мы не знаем, действительно ли, оставшись наедине со Сталиным, Берия помог ему отправиться в «мир иной». Мы не знаем, действительно ли роковую роль сыграло то, что тот же Берия нарочно задержал на несколько часов вызов врачей из Кремлевской поликлиники. Мы многого не знаем и вряд ли узнаем. Бесспорно одно, внезапная смерть Сталина ошеломила и потрясла страну и, надо признать, погрузила ее в неподдельную скорбь. Вместе с тем, можно не сомневаться, что ближайшие его «верные и преданные» соратники скорбеть скорбели, но испытывали чувство огромного облегчения – хорошо известно, что и Молотов, и Микоян, и Ворошилов, и даже сам Берия далеко не были уверены в своем завтрашнем дне: беспощадная и неминуемая «чистка» ближайших к тирану соратников, как в свое время уничтожение Сталиным старых соратников Ленина, висела над ними дамокловым мечом. И тихо радовалось про себя немало людей, денно и нощно живших под не покидающим их страхом ареста за неведомое и несовершенное преступление.
Уход Сталина из жизни и похороны «Великого Вождя и Учителя» были вполне достойны его правления и режима. Это была настоящая Ходынка, пробная той, которая сопровождала коронацию последнего царя. Но на этот раз гибель сотен задушенных и задавленных людей произошла не на загородном Ходынском поле, а в центре Москвы на Трубной площади. Чудом спасся и мой внучек Витя, которого бабушка, к счастью, успела выхватить из толпы при выходе из детского сада.
…В воспоминаниях очевидцев последних часов Сталина, в частности, у Н. С. Хрущева и у дочери Сталина Светланы совпадают впечатления о том, как нагло и самоуверенно вел себя Лаврентий Берия. Он почти не скрывал своей радости и расчетов на то, что вскоре власть перейдет в его руки и он станет преемником Хозяина. Его коварный замысел, как впоследствии говорили, состоял в том, что на одном из будущих правительственных спектаклей в Большом театре, в ложе, где соберутся члены Политбюро, произойдет взрыв и уцелеет только он, Берия, «случайно» опоздавший на спектакль. Но нашла коса на камень – коварство и хитрость Берия, натолкнулись на крепкую мужицкую смекалку Хрущева. Хрущев быстро разобрался в сложившейся после смерти Сталина обстановке и не без труда убедил Молотова, Маленкова, Кагановича, Ворошилова и некоторых других членов Политбюро в необходимости избавиться от опасного Лаврентия. На заседании Политбюро Берия был внезапно схвачен группой военных, возглавляемых маршалом Жуковым, и надежно изолирован в бункере Генерального штаба. Далее все было в лучших советских традициях: Берию «изобличили, как английского шпиона», осудили на закрытом судебном заседании и расстреляли.
Прочтя в газетах сообщение о деле Берии, где упоминалось, между прочим, о произведенных им арестах ни в чем неповинных людей, я немедленно написал письмо Ворошилову, занявшему после смерти Сталина пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Я напоминал маршалу о его дружелюбном отношении к Михаилу Кольцову. При этом я искренно верил, что брат действительно жив и находится в дальних лагерях, как об этом мне цинично солгал армвоенюрист Ульрих.
Я писал Ворошилову:
«…В марте 1940 года в канцелярии Военной Коллегии Верховного Суда мне сообщили, что брат осужден на 10 лет заключения в дальних лагерях без права переписки.
Прошло 15 лет. О брате ничего не известно. Никаких сведений о нем не дают и органы МВД, куда я обращался.
Я не знаю, в чем обвинили Кольцова, не знаю теперь, была ли за ним подлинная вина. Но, во всяком случае, я убежден, что он понес достаточно суровую кару не только пятнадцатилетним заключением, но еще более тем, что в расцвете творческих сил и энергии, накануне решающей схватки с гитлеризмом был вычеркнут из боевых рядов советской журналистики.
Дорогой Климент Ефремович!
Мой брат еще не стар. Он смог бы еще послужить Родине своим пером писателя-публициста. Обращаюсь к Вам с горячей просьбой уделить внимание судьбе Михаила Кольцова, помочь ему вернуться к жизни, работе, творчеству. 28 июня 1954 года. Бор. Ефимов».
Ворошилов не оставил моего письма без внимания, и вскоре меня вызвали в Главную военную прокуратуру к военному прокурору по фамилии Аракчеев. С этого начался совсем непростой, как оказалось, процесс реабилитации. Аракчеев вызывал меня несколько раз, подробно расспрашивал о Кольцове, о деятельности которого, по молодости лет, имел довольно смутное представление. На него, в частности, произвели большое впечатление принесенные мною газетные фотоснимки, на которых Кольцов был заснят в президиуме торжественного собрания, сидящим между М. И. Калининым и Н. С. Хрущевым, встреча его на Белорусском вокзале по возвращении из Испании и другие.
– Вот как?.. – пробормотал прокурор. – Однако… я не предполагал…
– Да, – сказал я, – Кольцов был весьма популярным и видным деятелем. Возможно, кто-то был очень заинтересован в том, чтобы его убрать.
В свою очередь, я был весьма удивлен и ошеломлен, узнав от Аракчеева, что одним из обвинений против брата было то, что он организовал в редакции «Правды» подпольную антипартийную группу, в которую входили Вадим Кожевников, Владимир Луговской, Семен Кирсанов, Валентин Катаев и другие.
– Позвольте, – сказал я, – да все эти люди не были репрессированы и спокойно работают. Вадим Кожевников – редактор журнала «Знамя», Луговской и Кирсанов – известные поэты, печатаются во многих журналах и газетах. Катаев – благополучно живет в Переделкино, недавно вышел его новый роман.
Прокурор пожал плечами.
– Да, – проговорил он, – странно, странно…
Вскоре состоялась наша заключительная встреча. И Аракчеев вручил мне официальную справку на бланке Главной военной прокуратуры следующего содержания:
«Гр-ну Ефимову Б. Е. Сообщаю, что 18 декабря 1954 года Военная Коллегия Верховного суда СССР, по заключению Прокуратуры СССР, приговор по делу Вашего брата Кольцова Михаила Ефимовича отменила и дело в отношении его прекратила за отсутствием состава преступления.
За официальной справкой о прекращении дела в отношении Кольцова М. Е. Вам надлежит обратиться в Военную Коллегию Верховного суда СССР по адресу: Москва, ул. Воровского, 13.
ЗАМ.ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ Д. ТЕРЕХОВ»
Взяв из рук Аракчеева эту справку, я сказал:
– Товарищ подполковник! Вы мне тут задавали немало вопросов, я на них, как мог, отвечал. Теперь разрешите и вам задать один вопрос. Где сейчас находится мой брат?
При этом я не спускал глаз с двери на другом конце большого кабинета, в котором происходила беседа, почти уверенный, что прокурор улыбнется и укажет на эту дверь со словами: «А вот, пожалуйста. Мы его уже вызвали из лагеря». И в кабинет войдет Миша. Но Аракчеев посмотрел куда-то в сторону и ответил:
– А это вам скажут там, где вы получите свидетельство о реабилитации.
«Что ж, – подумал я, – может быть, такой порядок».
Простившись с Аракчеевым, я вышел на улицу Кирова и в трескучий мороз направился прямо в Дом Союзов. Там уже третий день проходил Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Мне не терпелось, чтобы все поскорее узнали о реабилитации Михаила Кольцова. Был перерыв между заседаниями, и я сразу направился за сцену искать Фадеева. Он что-то писал. За его спиной стоял Константин Симонов.
– Здравствуйте, Александр Александрович! – сказал я. – Вот, посмотрите.
Фадеев прочел справку прокуратуры.
– Ну, что ж. Отлично, – сказал он.
И после некоторой паузы, спросил:
– Ну, а какова же его судьба?
– Не знаю, Александр Александрович, но мне не очень нравится, что эту справку вручили мне, а не ему лично.
– Да, – задумчиво произнес Фадеев, – это внушает тревогу.
Не берусь угадывать, о чем в ту минуту думал Фадеев. Ведь по своему положению генерального секретаря Союза писателей он скреплял своей подписью постановления об аресте того или иного члена Союза. Подписал он, наверно, и арест Кольцова. И не мог он, безусловно, без внутренней горечи прочесть в этой справке об «отсутствии состава преступления».
– Александр Александрович, – сказал я, – может быть, с трибуны съезда как-то упомянуть фамилию Кольцова, которая пятнадцать лет была под запретом?
Фадеев подумал.
– Вы знаете, – возразил он, – главное не в этом. Писатель должен прийти к людям через свои произведения. Вот Симонов курирует издательство «Советский писатель». Надо срочно переиздать «Испанский дневник». Потом другие произведения.
– Да, Александр Александрович, прежде всего «Испанский дневник». И с той рецензией, которую вы написали вместе с Алексеем Толстым для «Правды» незадолго до… А вы, Константин Михайлович, были тогда еще молодой, эту рецензию, наверно, не знаете.
– Напрасно вы так думаете, – ответил Симонов. – Эту рецензию я очень хорошо помню.
Недели через три на секретариате Союза писателей было принято решение об утверждении Комиссии по литературному наследию М. Е. Кольцова в составе: Д. Заславский (председатель), Б. Агапов, К. Симонов и Б. Ефимов.
Как мне и было указано, через два дня я явился в Военную Коллегию Верховного суда СССР. Меня принял сменивший Ульриха председатель Военной Коллегии генерал Чепцов.
– Вы, собственно, напрасно побеспокоились, – любезно сказал он. – Мы бы доставили этот документ к вам домой. Но, раз вы уже пришли…
И он протянул мне внушительную бумагу с грифом Военной Коллегии. В этой бумаге было, примерно, то же самое, что в справке прокуратуры. Вручив мне эту бумагу, Чепцов как-то призадумался, вздохнул и сказал:
– Ну, а что касается… то вы сами понимаете…
– А что я должен понимать, товарищ генерал? – спросил я. – Я ничего не понимаю.
Чепцов немного замялся.
– То, что… э-э… то, что… вашего брата нет в живых. С тридцать девятого года.
Я молча на него уставился, лишившись, как говорится, дара речи. Наконец выговорил:
– Этого не может быть.
– Почему? – спросил Чепцов.
– Да хотя бы потому, что весь тридцать девятый год до марта сорокового у меня принимали для брата денежные передачи. И, кроме того, приговор был – десять лет лагерей.
– А кто вам это сказал?
– Ваш, так сказать, предшественник – Ульрих.
– Ах, Ульрих… – проговорил Чепцов с непередаваемым иронически-презрительным выражением и махнул рукой.
– Нет, нет, – настаивал я, – этого не может быть, тем более, мне передавали, что его видели и в сорок втором году в Саратове, и позже на Воркуте, и в лагере на Дальнем Востоке, и еще где-то.
Чепцов печально покачал головой.
– Вы знаете, – сказал он, – многие принимают желаемое за действительное. У меня на днях была жена Александра Косарева, генерального секретаря ЦК комсомола. Она уверена, что он работает на какой-то шахте и скоро вернется домой. А между тем… его уже давно… Ведь как там поступали. Человека расстреляли, а сведения о нем дают – жив и где-то работает, или – наоборот: человек жив, работает в лагерях, а о нем сообщают – расстрелян. Такая была система. А с вашим братом… Пожалуйста. Мы можем еще раз проверить.
– Да, да, товарищ генерал. Я прошу проверить.
– Между прочим, – неожиданно спросил Чепцов, – вы хотите посмотреть дело вашего брата? Но, предупреждаю, читать не положено. Могу вам сказать, что вашего брата пытались сделать агентом чуть ли не пяти иностранных разведок. Этим занимался небезызвестный следователь Шварцман, который фальсифицировал и многие другие дела. Сейчас он находится под судом и строго ответит за свои действия.
Передо мной положили две объемистые папки, и я открыл верхнюю. Первое, что я увидал – это был ордер на арест. Какого-то странного вида – отпечатанный не типографским способом, а на пишущей машинке. И по диагонали, через весь лист, тонким красным карандашом была начертана подпись: Л. Берия. Испытывая невыразимое волнение, я увидел далее многие и многие страницы, исписанные хорошо знакомым мне с детства легким, летучим почерком брата. Я не стал читать дело, помня предупреждение Чепцова, и поблагодарил его. Потом сказал:
– Так я очень прошу, товарищ генерал, еще раз проверить. Когда мне снова прийти?
– Приходите через месяц.
Я пришел ровно через месяц. За это время произошло следующее: из ссылки вернулся художник Михаил Храпковский, репрессированный в свое время по так называемому «делу Аллилуевых», в котором фигурировали Анна Сергеевна, свояченица Сталина, и некоторые другие его родственники со стороны жены. Не знаю, с какого боку Храпковский был с ними связан, но над ним тяготело другое нехорошее подозрение – в редакции «Крокодила» поговаривали, что он приложил руку к аресту чудесного художника, всеобщего любимца Константина Ротова. И вот этот Храпковский мне позвонил и сказал, что имеет кое-что сообщить о моем брате. Мы встретились. Вот его рассказ:
– Дело было, Борис Ефимович, в июле сорок второго года, в Саратове. Я увидел Михаила Ефимовича в бараке пересыльной тюрьмы. Он узнал меня, сказал, что его возвращают в Москву и он не ждет от этого ничего хорошего. «Если увидите Борю, – попросил он, – передайте ему, что я ни в чем не виноват».
– А как он выглядел, Михаил Борисович? – спросил я Храпковского. – Во что был одет?
– Во что одет? Да что вы? Июль месяц, в бараке чудовищная жара. Все сидели полуголые, потные… Не можете себе представить…
Понятно, с каким тяжелым сердцем я выслушал рассказ Храпковского. Не верить ему у меня не было оснований…
Итак, я снова в Военной Коллегии. Генерал Чепцов был в отъезде, и меня принял его заместитель полковник Благонравов. Он был полностью в курсе дела и сразу мне сказал:
– К сожалению, товарищ Ефимов, все подтвердилось. Это произошло в тридцать девятом году.
– Товарищ полковник, – но я встречался с человеком, который видел брата и разговаривал с ним в сорок втором году.
– А он не мог ошибиться? – спокойно спросил Благонравов.
– Он не мог ошибиться. Он – художник Храпковский, сотрудник «Крокодила», который редактировал Кольцов. Мог ли Храпковский не узнать своего редактора?
Благонравов подумал.
– Вот что, – сказал он, – сегодня вторник? Приходите, пожалуйста, в четверг.
В четверг мне была вручена справка, в которой годом смерти Кольцова был указан 1942 год… И эта дата стала официальной до тех пор, пока в «Литературной газете» не был опубликован материал за подписью Аркадия Ваксберга, основанный на подлинных документах, где говорилось, что приговор по делу Кольцова был вынесен 1 февраля 1940 года и расстрелян он был в ночь на 2 февраля, одновременно со Всеволодом Мейерхольдом.
Тридцать девятый?… Сороковой?… Сорок второй?… Не все ли равно, в каком из этих годов была несправедливо, злодейски оборвана жизнь талантливого, умного, храброго человека. Но память о нем не умерла. Дважды выходил в свет сборник «Михаил Кольцов, каким он был», на страницах которого 37 писателей, поэтов, журналистов, военных, деятелей культуры и искусства вспоминают об этом человеке, о встречах с ним и о совместной работе. 28 июня 1972 года на здании, где помещался созданный и до последнего дня возглавляемый Кольцовым ЖУРГАЗ, установлена мемориальная доска его памяти. Трижды переиздан его неувядаемый «Испанский дневник», вышел в свет трехтомник его фельетонов и очерков, в разное время печатались сборники его произведений. Он как-то сказал: «Япишу не для себя – я пишу для людей».
И он остался с людьми.
Через несколько дней после того, как я получил справку о реабилитации Кольцова, у меня дома раздался телефонный звонок. Говорил Ворошилов:
– Здравствуйте. Ну, вы больше не «браг врага народа»…
– Да, Климент Ефремович. Большое вам спасибо. Но…
– Да, да. Я знаю. К великому сожалению… Очень вам сочувствую. Ну, всего хорошего.
Я вдруг почувствовал, что этот разговор тяготит Ворошилова и ему хочется поскорее его закончить. Его не трудно было понять… Ведь реабилитированы были также «за отсутствием состава преступления» Тухачевский, Якир, Уборевич, Егоров, Блюхер, его боевые соратники по Гражданской войне, а также тысячи и тысячи других боевых командиров, к смертной казни которых он, Ворошилов, не смея перечить Сталину, приложил руку…
Разумеется, Ворошилов не мог не признавать справедливость и закономерность возвращения честного имени людям, облыжно объявленным изменниками, шпионами и злодейски уничтоженным. И я убежден, что причастность к чудовищной расправе, учиненной Сталиным, тяжелым камнем лежала на душе Климента Ефремовича. Но таков был гипноз десятилетиями взращенной фанатической преданности Хозяину, что несмотря ни на что, несмотря даже на «английского шпиона», Ворошилов оказался в числе тех руководителей партии, которые были против разоблачения Хрущевым «культа личности» в известном докладе на XX съезде КПСС. Страх перед деспотом остался и после того, как закрылись его безжалостные глаза.
…Многое способна хранить в себе человеческая память. Не случайно с давних пор огромный пласт литературы составляли во все времена всевозможные воспоминания, мемуары, записки, жизнеописания, автобиографии. Но в человеческой памяти есть, на мой взгляд, некоторое уязвимое место. Это – ее «избирательное» свойство. Иными словами, память, как правило, хранит то, что ей сохранить хочется, и охотно расстается с фактами и событиями, почему-либо ей неугодными, неприятными, тягостными. И тут на первый план выступает факт, воплощенный в документе, в протоколе, в архивной записи, иногда в короткой, лаконичной записке.
История человечества знает и хранит немало страшных, неопровержимых документов. Один из них – так называемый «Молот ведьм», созданный средневековой инквизицией. По сути дела, это «инструкция», как с помощью пыток физических и моральных заставлять людей оговаривать себя или других.
И вот с таким-то «молотом ведьм» нам довелось познакомиться совсем недавно. По моему ходатайству мой внук Виктор получил возможность ознакомиться в архиве ФСБ (ранее – ЧК – ГПУ – НКВД – КГБ) с подлинным «делом» Михаила Кольцова. То были три объемистых тома со штампом «ХРАНИТЬ ВЕЧНО» в правом верхнем углу.
Не без волнения открыл мой внук первый том. И сразу, как и я, увидел размашистую подпись, по диагонали через весь лист – «Л. Берия». Это был еще не официальный ордер на арест, а так называемое Постановление о задержании. Далее шла справка-биография Кольцова, составленная следователем сержантом Кузминовым. (Оказалось, что «дело» брата вел он, а не Шварцман. Кстати сказать, к концу следствия Кузминов стал лейтенантом, видимо, начальство было довольно его «работой».) Так вот, в справке написано, что один брат Кольцова был расстрелян, как «враг народа», а другой, то есть, я – ярый троцкист. Далее шла анкета-автобиография, написанная рукой Кольцова, с обычными сведениями о семье, родственниках, месте жительства и т. д. Кстати, в ней было указано наличие одного-единственного родного брата – Бориса Ефимова. После анкеты – официальный ордер на арест, тоже за подписью Берии, датированный 14 декабря 1938 года.
Первый допрос Кольцова занял, видимо, буквально несколько минут. Это – стандартные, трафаретные вопросы полуграмотного следователя-сержанта, признает ли Кольцов свою антисоветскую деятельность, и краткие, твердые, решительные отрицательные ответы брата. Но как в дальнейшем меняется стиль и содержание этих допросов… Как отчетливо проступает воздействие истязаний, избиений, физических и моральных пыток. Как явно изменяется почерк Кольцова (это видно по его подписи) – он становится дрожащим и неразборчивым. Совершенно ясно видна задача следователя – выбить из Кольцова компромат на определенных лиц: это в первую очередь – Литвинов, Эренбург, Кармен – и на многих других. Для этого, собственно говоря, и затевалось «следствие»…








