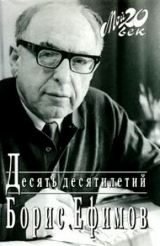
Текст книги "Десять десятилетий"
Автор книги: Борис Ефимов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 45 страниц)
– Борис Ефимович, вы бы не поехали сейчас в Китай?
Я решил, что она шутит, и ответил, решив тоже пошутить:
– А что? Поехал бы. Теперь это даже интересно.
Она буквально просияла. Оказалось, что с этим вопросом она уже обращалась к нескольким известным художникам, не раз бывавшим в Китае, и получала стандартный ответ:
– Для этого надо быть идиотом.
– Так я сообщу куда надо, что вы согласны, – сказала она и, радостная, умчалась.
Я растерянно посмотрел ей вслед. Мои домашние и близкие друзья действительно обозвали меня идиотом.
– На кой черт это тебе понадобилось? – говорили мне. – Разве ты не знаешь, что там творится? Свирепствуют фанатики, догматики и тому подобные «хунвейбины». В лучшем случае набьют морду, а то, может быть, и похуже.
Откровенно говоря, я тоже зачесал в затылке.
«Действительно, – подумал я, – на кой черт мне это нужно? Китай я уже видел. А тут еще вляпаешься в какую-нибудь историю».
И я дал «задний ход». Сообщил в Союз художников, что по состоянию здоровья поехать, к сожалению, не смогу. Через день меня вызвали в ЦК в соответствующий отдел к соответствующему товарищу, ведавшему китайскими делами.
– Вот какое дело, товарищ Ефимов, – сказал мне «соответствующий товарищ». – Если вы не поедете в Китай, то сильно подведете Советский Союз.
И он обстоятельно обрисовал мне сложившуюся ситуацию. Оказалось следующее. В давнем договоре о «Дружбе и сотрудничестве» между СССР и КНР существует малозаметный и доселе не привлекавший к себе особого внимания пункт 18/а, гласивший, что Китайская Народная Республика направляет в Советский Союз в порядке культурного обмена одного художника на один месяц. Советский Союз со своей стороны делает то же самое. Китайский художник тихонько приехал в Москву, спокойненько писал свои пейзажи в Доме творчества Союза художников на озере Сенеж и так же тихонько уехал домой. А советский художник до сих пор в Пекине не появлялся. И китайская сторона со страшной силой вцепилась в невыполнение советской стороной злополучного пункта 18/а. Пекинские газеты под хлесткими заголовками, не вдаваясь в подробности, вопят, будто СССР не выполняет своих договорных обязательств, что является показателем его пренебрежительного и презрительного отношения к великому китайскому народу и т. д. и т. п.
– И нас предупредили товарищи из нашего посольства в Пекине, чтобы мы не вздумали посылать какого-нибудь случайного человека, а приехать должен художник именитый, уже посещавший Китай. Вы подходите по всем статьям.
– Все понятно, – сказал я со вздохом. – Подводить Советский Союз я не стану. Поеду.
…Охотников ехать в поезде Москва – Пекин оказалось немного. Сначала я был один в купе спального вагона, после Свердловска, где сошла супружеская пара, – единственные попутчики, – я остался один в вагоне, после Читы – один во всем поезде, а по прибытии в пограничный с Китаем Забайкальск – один на всем вокзале. И не мог не вспомнить, какое здесь царило оживление в первую мою поездку – многочисленные группы туристов, веселый галдеж, музыка, песни. Теперь – мрачное безлюдье, полная тишина. Часа через два подали поезд на Пекин, и я снова один в вагоне, один во всем поезде. Поезд пересекает границу. Это уже станция Манчжули. Тоже – полное безлюдье и тишина, но зато две статуи – Сталин и Мао, соединенные красным транспарантом. На стендах множество брошюр с текстами, разоблачающими советских ревизионистов. Снова часа два в тоскливом одиночестве, пока не подается сигнал к отходу поезда. И тут являются четверо китайских пограничников, щеголеватых, вежливо улыбающихся. Я протягиваю свой заграничный паспорт.
– А зачем вы едете в Пекин?
– Я еду в Пекин по приглашению Всекитайского Союза художников.
– А у вас есть документ, что вы едете по приглашению Всекитайского Союза художников?
Этот диалог сопровождается широкими дружелюбными улыбками с обеих сторон.
– Нет, такого документа у меня не имеется.
И снова тот же вопрос с широкой улыбкой:
– А у вас есть справка, что вы приглашены Всекитайским Союзом художников?
С еще более широкой улыбкой я отвечаю:
– Такой справки у меня нет.
И снова с широчайшей улыбкой:
– А у вас есть…
– Товарищи! – прерываю я вереницу улыбок. – Поезжайте вместе со мной до Пекина, и вы убедитесь в том, что меня будут встречать представители Всекитайского Союза художников.
Это, видимо, их удовлетворило. Мы еще улыбнулись друг другу и расстались…
…Забыл сказать, что перед отъездом из Москвы я счел нужным зайти к редактору «Известий» Аджубею.
– Алексей Иванович, такое дело: меня посылают в Китай.
– О! – встрепенулся Аджубей. – Это замечательно, вы можете сделать большое дело. Вы должны пробиваться в большие аудитории, рассказывать правду о Советском Союзе, опровергать всяческую их клевету.
– Конечно, – бодро сказал я, – буду пробиваться, буду опровергать.
Забегая вперед, скажу, что самая большая аудитория, к которой я смог пробиться в Китае, была в шанхайском Союзе художников – тринадцать человек, считая сопровождавшего меня переводчика и фотографа. Другие «аудитории» были и того меньше: по шесть, по пять, а в городе Сучжоу – трое. Но я взял себе за правило с этим не считаться. При любом количестве слушателей я разглагольствовал, как будто передо мной переполненный зал.
…Вообще, странной и парадоксальной была атмосфера моего второго пребывания в Китае. Оно проходило как бы в двух соприкасающихся измерениях – открытого резко враждебного отношения к советским руководителям и одновременно безукоризненно дружелюбного и гостеприимного отношения ко мне лично. Думаю, что на то было специальное указание руководящих китайских инстанций, и китайцы, как народ весьма дисциплинированный, этому указанию охотно следовали. Моим высказываниям о культуре в Советском Союзе, об идейных принципах советского искусства никто нигде не возражал и в полемику не вдавался. Помню, на встрече в Шанхае, закончив свой доклад, я спросил, нет ли у товарищей вопросов, на которые я охотно отвечу. После довольно длительной паузы председательствовавший спросил:
– А как здоровье вашей жены?
– Спасибо, она здорова.
Тогда был задан следующий вопрос:
– А как поживает Калявсенко?
Я понял, что речь идет о Ксении Кравченко, нашем маститом искусствоведе, недавно побывавшей в Китае.
– Спасибо. Она хорошо поживает, – ответил я.
На этом вопросы были исчерпаны.
Впрочем, помню и такой эпизод. В Пекине, на правлении Союза художников я рассказывал о работе нашего Союза, причем коснулся системы закупки у художников произведений через специальную закупочную комиссию, также состоящую из художников. И тут один из присутствующих крикнул:
– А китайские художники работают не за деньги, а за идею!
Это прозвучало явным вызовом и упреком. И меня это задело.
– Советские художники, – возразил я, – тоже создают свои произведения не для того, чтобы набивать карманы. Они вкладывают в свои картины, скульптуры, рисунки чувства, мысли, идеи. Но при этом, художники такие же люди, как все. Им нужны средства к существованию, они должны кормить свои семьи и, наконец, должны приобретать необходимые для работы краски, холсты, другие материалы. На все это нужны деньги. Что же позорного в том, что они принимают оплату за свой труд?
Хуа Цзинью, председатель Союза, встал со своего места, подошел к ревнителю «идейного искусства» и вышел с ним за дверь. Минуты через две они вернулись, и Хуа Цзинью сказал, что я не совсем правильно понял выступление коллеги и с моей точкой зрения все абсолютно согласны.
Несмотря на все эти и им подобные отрицательные моменты, обусловленные политической ситуацией, вторая моя поездка в Китай была не менее интересна, занимательна и богата впечатлениями, чем первая, в плане знакомства с новыми достопримечательностями, новыми большими и малыми городами, сельскими коммунами. Из поездки по стране я вернулся в Пекин, полный разнообразных и, в общем, неплохих впечатлений. В Пекине меня спросил наш посол С. Червоненко:
– Каковы ваши впечатления? Нам очень интересно их знать, потому что за пределы посольства нас не выпускают.
– Впечатления мои самые разнообразные, но основное – это то, что, на мой взгляд, пока еще не удалось восстановить массы китайцев против советских людей, создать из русских не «старших братьев», как это долго было, а заклятых врагов.
– Так-то так, – задумчиво сказал Червоненко, – но вы почитайте, какую возмутительную, грубую антисоветскую статью сегодня опубликовала «Женьминьжибао». Было бы неплохо, если бы вы дали понять сопровождающим вас, что вы возмущены.
Следуя этому дипломатическому указанию, я на другой день в ресторане «Пекинская утка», где давали по случаю моего отъезда прощальный обед, сидел надутый, как индюк.
– Вам нездоровится? – спросил меня художник Ин Тао, сопровождавший меня в поездке по стране.
– Нет, я здоров, – мрачно ответил я, – но кое-что меня сегодня возмущает.
Ин Тао промолчал, и на этом мой дипломатический демарш иссяк.
Приехав второй раз в Китай, я, разумеется, сразу осведомился и о симпатичном Пу-тунджи, рассчитывая снова получить его в переводчики. Но о нем никто ничего не знал. И я не мог не почувствовать определенные угрызения совести, что подвел его под «перевоспитание в деревне». И вот что произошло дальше. В 1995 году, то есть спустя тридцать пять лет, я получил из китайского посольства в Москве приглашение на открытие выставки произведений известного китайского художника, профессора… Пу Вейчина. Это был тот самый симпатичный и скромный Пу-тунджи, которого я не сразу узнал в солидном, респектабельном профессоре. Мы встретились радостно и сердечно. После вернисажа я пригласил почтенного профессора с супругой к себе домой. И на веселом застолье мы делились воспоминаниями почти сорокалетней давности. И тут я поведал Пу Вейчину, как болезненно переживал, что своим благодарственным письмом невольно способствовал ссылке его на «перевоспитание» в деревню.
– Борис Ефимович, – серьезно ответил Пу Вейчин, – эта ссылка меня спасла от худшей участи. Несколько позднее за такую дружбу с советскими «старшими братьями» уже сажали в тюрьму, а то и расстреливали. К тому же, мое пребывание в деревне принесло мне огромную пользу: я занялся там рисованием. А возникло это влечение у меня, знаете, когда? Когда вы с Литвиненко рисовали фреску.
Вернувшись после ссылки в Пекин, Пу Вейчин стал профессиональным художником, интересным и своеобразным. Выставки его произведений прошли с успехом не только в Китае, но и во Франции, Германии, Испании. И вот теперь – выставка в Москве. Удивительный и чуть-чуть загадочный, зачарованный и чарующий мир раскрывается в многочисленных графических листах этой экспозиции, мир, созданный высоким мастерством и неисчерпаемой фантазией художника. Творчеству Пу Вейчина абсолютно чужд плоский натурализм, шаблон, хождение по давно исхоженным тропам. Искусство его, тонкое и артистичное, поэтизирует действительность. Оно придает неожиданную отстраненность и новое эмоциональное звучание таким, казалось бы, давно знакомым и привычным для нас явлениям, как облака, деревья, течение рек. Гравюры, созданные его резцом, – это настоящие новеллы, поэмы о жизни, о времени, о радости бытия.
Рассказ о Пу Вейчине приходится, увы, закончить на самой печальной ноте. Спустя несколько месяцев после нашей встречи в Москве он скоропостижно скончался в Пекине.
…В летопись Московского Союза художников несомненно входит «знаменитое» посещение Хрущевым выставки московских художников в Манеже, посвященной 30-летию МОСХа, в 1962 году. К этому времени Никита Сергеевич закончил с «оттепелью», которую сменили ощутимые «заморозки». Как я уже упоминал, он безапелляционно судил обо всем, от кукурузы до живописи и поэзии. На выставке в Манеже он разгромил не пришедшиеся ему по вкусу картины Фалька, Никонова, других художников, а потом добрался и до скульптурных работ Эрнста Неизвестного. Правда, его заинтересовали не столько их художественные качества, сколько то, откуда автор достает бронзу для их воплощения… Неизвестный держался при этом довольно твердо и независимо и даже прозрачно намекнул, что быть главой правительства еще не значит уметь разбираться в искусстве. Стоявший неподалеку председатель КГБ Шелепин посмотрел на Неизвестного весьма недобрым взглядом. Но его не тронули, видимо, Хрущеву понравилась его смелость. После отставки Хрущева говорили, что Неизвестный бывает у него на даче и они подружились. А после кончины Никиты Сергеевича Неизвестный стал автором весьма оригинального и впечатляющего надгробия на его могиле, которое по сей день привлекает внимание посетителей Новодевичьего кладбища.
Еще о Неизвестном. Через несколько лет, когда я исполнял обязанности председателя МОСХа, мне позвонили из Московского горкома партии:
– Борис Ефимович, вы знаете, что Эрнсту Неизвестному разрешено выехать за границу?
– Ну, что ж, пускай едет.
– Нам бы хотелось, чтобы вы с ним встретились.
– А зачем?
– Понимаете, надо как-то с ним поговорить, чтобы он уезжал не с такой обидой.
– А вы уверены, что он захочет со мной разговаривать?
– С вами он не откажется. Вот его телефон.
Я не был в восторге от такого поручения, но уклониться было неудобно. И я позвонил Неизвестному, представился и сказал, что хотел бы с ним встретиться.
– А зачем? – спросил он.
– Только не для того, чтобы уговаривать вас остаться. Поезжайте с Богом, поскольку вам дано разрешение. Но как говорится, расстанемся по-хорошему. Поговорим по душам.
Неизвестный подумал и сказал:
– Хорошо, я согласен.
Мы встретились в тот же вечер в МОСХе. Третьим в нашей беседе молчаливо присутствовал парторг горкома КПСС при МОСХе Евгений Васильев.
– Эрнст Яковлевич, – сказал я, – повторяю, что не собираюсь ни в чем вас убеждать и ни от чего отговаривать. Хотелось бы просто, по-человечески поговорить. Понять, чем вызвано ваше решение уехать из страны.
– Очень просто – мне не дают здесь работать. Я лишен средств к существованию.
– Простите, но мне всегда казалось, что вы один из самых преуспевающих у нас скульпторов. И, простите, один из самых богатых.
– Да, так оно было одно время. Но теперь ни одна моя работа не принимается. У меня отобрали мастерскую, все работы, бывшие там, вышвырнули во двор, в снег, а некоторые изуродовали. Вот, посмотрите на этот фотоснимок… Мое искусство стало неприемлемым и нежелательным. Что прикажете делать?
– А от кого исходит такое отношение?
– Главным образом от руководителей секции скульптуры МОСХа. Они меня ненавидят и работать не дадут.
И Неизвестный во всех подробностях стал рассказывать о притеснениях, нападках, враждебных выходках. Чувствовалось, что у человека «наболело». Я слушал его с искренним сочувствием.
– Мне пятьдесят лет, – продолжал скульптор. – И я могу еще многое сделать. И хочу работать свободно, не завися от людей, которым не нравится все, что бы я ни сделал.
– Я вас вполне понимаю, – сказал я, – но слышал, что вы оставляете здесь семью – жену и дочь. Не слишком ли это дорогая цена за возможность делать то, что вам нравится?
– Может быть, может быть… Но жена со мной согласна. И, возможно, это не навсегда.
Мы помолчали.
– Эрнст Яковлевич, – снова заговорил я, – вы человек популярный. Ваш отъезд из страны будет, несомненно, замечен и у нас, и за рубежом. Там на вас набросятся репортеры. Как вы им объясните свою эмиграцию?
– Я скажу, что уехал из СССР не по политическим, а по творческим причинам.
– Мне кажется, их в данном случае трудно разделить… Ну, что ж. Счастливого пути. Успеха вам. Но… Позвольте вам сказать. У англичан есть поговорка: «Права или не права, но это моя страна», и я надеюсь…
– Я хорошо вас понял, – прервал меня Неизвестный, – можете не сомневаться, что ни единого враждебного слова против Советской страны я не произнесу.
Насколько я знаю, Неизвестный сдержал свое слово. А жизнь доказала его правоту – через несколько лет он приехал на Родину всемирно прославленным мастером монументальной скульптуры, соединился с семьей, стал автором впечатляющих мемориалов.
Полагающийся отчет о беседе с Неизвестным я, разумеется, представил в горком партии и не скрыл в нем своего мнения, что по отношению к талантливому скульптору была допущена несправедливая дискриминация, которая и привела его к решению уехать за границу. Это не совсем понравилось нашему парторгу, и он со своей стороны, правда, очень осторожно, осудил поступок Неизвестного, как непатриотический.
…В числе Домов творческой интеллигенции, с которыми была связана моя общественная деятельность, следует непременно назвать еще один, весьма популярный и престижный – это Дом дружбы с зарубежными странами, занимающий хорошо известный, нарядный и вычурный особняк миллионера Саввы Морозова на Воздвиженке. Я был причастен, прежде всего, к секции изобразительных искусств – к выставкам, вернисажам, встречам с зарубежными художниками, деятелями искусств, но бывал, разумеется, и на других «международно-культурно-дружественных» встречах и мероприятиях Дома. И систематически планово сидел на заседаниях правления и съездах Общества дружбы СССР – Камбоджа, членом которого я стал после поездки в эту экзотическую страну.
Не скрою, когда мне предложили войти в состав культурной делегации в Камбоджу, я, по невежеству, спросил:
– А где она находится? В Африке, что ли? И не едят ли там приезжих гостей?
Мне ответили традиционной шуткой:
– Если вас там съедят, то мы здесь в порядке адекватной меры съедим ихнего посла. А находится эта страна в Юго-Восточной Азии.
И мы летим в Камбоджу. Наша культурная делегация – это ректор ИВАНа (Институт востоковедения Академии наук), академик Евгений Жуков, директор Дома дружбы Мария Ермолаева и я. Перед нами поставлена задача получить в Камбодже согласие на учреждение Общества дружбы Камбоджа – СССР.
Наш первый визит, естественно, к советскому послу. Он, конечно, осведомлен о цели нашей поездки, но предупреждает, что она будет нелегкой:
– Про принца Сианука кто-то сказал, что он, «как кошка на комоде» – никогда не знаешь, в какую сторону прыгнет.
Дальше зашел разговор об условиях местной жизни, и кто-то из нас спросил, где и как нам повстречаться с пномпеньской общественностью. Посол посмотрел на нас с удивлением.
– Какая общественность? О чем вы говорите? Вся общественность сосредоточена здесь в одном лице.
И мы скоро поняли, что принц Сианук здесь и глава государства, и глава правительства, и верховный главнокомандующий, и глава камбоджийского буддизма, и глава всех спортивных организаций и, как мы уже знаем, воплощает в себе всю общественность. Кстати говоря, формально государство возглавляет королева – его мать.
Правительство Камбоджи пригласило представителей Союза обществ дружбы присутствовать на традиционном национальном празднике кхмерского народа, носящем поэтическое название – «Праздник возвращения вод и приветствия луне».
…Жизнерадостная, по-южному темпераментная и красочная толпа (как говорится, яблоку негде упасть) заполняет широкую набережную. Я смотрю на необозримую ширь реки Меконг и думаю:
«Если это называется «возвращением», то есть спадом вод, то что же здесь происходит в половодье?»
В шесть часов вечера при жгучем солнце начинается торжественное празднование, состоящее главным образом из спортивных водных состязаний, самое эффектное из которых – гребная регата, которую мы наблюдаем с устланной коврами палубы пришвартованного к пристани плавучего «королевского дома», нарядно убранного флагами, гирляндами цветов и позолоченными вензелями.
Там же на палубе королевской яхты произошла наша встреча с принцем Сиануком. Посол представил ему нас. Принц был в обыкновенном сером штатском костюме, без всяких знаков отличия, в голубой рубашке с синим галстуком в полоску. Удостоив нас довольно равнодушным наклоном головы, Сианук сказал, что весьма рад приезду на национальный праздник кхмерского народа гостей из Москвы.
Посол был весьма озабочен нашим предстоящим разговором с Сиануком, скептически рассматривая успех нашей миссии. Между прочим, он предупредил нас, что обращаться к принцу следует с французским словом «сир», положенным в обращении к царствующим особам.
– Ваше высочество, – обратился к Сиануку по-французски Евгений Жуков, видимо, позабыв совет посла о слове «сир», – мы привезли с собой наилучшие пожелания советских людей и предполагаем также благоприятные переговоры об учреждении Обществ дружбы между нашими странами.
– Благодарю вас, – сказал Сианук, – я высоко ценю дружеские отношения с такой великой страной, как Советский Союз, но учреждение Обществ дружбы – не простой вопрос. Ведь, учредив Общество дружбы с вами, мы должны сделать то же самое и в отношениях с некоторыми другими государствами, в частности, и прежде всего, с Соединенными Штатами Америки, а мы к этому не готовы.
Тут я тоже вступил в разговор.
– Сир, – сказал я, – мы понимаем, что вопрос не простой, но мы оптимисты и надеемся, что все трудности будут благополучно преодолены.
Сианук посмотрел на меня, по его лицу скользнуло некое подобие улыбки.
– Это хорошо, что вы оптимисты. Я тоже оптимист. – И наклонил голову, давая тем понять, что аудиенция окончена.
Мы встретились с принцем Сиануком еще раз – в посольство пришло официальное приглашение в правительственную ложу на футбольный матч между сборной Камбоджи и советской командой «Торпедо», прилетевшей в Пномпень одновременно с нами. На этот раз принц был гораздо приветливее и даже обратился ко мне с улыбкой:
– Ну вы, как оптимист, наверно, рассчитываете на победу вашей команды.
– Сир, – ответил я тоже с улыбкой, – это естественно.
– Ну а я, как оптимист, уверен в нашей победе.
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу торпедовцев. Сианук, несомненно, был огорчен, тем не менее, нам были выданы подарки – серебряные изделия, которыми так славится Камбоджа. Мне досталось изящное небольшое серебряное блюдо, которым мой внук по сей день пользуется как пепельницей.
Но самое большое и незабываемое впечатление от Камбоджи – это, конечно, Ангкор, великолепный комплекс храмов, сооруженный в IX–XIII вв. В последующие века подвергался нашествиям иноземных завоевателей, постепенно приходил в упадок, разрушался и в конце концов был заброшен камбоджийцами. Опустевшие храмы и дворцы стали резиденцией диких зверей и гигантских змей, заросли непроходимой тропической растительностью, на многие десятилетия скрывшей Ангкор от людских глаз. Лишь постепенно мир стал узнавать о существовании древних кхмерских сооружений, о них стали появляться упоминания в рассказах путешественников.
И вот мне доводится увидеть своими глазами эти чудеса. Они прежде всего ошеломляют масштабами: достаточно сказать, что только один Ангкор-Ват, один из комплексов Ангкора, занимает полтора километра в длину и километр в ширину. (Вспомним, что длина римского Колизея около двухсот, а ширина полтораста метров.) Потрясают не только размеры сооружения, не только пластическое богатство его архитектурных форм и скульптурных деталей – барельефов, статуй, фронтонов, наддверий. Пять высоких храмовых башен буквально сверху донизу покрыты каменной резьбой, создающей богатую и контрастную игру света и тени. Здесь нет камня, которого не коснулся бы резец ваятеля. Не найти гладкой поверхности стены, не найти кирпича, не украшенного каким-нибудь изображением. Внутренняя отделка храмов прекрасна не менее, чем наружная. С восхищением рассматриваем мы барельефы, покрывающие длинные галереи Ангкор-Вата сплошным каменным гобеленом, на котором искусные и терпеливые руки неведомых умельцев прошлого как бы «выткали» картины быта и жизни древней Камбоджи. Ритмически повторяясь, подобно изысканному художественному орнаменту, движутся по стенам четкие шеренги воинов, вереницы загадочно улыбающихся девушек-танцовщиц – «апсар». Целые армии, оснащенные боевыми колесницами, слонами, многовесельными галерами, сталкиваются в жестоких сражениях, сухопутных и морских. Придворные церемонии и народные празднества, уличные сценки и семейные события, шахматные состязания и петушиные бои – все это продолжает жить в изумительных, вырезанных в мраморно твердом песчанике фресках, еще сохранивших кое-где следы яркой древней раскраски.
Неумолкаемый звон цикад стоит в ушах с такой силой, что иногда приходится повышать голос, чтобы услышать друг друга. То бодро шагая по раскаленным тропическим солнцем плитам, то осторожно ступая по скользкой зелени бархатного мха, покрывающего ступени темных портиков, где под высокими прохладными сводами шуршат летучие мыши, мы идем сквозь лабиринт руин Ангкора, густо заросших разнообразной и экзотической растительностью джунглей. Подобно гигантским удавам, извиваются корни деревьев по дорожкам и лестницам, взбираются на арки ворот, тянутся по перилам, проникают сквозь кладку стен и куполов, расшатывают и дробят древние камни. Местами эти корни похожи на щупальца чудовищных спрутов, местами – на хоботы слонов.
Растительность, окружающая седые памятники старины, обычно приятна. Она трогает и радует глаз ощущением жизни, бессмертием вечной природы. Но здесь почему-то появляется обратное чувство: становится жалко и больно за созданную трудолюбивыми и талантливыми людьми прекрасную архитектуру. Джунгли завладели святилищами, галереями, башнями, окружили их непроходимой стеной дикой чащи, через которую с большим трудом пробились исследователи и путешественники, проложив путь для археологов, ученых и туристов.
После двухдневного пребывания в Ангкоре мы возвращаемся в Пномпень…
Поездка в Камбоджу позади, я снова в Москве. Надо, кстати, сказать, что наш визит в эту экзотическую страну принес свои результаты – Общество дружбы СССР – Камбоджа и одновременно Общество дружбы Камбоджа – СССР благополучно возникли, и мне, между прочим, оказали честь: я был избран вице-президентом нашего Общества.








