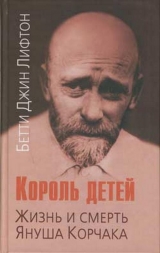
Текст книги "Король детей. Жизнь и смерть Януша Корчака"
Автор книги: Бетти Джин Лифтон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
«Когда приходит одиночество старости? – спрашивает Старый Доктор у древней липы, в которой узнает своего двойника. – С первой седой прядью? С первого удаленного зуба, который никогда не вырастет вновь? С рождения первого внука?» Эта беседа с деревом была его «дневником, исповедью, подведением итогов, последней волей». Он задавал дереву вопрос, который всю жизнь задавал самому себе.
Кто ты? Паломник, бродяга, изгнанник, дезертир, банкрот, отверженный?.. Как ты жил? Сколько земли ты вспахал? Сколько хлебов испек для людей? Сколько посеял семян? Посадил деревьев? Сколько кирпичей пригнал один к другому? Сколько пришил пуговиц? Сколько поставил заплат? Заштопал носков?.. Быть может, ты просто следил вялым оком, как жизнь течет между пальцами? Правил ли ты кораблем, или плыл он по воле волн и ветра?
Одинокие люди со всей Польши присылали на студию тысячи писем, адресованных Старому Доктору. Но хотя Старый Доктор выступал как дерево, пустившее глубокие корни в польскую землю, сам он не отказывался от мысли быть пересаженным в другую почву. «Ничего нового здесь не происходит с тех пор, как пани Стефа уехала», – писал он своему бывшему ученику в Тель-Авив, а потом спрашивал, не знает ли тот пансионата, где Корчак мог бы снять комнату на несколько месяцев.
По завершении серии передач об одиночестве Старому Доктору предложили вести другую программу, которую он назвал «В отпуске». В июне 1938 года он выходил в эфир по понедельникам и четвергам в 3 ч. 45 мин. и вспоминал о встречах с детьми во время различных поездок в горы, на фермы, в деревни на протяжении своей жизни.
Лирическое описание однодневной прогулки на лодке с детьми в одной из этих передач своим волшебным очарованием напоминало бессмертное плаванье Льюиса Кэрролла с Алисой и двумя ее сестрами, совершенное на полвека раньше. «Когда я с детьми, я их сопровождаю, – начал Старый Доктор. – А дети сопровождают меня. Мы можем беседовать, а можем молчать. У нас нет лидера, мы на равных.
Этот час на пристани – наш час, добрый час в нашей жизни. И он никогда не вернется».
Дети от пяти до четырнадцати лет пришли к пристани в сопровождении полных беспокойства матерей.
– Вы берете дошкольников?
– Я не беру, а вот лодка возьмет.
Лодка выглядела прочной и устойчивой, а лодочник опытным… Все так, но – погода, теплый свитер, морская болезнь, брать ли панамку от солнца, футбольный мяч, перочинный нож, собаку, а вернутся ли они к обеду, ведь мамы будут волноваться.
Свисток. Они ставят парус. Машут руками. Тишина. «Меняются пейзажи. Всплеск. Голубые брызги».
Рассказчик – не фантазер, попавший с детьми в кроличью нору, а скорее ученый, полный сомнений и рассматривающий явления реального мира.
– А драконы бывают?. – Не думаю.
– А когда-нибудь они были?
– В трудах историков о них ничего не сказано. Существовали доисторические животные…
После дискуссии, вызванной вопросами «Может ли быть насморк у лягушки?» и «Есть ли ядовитые деревья?», принимается решение по возвращении учредить научное общество. «Явка на заседания необязательна. Можно встречаться после обеда или по вечерам. Мамы допускаются. И нет ничего дурного в том, чтобы заснуть даже сейчас, когда мы разрабатываем эти планы. Я и сам часто засыпаю на научных заседаниях».
Они вернулись благополучно, никто не потерялся во время пикника на берегу, не произошло ничего из ряда вон выходящего, разве одна девочка обнаружила, как удивительно смотрятся листья в букете цветов, а один мальчик узнал, что не стоит засыпать муравья землей. «И может быть, именно сейчас этот муравей сидит себе дома и рассказывает своим приятелям историю о том, как ему удалось уцелеть», – закончил Старый Доктор свою передачу.
Друг Корчака Ян Пиотровский, редактор радиожурнала «Антенна», считал Старого Доктора величайшим гуманистом и интеллектуалом, который когда-либо выступал на польском радио. «Он говорил с детьми, как если бы те были взрослыми, а со взрослыми – как если бы они были детьми… Он и так понимал нас, но все же прикладывал стетоскоп к каждому сердцу, к каждой душе. После тщательного осмотра добрый Старый Доктор ставил диагноз – и исчезал, прежде чем вы это замечали. Но на вашем столике оставался рецепт и монетка, ведь доктор знал, что его пациент еще беднее, чем он сам».
В небольшой книжке о Корчаке, вышедшей после войны, Пиотровский рассказывает, как он получил разрешение от своего друга на публикацию в «Антенне» его «прекрасного триптиха об одиночестве». Написав на гранках: «Этим завершается третья беседа Старого Доктора», Пиотровский добавил: «Когда мы снова его услышим?» То был призыв, обращенный и к Корчаку, и к руководству польского радио, договориться о продолжении программы. Он особенно надеялся, что начальство студии будет тронуто передачами об одиночестве и не уступит давлению правых элементов, «которые не могли простить этому замечательному человеку его неарийское происхождение». Впрочем, призыв Пиотровского не возымел действия. Студия вновь подверглась атакам антисемитов, и Старый Доктор в очередной раз исчез из эфира. Несколько месяцев спустя Пиотровский получил «официальное и недвусмысленное предписание» от дирекции программ радиостанции не публиковать в журнале какие-либо материалы о Старом Докторе и прекратить подготовку книги по его передачам.
Пока польский мир продолжал выталкивать из себя Януша Корчака, еврейский мир привлекал его к себе. Корчак получал приглашения читать лекции в еврейских общинных центрах по всей Польше. Он принимал эти приглашения, поскольку, как он писал другу, такие поездки напоминали ему посещения маленьких поселений в Палестине. Может быть, он чему-то научится, что-то узнает; а то и сможет поднять дух бедных честных людей, объяснив им, что происходит в стране.
Рахиль Бустан, которой в 1938 году было десять лет, вспоминает, какое волнение поднялось, когда в их городок близ Освенцима, в еврейский общинный центр прибыл Старый Доктор. Он сидел на возвышении, сложив руки на коленях, рассказывал историю про Кота в сапогах и совсем не выглядел важной персоной.
В Варшаве Корчак читал лекции «юным пионерам», ожидавшим визы для выезда в Палестину. При этом он полагал не столь важным подготовить их к жизни в этой стране, как убедить молодых людей сохранить любознательное отношение ко всему миру. «Не следует оставлять попыток найти ответы, которых нет в книгах, ибо мы пребываем в поисках еще неведомых истин о человеке и мироздании», – говорил он в лекции, которую озаглавил «Мы не знаем». Напомнив слушателям, что великие ученые не стыдились признаться в своем неведении относительно многих тайн земли, он цитировал одного исследователя Талмуда: «Я многое узнал от своих учителей и ученых собратьев, но еще больше – от своих учеников».
После лекций пионеры провожали Корчака до дома, окружив плотным кольцом, чтобы уберечь от возможного нападения. Польские хулиганы все чаще угрожали евреям на улицах, толкали их, оплевывали, но Корчак не признавал, что ему угрожает опасность, не позволял себе бояться. Однажды, когда он ехал со своим еврейским воспитанником в переполненном трамвае, какой-то пассажир, обратив внимание на семитские черты мальчика, указал Корчаку на свободное место со словами: «Не хочет ли старый еврей присесть?» Корчак холодно ответил: «Майор не может сидеть, у него чирей на заднице». Испугавшись, что оскорбление польского офицера может иметь неприятные последствия, антисемитски настроенный пассажир поспешил слезть на ближайшей остановке.
Корчак убеждал своих друзей, приехавших из Палестины, свободно ходить по городу. Гуляя с Моше Церталем, приехавшим в Варшаву с женой и сыном по делам Хашомер Хатцаир, он сказал: «В Польше чудесная осень. Такой многоцветной листвы не найти нигде, даже в Палестине». Но хорошее настроение доктора испарилось, когда они проходили мимо большого плаката: «Не покупайте у евреев!» Он остановился на мгновенье, чтобы осознать смысл призыва, и двинулся прочь, бормоча: «Идиоты! Они не понимают, что творят. Они разрушают страну!» После этой вспышки он помолчал, а затем продолжал: «Скверно, друг мой, скверно. Размываются человеческие ценности. Земля содрогается».
Волны потрясений продолжали идти из Третьего рейха. 29 сентября 1938 года Германия аннексировала Судетскую область. Затем, в ответ на аннулирование Польшей паспортов польских граждан, проживавших за границей более пяти лет, нацисты окружили и пригнали к польской границе восемнадцать тысяч польских евреев, живших в Германии, в том числе и тех, чьи семьи были там на протяжении нескольких поколений. Не имея возможности получить специальный консульский штамп для возвращения, требуемый польской стороной, евреи томились в ужасных условиях на ничейной земле между двумя странами. Когда Герцль Гриншпан, польско-еврейский студент в Париже, услышал, что его родители изгнаны из Германии, он застрелил третьего секретаря германского посольства в столице Франции. Нацисты ответили разгромом синагог и еврейских магазинов по всей Германии, во время которого погиб девяносто один еврей. Эта расправа вошла в историю под названием «Хрустальной ночи».
Земля содрогалась, и, ощущая беспомощность, Корчак начал писать истории о героических еврейских мальчиках, наделенных безграничной силой. В сказке «Грезы» один безымянный мальчик мечтал о спасении еврейского народа от гонений. Тайно проникнув в самолет, летевший в Англию, он сумел уговорить короля разрешить всем евреям эмигрировать в Палестину. Когда же мальчик нашел золотой клад и прославился во всем мире, Гитлер пожалел о том, что изгнал из страны евреев, и пригласил их обратно. Но мальчик сказал Гитлеру, что евреям надоело то и дело получать приглашения и осваиваться на новом месте и что они предпочитают жить в собственной стране. В духе короля Матиуша мальчик отклоняет просьбу Гитлера одолжить ему денег, но покупает голодным немецким детям молоко и масло.
Это не первый придуманный Корчаком еврейский ребенок, ставший героем рассказа. В начале двадцатых годов он сделал набросок истории о Гершкеле, четырехлетнем сироте, который мечтал стать королем-мессией. Но затем Гершкеле уступил место королю Матиушу, универсальному королю всех детей, и должен был ждать до конца тридцатых, чтобы вновь появиться в «Трех путешествиях Гершкеле».
Гершкеле мечтает увидеть Святую землю и трижды отправляется из своей деревни, пытаясь найти туда дорогу. В отличие от короля Матиуша, который жил во дворце, Гершкеле обитает на чердаке, где в окне даже нет стекла. Вместо придворных воспитателей у него только два учителя: один – старший брат Лейб, который неустанно твердит о Земле обетованной, где все едят мед, инжир и рыбу с лапшой, а второй – безумный калека, полагающий, что каждый человек должен искать свой путь к Богу.
Желая обеспечить порядок в мире, Гершкеле важно расхаживает с большой палкой, заменяющей ему меч, и ищет солнце и луну в груде мусора. Он становится Моисеем и взбирается на большую кучу хлама, чтобы получить Десять заповедей. Малка, его маленькая подруга, представляет еврейский народ. Она стоит у подножия этой кучи и не желает внимать Богу. Гершкеле бьет ее мечом, но Малка с плачем бежит домой. Получив нагоняй от матери Малки, Гершкеле-Моисей вновь мечтает вести бедных евреев через пустыню к земле, «где есть хлеб, мед и виноград».
Седой Авраам говорит Гершкеле: «Кто знает, может быть, ты и прославишься в земле Израиля». И добавляет: «Да только Палестина далеко отсюда. Еще не пришло время».
Гершкеле так и не добрался до Палестины, хотя в своей первой попытке ему удалось дойти до рынка и даже дальше:
Вот он и вышел из города. Он уже в пустыне. Он идет один, он видит неведомые страны. Вот река, вот мост. Он видит лодку. А дальше – леса, домики, маленькие коровы и лошади. Он-то и не знал, что в Палестине все такое маленькое.
Он идет и идет, пока не кончаются силы.
Он вот-вот упадет.
Он ударяет в землю своим мечом и ждет, что пойдет из нее вода. Но тут его одолевает сон.
Он просыпается и видит – он дома, и богатая Сара поит его сладким белым молоком.
А Эсфирь говорит: «У него корь, но он скоро поправится».
Пасмурным днем в конце ноября 1938 года Корчак пришел в приют «в мрачном расположении духа», и дети приготовили ему сюрприз: показали кино с помощью электрической лампочки и коробки из вощеной бумаги. «Это было наивно, примитивно и трогательно, – писал он Иосифу Ар-нону. – Их энтузиазм, беспокойство, что ничего не получится, волнение окружающих в ожидании начала сеанса, музыкальный аккомпанемент на аккордеоне – все было прекрасно. Потрясающий опыт для меня. Их труд, старания, риск – и триумф в конце».
Отвечая на вопрос Арнона о своих планах, Корчак добавляет: «Очень хочу провести зиму в Палестине – ведь летом и ранней осенью я там уже бывал. Авиакомпания «Лот» готова продать мне билет за полцены, но я все еще не могу себе этого позволить».
Что-нибудь вечно мешало Корчаку уехать в Палестину. Для него, как для Гершкеле, еще не пришло время. А времени оставалось все меньше.
Глава 26
РЕЛИГИЯ РЕБЕНКА
Спит дитя в своей кроватке, Носик спит, и глазки спят, Губки шепчут в дреме сладкой, «Доброй ночи!» – говорят. Вот и мне сидеть нет мочи, Доброй ночи, доброй ночи!
Колыбельная
В начале 1939 года, пока правые группировки общества агитировали против евреев, Корчак «занимался приютом на Крохмальной». Кроме того, он пытался сочинять колыбельные, правда, без особого успеха: ведь «чтобы писать для детей, нужна тишина и душевное равновесие», а в Польше в это время был явный дефицит и того, и другого. На вопрос Сабины Дамм, когда она сможет увидеть его в Палестине, он ответил своим обычным: «Кто знает? Кто знает?» Но заверил ее, что все еще хочет ехать. «По крайней мере, там подонок не плюнет в лицо порядочному человеку за то лишь, что он еврей». А что до бессонницы, которой она страдала накануне своих лекций, то он дал ей хороший совет, отражающий его собственную философию творчества: «Что легко дается, то немного стоит. Волнение, сомнение, колебания, переживания – все это необходимо, если ты пишешь или говоришь что-нибудь стоящее».
В марте 1939-го, через год после приезда Стефы в Эйн-Харод, немцы вошли в Прагу и Чехословакия прекратила свое существование как независимое государство. Люди, возвращавшиеся в кибуц из Европы, принесли слухи о надвигающейся войне. Стефой овладел страх за Корчака. Решившись на эмиграцию, она была уверена, что он последует за ней. Теперь же, когда он остался в Польше, Стефа считала нужным вернуться, чтобы устроить его отъезд. Фейга пыталась разубедить ее, но, приняв какое-то решение, Стефа устремлялась к цели как стрела, не отклоняясь от выбранного курса. Она должна поехать в Варшаву и помочь Корчаку решить стоявшие перед ним проблемы.
Жизнь Стефы в Кибуце не была безоблачной. Скоро она поняла, что быть гостем в Эйн-Хароде и жить там – совсем не одно и то же. Став членом большой семьи, она уже HI ощущала особого внимания к себе, что вполне понятно в отношениях между родственниками. Стефа, которая четверть века ходила по Дому сирот, «как океанский лайнер», обнаружила вдруг, что здесь вовсе не пользуется таким авторитетом. Все решения принимались на бурных собраниях, которые казались ей в равной степени беспредметными затянутыми. «Чтобы что-то изменить в кибуце, понадобится триста лет», – жаловалась она.
Многие поселенцы поговаривали, что эта «малосимпатичная особа, говорящая на иврите с грубыми ошибками и сильным польским акцентом» имеет наглость требовать внимания к своим предложениям. Преданность делу, пунктуальность и опыт работы с Корчаком не спасали положения – ее ритм, ее стиль слишком сильно отличались от принятых в кибуце. Иногда кибуцники чувствовали, что Стефа и Фейга объединялись против них. Строгая, жесткая, неулыбчивая Фейга часто казалась им такой же резкой и колючей, как Стефа, – женщин как бы объединяли кровное родство и общая педагогическая теория. Обе были в равной степени категоричны, когда дело касалось воспитания детей. «Дайте мне ребенка пяти-шести лет, – говорила Фейга, – и я прослежу, чтобы он научился быстро одеваться».
Стефа, конечно же, замечала неприязнь окружающих, особенно когда кто-нибудь из поселенцев упрямо избегал встречаться с ней в столовой. Через восемь месяцев после приезда она попыталась разрядить напряженное положение, выступив на собрании Кибуца. «Мне кажется, я здесь не нужна», – заявила она со всей откровенностью. Она чувствует, что ее подход к детям в корне отличается от принятого в кибуце, что они детей как бы не замечают, разве что велят не шуметь и не беспокоить взрослых во время послеобеденного отдыха. «Я уехала из Европы, полагая, что смогу принести здесь пользу, – напомнила она. – Но без вашей поддержки у меня ничего не получится». Откровенная речь Стефы очистила воздух от враждебности. К такой искренности не привыкли в кибуце, где каждый испытывал на себе определенное давление. В их жизни личные проблемы лишь входили составной частью в более важные общие проблемы выживания.
В письмах, адресованных в варшавский Дом сирот и в «Маленькое обозрение», мы находим упоминания о предлагаемых Стефой нововведениях. В углу столовой она установила ящик для потерянных и найденных вещей, а в освещенных местах, доступных детям, – ночные горшки для тех, кто в них нуждался. Она разместила лампочки у постелей детей, которые просыпались по ночам от болей в животе или страшного сна. Она ввела систему записок, которая позволила дежурным оставлять сообщения для следующей смены. Она спорила с плотником, который укрепил выключатели и цепочки туалетных бачков так высоко, что дети ломали мебель, пытаясь до них дотянуться. «Объяснить этим взрослым, что следует делать, куда труднее, чем детям, – пишет Стефа. – Я говорила плотнику Кибуца, что в нашем Доме на Крохмальной за двадцать пять лет из ста десяти стульев сломался только один. Да и тот, хоть и без ножек, нашел применение в комнате для шитья».
До самого отъезда Стефы в Польшу 22 апреля 1939 года поселенцы толком не оценили ее многосторонний вклад. Она оставила письмо, в котором благодарила кибуц за гостеприимство, за то, что многому там научилась. «Может быть, мы еще встретимся», – писала она, показывая тем самым неопределенность своих планов на будущее. «Кибуцники не желают, чтобы кто-то учил их, как себя вести по отношению к детям», – говорила она Церубавелу Гилеаду, который еще ребенком приехал из России и поселился в Кибуце.
«Кибуц был не готов к встрече со Стефой», – писал Гилеад через много лет.
Из Эйн-Харода Стефа привезла Корчаку еще один альбом. Он все еще намеревался ехать в Иерусалим, но Стефа полагала, что жизнь в Кибуце будет для него безопаснее. Эти разногласия между ними были настолько острыми, что Корчак, встречая кого-нибудь из своих друзей, отъезжающих в Палестину, непременно просил: «Обязательно подыщи мне подходящую комнату в Старом городе», а Стефа с тем же упрямством, отведя этого человека в сторонку, говорила: «Не ищи слишком старательно, для него там небезопасно».
Моше Церталь, ненадолго приехавший со своей семьей в Варшаву, вспоминает, что не хотел беспокоить Корчака, ибо знал, что доктор находится «на распутье» и переживает период «глубокой переоценки ценностей». Но как только Корчак услышал, что маленький сынишка Церталя заболел, он позвонил другу и сообщил, что в тот же день придет осмотреть ребенка.
«Доктор появился в назначенный час, – вспоминает Цертель. – Он был утомлен, поскольку утром ходил на прогулку с детьми, но в хорошем настроении. Сразу же подошел к кроватке сына, бегло осмотрел его и затеял с ним игру. Язык, на котором они общались, был трудно различим – один вообще не знал слов, а другой говорил на ломаном иврите, – но между ними определенно состоялся разговор. Уходя, Корчак сказал: «Не волнуйся, он поправится. Пусть лежит в постели, а ты поставь в комнату большую кастрюлю с кипящей водой, чтобы увеличить влажность». Потом, заметив мою мать, у которой мы и остановились, он добавил с улыбкой: «Вот увидишь, бабушка останется недовольной, что я не выписываю никаких лекарств. Только я уйду, она позовет другого врача».
Церталь признается, что Корчак оказался прав. На следующий день приехал доктор «как все доктора» и выписал два рецепта, как это делают все доктора.
Когда той же весной в поисках рассказов для публикации в Палестине в Варшаву приехал Церубавел Гилеад, он прежде всего явился к Корчаку. К его удивлению, сестра Корчака Анна, худенькая женщина в строгом черном платье, сама открыла дверь. Гилеад полагал, что такой важный человек, как Корчак, должен иметь прислугу.
– Добро пожаловать! – тепло приветствовала его Анна, и по длинному коридору разнесся ее голос: – Доктор, к нам гость из Палестины.
Сама Анна, работавшая дома над переводами, удалилась, лишь только в конце коридора показался оживленный доктор в длинной зеленой блузе и вязаной шапочке. Он провел Гилеада к себе.
Гилеад в деталях запомнил скромную комнату Корчака: стопки книг, бумаги, разбросанные по столу, бюст Пилсудского, который вручили Корчаку вместе с премией, высокий платяной шкаф, металлическая кровать, застеленная грубым армейским одеялом, фотография матери на стене.
Заметив, что гость смотрит на открытую Библию на польском языке со свежими пометками на полях, Корчак сказал: «Этот роман я читаю ежедневно. Я работаю над серией «Дети из Библии» и все время узнаю что-то новое. Но что это ты стоишь, садись, прошу тебя. И угощайся». На маленьком столике для гостя было поставлено блюдо с апельсинами, финиками и миндалем. «Чтобы ты не так сильно тосковал по дому, – добавил Корчак, – а значит, и пребывал в хорошем настроении».
Корчак предложил Гилеаду короткие рассказы о еврейских детях, которые в Хашомер Хатцир еще не перевели на иврит для своего журнала. И скоро молодой поэт стал регулярно забегать к Корчаку, чтобы узнать, нет ли у доктора для него чего-нибудь новенького. Они беседовали на самые разные темы, а однажды Гилеад робко спросил Корчака, что, по его мнению, есть любовь.
В одной из своих книг Корчак рассуждает о любви с точки зрения ребенка: «Что значит любовь? Всегда ли она зависит от чего-нибудь еще? И всегда ли дается только тем, кто этого заслуживает? И в чем разница между «очень нравится» и «люблю»? И как узнать, кого мы любим больше?» Впрочем, Корчак, конечно же, понимал, что Гилеад спрашивает о взрослой любви.
«Мой дорогой друг, мне уже за шестьдесят, но на твой вопрос «Что есть любовь?» я вынужден ответить: «Не знаю», – сказал Корчак молодому человеку. – Это тайна. Я знаю различные стороны любви, но не проник в ее сущность. Правда, мне доподлинно известно, что такое любовь матери и отца».
Он рассказал Гилеаду о случае, который произошел с ним во время войны на Балканах, когда Корчак служил военным врачом. «Наше подразделение расположилось в горной деревушке. Я работал в своей хижине до поздней ночи, и мне захотелось пить. Я вышел на улицу к баку с водой и был поражен сиянием луны. Горы тонули во тьме, а деревню заливал волшебный призрачный свет. И в хижине напротив я увидел молодую женщину. Она стояла в дверном проеме, облокотившись на притолоку, платье туго облегало ее фигуру, а голова, увенчанная тяжелыми косами, покоилась на обнаженной руке. Я смотрел на нее, а сердце подсказывало: «Вот она, единственная! Мать твоего ребенка. Какой союз может быть совершенней – мужчина с равнины и женщина с гор!» Это длилось лишь мгновение. Женщина исчезла во мраке хижины, но я помню ее по сей день. Не знаю, была ли это любовь, но, без сомнения, это была ее разновидность – жажда отцовства».
Корчак не раскрыл Гилеаду, что был на волосок от отцовства, о чем потом сделает запись в «Дневнике, написанном в гетто». Сочиняя воображаемый диалог между двумя «старыми чудаками», которые вспоминали свою жизнь, он заставляет одного из них (со всей очевидностью, себя самого) говорить другому (женатому и родившему кучу детей): «У меня на девушек времени не было – мало того что они жадные, забирают все твои ночи, они еще и беременеют… Никуда не годная привычка. Однажды со мной такое случилось. На всю жизнь остался горький привкус во рту. Сыт по горло – все эти слезы, угрозы…» Сам диалог двух стариков написан в свойственной Корчаку сардонической манере, но грубые слова о женщинах и беременности кажутся здесь чужеродными. Под мужской бравадой этого человека, у которого всегда находилось время для детей, чувствуется страх перед женщиной, неприязнь – и признание в некоей тайне. (Был ли ребенок зачат, появился ли на свет или стал жертвой аборта, остается неизвестным; тайна этой дневниковой записи остается нераскрытой.)
Той весной главным предметом разговоров в Варшаве была угроза войны в Европе. В Польше началась частичная мобилизация. В кафе поговаривали, что из-за пакта о взаимопомощи, заключенного Польшей с Францией и Англией, Гитлер не решится на нападение, а если и отважится, то польская армия сможет продержаться до прихода союзников. Несмотря на шаткость положения, Варшава жила обычной жизнью. Гилеад заметил, что Корчак никогда не упоминает о беспокойстве, которое владело всеми вокруг, не исключая самого доктора.
«Ты чем-то встревожен, – сказал Гилеаду Корчак во время одной из встреч. – Что это с тобой? Скучаешь по дому?»
Гилеад, планировавший провести в Польше еще полгода, старался преуменьшить свои опасения. «Мне следовало бы вернуться в кибуц поскорее. Если начнется война, я вряд ли уцелею».
Корчак поразил его страстностью своей реакции: «Не болтай вздор, юноша! Не время для шуток. Люди умирают, только когда хотят этого. Я прошел три войны и, слава Богу, жив и бодр».
Он рассказал Гилеаду о бесстрашном офицере, с которым воевал бок о бок на Восточном фронте. Когда в траншеях рвались снаряды, тот обычно поднимал ворот шинели – как щит. Но однажды этот офицер вернулся из увольнения очень подавленным, так как узнал, что жена ему не верна. И на следующий день был убит.
«Так вот, юноша, иди к себе, прими таблетку аспирина и ложись спать, – распорядился Корчак. – Ты пропотеешь хорошенько, и весь этот вздор вылетит у тебя из головы. Если ты и после этого будешь плохо себя чувствовать, возвращайся в Палестину. Но не уезжай с ощущением, что потерпел поражение».
Однако таблетки аспирина оказалось недостаточно, чтобы удержать Гилеада в Польше. Через неделю он пришел к Корчаку попрощаться. Сестра Корчака Анна открыла дверь, но на этот раз, прежде чем исчезнуть, спросила довольно резко: «Почему ты никогда со мной не разговариваешь?» К счастью, в этот момент в коридоре появился Корчак, в хорошем настроении, и провел гостя в свою комнату. Впервые он достал бутылку вина «Гора Кармель».
«Что ж, доставим себе удовольствие, – сказал Корчак, забыв их последний разговор. – Мы расстаемся, возможно, ненадолго, но все же нас разделит немалое расстояние. Знаешь, хотя я и привык к морским путешествиям, поначалу меня всегда укачивает. Приходится ждать, пока твердой ногой станешь на палубу. Может быть, это объясняется тем, что я рожден вдали от моря. Не знаю, но давай выпьем – ле-хаим, мой друг, лехаим!»
В середине их разговора о планах на будущее Корчак встал, подошел к буфету и взял в руки деревянную шкатулку с пачкой узких длинных блокнотов, исписанных его четким мелким почерком. «Это главный труд моей жизни, – сказал он дрогнувшим голосом. – Собранный за десять лет материал о работе с детьми, мои исследования, конфликты, успехи и поражения. Я хочу назвать это «Религия ребенка».
На вокзале, куда Корчак пришел проводить Гилеада, он вручил молодому человеку конверт. «Это тебе на память, – сказал доктор. – Отрывок из предисловия к книге, которую я собираюсь написать. Последнюю главу я закончу на земле Израиля. Желаю тебе счастливого и благополучного путешествия. Я последую за тобой». Он прижал Гилеада к груди и поцеловал.
В поезде Гилеад прочитал переданные ему страницы. Предисловие должно было обрести форму философской беседы между старым доктором и его сыном у походного костра близ подножья горы Гилбоа в Палестине. До этого разговора им не довелось общаться друг с другом. Маленькая дочь сына (ее мать, женщина из горного поселения, недавно скончалась) играет поблизости. Пока сын рассказывает отцу о том, как любил его в детстве, о своих обидах, девочка подбегает к ним и кладет одну крохотную ручку на руку своего отца, а другую – на руку деда. Она ничего не говорит, но и отец, и сын понимают, что означает ее жест: они должны сблизиться.
Представляется, что в этой неоконченной истории Корчак строит так и не состоявшийся в реальной жизни диалог со своим отцом. Он ищет примирения, возможного лишь в момент взаимного прощения, а оно, в свой черед, достигается целительной силой ребенка. И здесь мы узнаем ребенка, нафантазированного военным врачом лунной ночью в горной балканской деревушке, когда он увидел в дверях хижины молодую женщину, – ребенка, который мог бы появиться на свет.
Прежде чем присоединиться к Стефе и детям в летнем лагере, Корчак по ее совету провел июнь в работе над книгой, одновременно принимая соленые ванны в небольшом курортном местечке. Из окна его комнаты в деревенской гостинице он мог наблюдать, как обучают новобранцев, отправляемых на службу к немецко-польской границе.
Летний лагерь «Маленькая Роза» оказался лучшим взбадривающим средством, чем соленые ванны. «Июль прошел великолепно, – писал Корчак Иосифу Арнону. – Двадцать новых детей, которых нужно изучить, как двадцать книг, написанных на малопонятном языке, местами поврежденных, с вырванными страницами. Это загадки, ребусы. Все как в старые времена – главные проблемы в потерянных сандалиях, занозах, ссорах у качелей. Я спал в изоляторе с детьми, больными корью. Чувствуя, что засыпаю, я говорил себе: «Не спи, послушай еще десять минут, как они дышат, кашляют, зевают». Сколько мудрости в их кашле во время сна – непрерывная борьба с инфекцией, лихорадкой, зудом, мухами».
По традиции каждый лагерный сезон заканчивался Олимпийскими играми – дети соревновались в беге, прыжках и других видах спорта, а также в музыкальных номерах. Но в это последнее лето перед вторжением дети захотели заменить Олимпийские игры военной игрой – поляки против немцев. На большой площадке возводились укрепления из песка, рылись траншеи и бункеры. Из дерева вырезали ружья и пулеметы, пулями служили каштаны. Мальчик, в которого попадал каштан, падал, изображая убитого, и выходил из игры. Девочки играли медсестер и помогали раненым уползти в поля боя.








