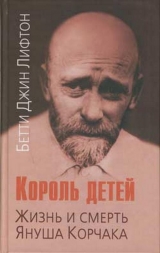
Текст книги "Король детей. Жизнь и смерть Януша Корчака"
Автор книги: Бетти Джин Лифтон
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
Глава 14
СОТНЯ ДЕТЕЙ
Сотня детей, сотня индивидуальностей – и все они люди.
Не люди будущего, не люди грядущего дня, они люди сейчас, прямо сейчас – сегодня.
«Как любить ребенка»
– Почему король Матиуш не собрал детскую армию? – однажды вечером спросил какой-то мальчик, когда Корчак в дортуаре проверял на них свою книгу.
– Раз уж он не мог помешать детям разбивать мячиками стекла в окнах дворца, как ему было надеяться, что они будут слушаться его в бою? – ответил Корчак.
Дети засмеялись. Не проходило недели, чтобы кто-то из них не умудрялся бросить или отбить мяч через ограду прямо в окно ювелирной мастерской за ней. В довершение беды скряга-немец, владелец мастерской, мячики нипочем не возвращал.
– Почему принцесса Клю-Клю черная, а не белая, как Матиуш? – пожелала узнать какая-то девочка.
Корчак задумался, прежде чем ответить. Сироты ни разу в жизни не видели чернокожего. Во всей Варшаве тогда был только один – шофер дипломата, который привез его с собой, когда вернулся из страны, где был аккредитован.
– В стране Клю-Клю, да и во всей той части мира дети черные, – объяснил он им, – точно так же дети, которых я видел в Китае, были желтыми. Но то, какого цвета у вас кожа, никакой разницы не составляет. Клю-Клю была куда Умнее многих детей в королевстве Матиуша, и она осталась верной ему, когда они на него напали.
Всякий раз, дочитав очередную главу, Корчак откладывал рукопись, как дети ни упрашивали, чтобы он продолжал.
Затем автор возвращался в свою мансарду, чтобы внести исправления в местах, которые не вызвали у них интереса. Или же работал над новой книгой. Вскоре сиротам предстояло услышать про маленького Джека, мальчика-американца, который организовал в своей школе кооперативную лавку. Царство Джека было много меньше, чем у Матиуша, но и ему пришлось немало узнать о делах взрослых, о том, как обращаться с деньгами и вести счета. Когда его лавка обанкротилась из-за промахов других, Джек вышел из этой переделки, став намного богаче: он познал самого себя, а это дороже любого сокровища.
Перед тем как лечь, Корчак любил обходить дортуары, записывая, в каких позах спят воспитанники, что нужно было для книги о детях и ночи, которую он собирался написать. Иногда к нему присоединялась Стефа, но жизнь была уже не той, что до войны, когда они оба посвящали сиротам по шестнадцати часов в сутки. Стефа, правда, оставалась все той же невозмутимой, за все отвечающей матерью на посту, но вот у него расписание было насыщено до предела: сотрудничество с Мариной Фальской в Прушкуве и чтение лекций в двух педагогических институтах помимо ведения профессиональных записей и работы над художественными произведениями.
В приюте было сто шесть кроватей: пятьдесят для мальчиков, пятьдесят шесть для девочек. Детей принимали в семь лет, и они оставались там до окончания средней школы, бесплатной и обязательной по седьмой класс. Сироты учились в разных казенных школах для еврейских детей (известных под названием «субботние школы» из-за соблюдения дня субботнего). Преподавание велось на польском языке, и, исключая изучение еврейской религии, программы были практически такими же, как в польских школах.
Пусть Польша теперь обрела независимость, но нуждающихся еврейских детей в ней не стало меньше. Хотя по конституции евреи получили равноправие и их права защищал договор о национальных меньшинствах, на них, как и на всех поляках, тяжело сказывалась послевоенная экономическая разруха. Не улучшало ситуацию и то, что правительство, стремясь создать польский средний класс, проводило протекционистскую политику в отношении польских предприятии и торговцев. По сути лишенные возможности получить место на гражданской службе, на почте и железных дорогах, десятки тысяч обнищавших еврейских рабочих конкурировали на рынке рабочей силы с обнищавшими поляками, мигрировавшими в большие города из деревень, – ситуация, которая не содействовала улучшению польско-еврейских отношений.
Стелла Элиасберг не могла сдержать слез, когда вместе с другими членами приемной комиссии Дома сирот обследовала условия жизни обездоленных еврейских семей, подававших просьбу о приеме в приют. Она так и не свыклась с сырыми подвалами, где трое бледных болезненных детей лежали вповалку на одном грязнейшем соломенном тюфяке, одетые в жалкие лохмотья – и это в самую студеную пору суровой зимы. Она всегда чувствовала себя виноватой, потому что все дети равно нуждались в помощи, чтобы выжить, а они могли выбрать только одного из семьи.
Даже когда ребенок был рекомендован комиссией, он или она должны были пройти проверку у психологов, которым, по инструкции Корчака, полагалось отсеивать умственно отсталых или психически неуравновешенных. Подобно садовнику, который внимательно следит, чтобы сорняки не задушили его цветы, Корчак не хотел рисковать, приняв ребенка, который мог принести вред коллективу. Если тут на него влияли личные страхи перед психическими заболеваниями, он тщательно их маскировал, ссылаясь на нераскрытые тайны наследственности, над которыми тогда бились ученые, занимавшиеся евгеникой. Все сводилось к давно знакомой позиции «природа против воспитания». Был ли человек заранее обречен из-за ущербных генов? Или же благоприятная обстановка спасала от того, что было генетически предопределено? Был ребенок нервным, потому что унаследовал эту черту от родителей, или же от того, как они его воспитывали? Почему у здоровых родителей ребенок рождался слабоумным? И наоборот, почему талантливые дети рождались у заурядных родителей? И – это был вопрос, который задавала в Швеции Эллен Кей, – почему общество не требует, чтобы родители получали разрешение произвести на свет ребенка, как получают разрешение на открытие палатки для продажи безалкогольных напитков?
«Необходимо положить конец бездумному рождению детей, – писал Корчак. – Нужно думать о них до того, как они родятся. Пора начать творить их».
Психологи, приглашенные Обществом защиты сирот, попадали в нелегкое положение, если им приходилось решать судьбу ребенка с очень легкой умственной отсталостью. Хелена Меренгольц вспоминает, как она и ее коллеги иногда так близко принимали к сердцу тяжкое положение ребенка, что фальсифицировали свои заключения: «Я полагала, что хорошее питание и лучшие условия жизни помогут этому мальчику или этой девочке догнать в развитии своих сверстников». Иногда хитрость сходила с рук, но, если у Корчака возникали подозрения, как случалось часто, он настаивал, чтобы ребенка осмотрела Мария Гржегоржевская, в чьем Институте для особых детей он дважды в неделю читал лекции. Довольно часто она, в свою очередь, сообщала ему, что ребенок совершенно нормальный. И между ними дежурной шуткой стал его ответ: «Получить степень идиота в вашем институте невозможно».
Хотя приюту выплачивалась твердо установленная сумма государственного пособия, он в первую очередь зависел от поддержки филантропов, и некоторые из них приводили Корчака в бешенство просьбами принять такого-то ребенка. «Единственное право, которым располагает благотворитель, – любил повторять он, – это право жертвовать деньги». Он объяснял детям, что некоторые богатые люди искренне пекутся о благополучии сирот, однако большинство жертвует деньги по менее благородным причинам: «Тот умирает, а потому деньги ему больше не нужны. Этот хочет заслужить милость Бога. Третий хочет рассказывать всем и каждому, какой он добрый». Он категорически запрещал детям брать сладости у посторонних или выполнять их поручения, какими бы ни были обстоятельства.
Корчак установил точные правила, когда и как филантропам разрешалось посещать приют. Им предлагалось оставлять экипажи (а позднее – лимузины) дальше по улице, где дети их видеть не могли. Эти благодетели, приезжавшие без предупреждения в элегантных костюмах, в рубашках с высокими накрахмаленными воротничками, чтобы взглянуть на знаменитого педагога, которого содержали, терялись при виде зеленого халата – обычного облачения Корчака. В эпоху, когда модно было щеголять титулами и званиями и держаться гордо, Корчак иронизировал над светским обществом и не перенимал никаких его затей, то есть по нормам этого общества он не подпадал под определение «порядочного человека».
Дети потешались, когда некоторые филантропы принимали их доктора за привратника. Один особенно высокомерный посетитель попросил его подать ему пальто, а затем сунул ему в руку монету. Другой филантроп, столкнувшись с ним во дворе, властно спросил: «Где я могу найти доктора Корчака?» Корчак молча ушел в дом, сменил халат на пиджак и вернулся, протягивая руку: «Так что я могу для вас сделать?» Посетитель до того смутился, что тут же поспешил уйти без единого слова.
Некоторые филантропы считали подобные выходки, как и его нежелание бывать в обществе, формой высокомерия. Но в большинстве они извиняли их Корчаку, так как были способны почувствовать, что у него действительно нет никакой внутренней потребности в славе и власти. Его ближайшие друзья, вроде Элиасбергов и Мортковичей, только улыбались его причудам, догадываясь, что их чудаковатый друг не только не обуреваем гордыней, но, наоборот, застенчив.
Когда открывалась вакансия, прием новых детей происходил в два часа дня по пятницам. В большинстве это были семилетки, но они разделяли и прошлое и страхи девятилетнего Израэля Зингмана, уличного хулигана, – его мать, вдова, была не в силах помешать ему затевать драки с другими ребятами, кататься на трамвайных подножках и прогуливать школу. Когда мать сказала ему, что теперь он будет жить в приюте знаменитого доктора Гольдшмидта, его приятели не сомневались, что он отправляется в тюрьму. «Увидишь фараона и железную решетку на дверях, сразу сматывайся», – напутствовали они его.
Он все еще помнит день, когда мать привела его в дом номер 92 по Крохмальной улице.
Да, калитка, правда, была железной, но вот фараона рядом не оказалось. Мы вошли во двор, и к нам навстречу направилась дородная женщина вся в черном. Я посмотрел на ее лицо и увидел большую черную родинку. Внезапно из задиры я превратился в малыша, прячущегося за материнской юбкой. Женщина, пани Стефа, спросила у моей матери:
– Как его зовут?
– Израэль.
– Не годится, – сказала Стефа резко. – У нас уже есть два Израэля. Мы будем называть его Шия.
Я совсем ошалел. На улице я то и дело дрался из-за моего имени, а теперь эта тетка хочет отобрать его у меня! Я ее уже ненавидел. И подумал: это место не для меня. Не пойду в дом, и все.
Тут случилось нечто неожиданное. Мама старалась поставить меня перед собой, и у меня с головы слетел картуз. Стефа вскрикнула:
– Его волосы! Вы не обрили ему голову! Мама растерялась:
– Мне не сказали…
Я вспомнил слова моих дружков: если они захотят обрить тебе голову, значит, отправят в тюрьму.
– Не останусь я тут! – крикнул я и хотел убежать, но мама ухватила меня за рубашку.
– Тебе тут понравится, – сказала она умоляюще. – Доктора Гольдшмидта все любят.
– Так где он? – пробурчал я.
– У меня нет лишнего времени, – нетерпеливо сказала Стефа, кивнула мальчику, стоявшему поблизости, чтобы он присмотрел за мной, и ушла.
Парень начал уговаривать меня войти в приют, но я отказывался, пока мама не сказала, что пойдет со мной. Я с неохотой поплелся за ним в открытую дверь и в большой столовый зал, где много чего происходило. Но я стоял у порога, изо всех сил цепляясь за маму. Мимо сновали ребята и отпускали шуточки. Мне не понравилось, как они себя ведут. Что-то в этом месте было не так.
Потом к нам подошел мужчина в длинном халате и сказал, что он доктор Гольдшмидт. Выглядел он совсем обыкновенным. На мой взгляд, дряхлый старик, и только. Ну, совсем такой, как все. Он сказал маме, что ждал нас, а потом поглядел на меня:
– Я про тебя слышал. Я обернулся к маме:
– Чего он про меня слышал?
Он сказал, что слышал, как я упрямлюсь, и вышел, чтобы самому посмотреть. Потом заговорил с мамой, не глядя на меня. Но при этом ласково трепал меня по голове. Это произвело на меня большое впечатление. Кожа у него была мягкая, и от его прикосновения становилось тепло.
– Идемте со мной, – сказал он, отвел нас в комнатушку наверху и распорядился: – Разденься. – А когда я не шевельнулся, он повторил: – Будь добр, разденься.
Я стоял, как вкопанный. Он задрал мою рубашку, и мне стало холодно, но я ему не помешал. Он прижал ухо к моей груди.
– Что произошло во дворе? – спросил он. Я объяснил, что дело в моем имени.
– А твое имя?
– Израэль. Но тетка хотела изменить его на Шию. У нас на улице есть один настоящий идиот, вот его так и зовут. Надо мной все будут смеяться.
Доктор сказал:
– Но и у нас трудность, потому что двух наших мальчиков уже зовут Израэль. Если один из них совершит нехороший поступок, как мы узнаем, кто это был?
– Пусть он будет Сами, – вмешалась мама.
– Ему это не понравится. – Тут доктор повернулся ко мне. – А если ты здесь будешь Сташиком?
Это мне, по правде говоря, понравилось. Имя святого!
– Чтоб мне и такое имя? – сказал я.
– Да, тебе.
И он сразу стал моим лучшим другом. Я согласился, чтоб мама ушла.
– Что еще там случилось? – спросил он. Я рассказал ему про волосы.
– Тут все ребята с волосами. А мне почему нельзя?
– Хочешь оставить волосы, оставляй, – ответил он. – Только потом не прибегай ко мне жаловаться.
– А чего жаловаться-то?
– Ты будешь не похож на остальных новичков. Тебя прозовут «Козел Сташ» или «Петух Сташ». Но ко мне с этим не приходи.
Я онемел.
Он достал из кармана леденец и протянул мне. Мне не хотелось его брать. Я волновался. Я боялся и занервничал.
– А где тут цирюльня? – спросил я подозрительно.
– А зачем тебе цирюльня? – весело поддразнил он. Так, значит, он цирюльник, решил я.
– Ладно, состригайте, – сказал я.
– Садись, – велел он.
Потом достал машинку, и через минуту я простился с моими волосами.
Расставание с волосами при поступлении было много тяжелее для девочек, особенно с длинными красивыми косами, но стрижка рассматривалась как необходимая гигиеническая мера, чтобы в приют не попали вши, разносчики тифа. Однако если потом остриженные дети следили за своей чистотой, им разрешалось отрастить волосы заново.
Сара Крамер, чей отец только что умер, запомнила свой первый разговор с «цирюльником».
– Что ты чувствуешь, потеряв отца? – спросил он меня.
– Мне очень грустно, – шепнула я.
– Доченька моя, – сказал он негромко и положил руку мне на плечо. Потом сказал, что должен остричь мне волосы.
– Но ведь мама же тогда меня не узнает! – воскликнула я.
Он объяснил, что это необходимо ради чистоты, чтобы не завелись вши.
Сара, как и большинство новеньких, убедилась, что стрижка не оказалась такой уж страшной, потому что Корчак превратил ее в игру, как вообще почти все. Иногда он объявлял первую выстриженную полосу Крохмальной улицей, или какой-нибудь зверюшкой, или инициалами подстригаемого. Метод этот был рассчитан на то, чтобы успокаивать и подбадривать детей, однако сам Корчак относился к стрижке с такой же серьезностью, как к любой медицинской процедуре. Его парикмахерские инструменты стерильностью и остротой прямо-таки не уступали хирургическим, и он настаивал, чтобы все, кто хотел бы работать в приюте, демонстрировали свое умение разбирать и чистить машинки для стрижки волос. С такой же ревностностью он относился к мытью волос. «Лучше тереть только большим пальцем надо лбом, за ушами и темя, – объяснял он своим ученикам. – Там скапливается грязное мыло, засыхает и вызывает грибковые заболевания».
В их первый день Сташека и Сару, кроме того, взвесили (теперь им предстояло взвешиваться каждую неделю, и результаты тщательно заносились в их индивидуальные карты). Корчак высоко ценил весы – «чуткого, неэмоционального, непредубежденного поставщика сведений и советчика, который никогда не лжет». Взвешивание детей было не только научной процедурой, но и источником удовольствия, так как позволяло ему «ощущать красоту роста». Это было время для болтовни и шуток – один мальчуган даже приносил с собой взвешивать свою герань – и давало дополнительное преимущество, позволяя смотреть ребенку в глаза, заглядывать ему в горло, прижимать ухо или деревянную трубочку к его груди, понюхать его кожу и уловить его настроение. Вялость в активном ребенке часто оказывалась предвестницей болезни.
Ничто имеющее отношение к детям Корчаку пустяком не казалось. Он осматривал их грязные носовые платки, замечал потерю варежки (всегда существовала опасность отморозить пальцы) и превратил в игру обучение чистке обуви. Обращаясь непосредственно к ботинкам, он объяснял им, почему мажет их именно этим гуталином, почему пользуется щеткой и почему ему требуется содействие самих ботинок в этом процессе. И вскоре ребенку самому не терпелось поскорее взять в руки щетку.
После мытья днем в пятницу новички, вроде Сташа и Сары, получали одежду с номерками, которыми потом помечались все их вещи. Качество одежды, выдаваемой им потом, определялось тем, как они берегли прежнюю. Пока Корчак был на войне, Стефа ввела шкалу оценки чистоплотности от одного балла до четырех. Аккуратные дети получали самую лучшую одежду из пожертвованной приюту или сшитую в мастерской, а неряхи, постоянно рвавшие одежду и пачкавшие ее, получали замену из грубой материи. Доба Борбергова до сих пор помнит восторг, какой испытала, когда ей выдали первые в ее жизни платье, нижнюю рубашку и панталончики. «В субботу днем, когда я пошла навестить мою семью, я все время приподнимала подол, чтобы все на улице, даже мальчишки, могли увидеть мои красивые панталончики». Ханна Дембинская, тогда настоящий сорванец, не менее живо вспоминает, какой угнетенной чувствовала себя в темных безобразных фуфайках, которые висели на ней мешками, а «хорошие девочки» щеголяли в красивых платьях. (Свою категорию можно было изменить, но для этого требовалось изменить свои привычки, а на это обычно уходили годы.)
В тот же вечер, сидя за столом, покрытым в честь субботы белой скатертью, с плетеными халами на блюдах, новички находили утешение в мысли, что завтра же они увидятся с родными. По-прежнему сохранялось правило, что сироты по субботам после обеда посещают родных, возвращаясь в семь вечера. Матери, бабушки и дедушки или другие члены семьи обычно провожали детей назад в приют, однако внутрь они допускались только на праздничные обеды в дни Хануки, Пурима и Пасхи.
Первые три месяца новичкам помогали освоиться «опекуны», сироты постарше, которые приучали их к приютским порядкам, отвечали на их вопросы и несли ответственность за их поведение. Поскольку все были заняты уроками или еще чем-нибудь, новичку и его опекуну рекомендовалось общаться в письменной форме. Корчак особенно дорожил такой перепиской между девятилетним шалуном и двенадцатилетней девочкой, его опекавшей.
МАЛЬЧИК. Я говорил с Р. про то, как было у нас дома. Я сказал, что мой отец был портным. А у Р. он сапожник. А теперь мы тут вроде как в тюрьме, потому что тут ведь не родной дом. Жизнь без отца и матери ничего не стоит. Я рассказывал, как отец посылал меня покупать пуговицы. А отец Р. посылал его за гвоздями. Ну, и еще всякое. Только я позабыл.
ОПЕКУНША. Пиши более четко.
МАЛЬЧИК. Пожалуйста, посоветуй… на уроках у меня нехорошие мысли. Чтобы украсть. Но я не хочу никого огорчать. Я, как могу, стараюсь стать лучше и думать о чем-
нибудь другом: отправиться путешествовать, чтобы открыть новый материк, или уехать в Америку, работать, купить автомобиль и кататься там по всей стране.
ОПЕКУНША. Ты правильно сделал, что написал мне. Мы поговорим обо всем, и я дам тебе советы. Но не обижайся, когда я тебе что-то говорю.
МАЛЬЧИК. Я уже исправился. Я дружу с Г., и он мне помогает. И я очень стараюсь. Но нельзя ли мне уходить чаще, чем раз в две недели? Другие же уходят. Бабушка попросила меня приходить каждую неделю, и мне было стыдно ответить, что меня не отпускают.
ОПЕКУНША. Ты очень хорошо знаешь, почему тебя не отпускают чаще, как других. Я попрошу, но вряд ли что-нибудь получится.
Следя за новичком, опекун играл роль заботливого родителя – первая ветвь уникального семейного древа. Когда со временем бывший новичок сам становился опекуном, его бывший опекун превращался в бабушку или дедушку, а позднее и в прабабушку и в прадедушку. К этим семейным ячейкам отношение было самое серьезное, и каждый год они фотографировались все вместе.
Хотя приют был радикально прогрессивным в эпоху, когда во многих интернатах детей били и морили голодом, по современным нормам режим там кажется слишком строгим. Корчак верил, что режим и дисциплина полезны детям, при условии, что в их пределах они пользуются определенной свободой. Приют работал, как часы: Корчак считал часы равными по важности весам и термометру и верил, что человек, не считающийся со временем, не может работать хорошо.
Каждое утро в шесть раздавался звонок. Однако желающим позволялось поваляться в постели еще пятнадцать минут. Тем, кто вскакивал сразу, начислялись особые похвальные очки, постоянно запаздывавшие получали соответствующую запись в своей карте.
Умывшись, одевшись и застелив кровати, дети в семь часов спускались к завтраку, который обычно состоял из какао, хлеба, яблока, а иногда яйца. Отправляясь в школу, они проходили мимо большой корзины с заранее приготовленными бутербродами, чтобы захватить пакетик с собой и подкрепиться на большой перемене, а около двух они возвращались в приют обедать. Утром Стефа у входной двери инспектировала их, убеждаясь, что уши, как и башмаки, чисты, шнурки завязаны, все пуговицы на месте и застегнуты.
Когда дети возвращались из школы, они обедали: суп с куском мяса, каша, клецки или картофель и какие-нибудь овощи. Стелла Элиасберг обычно была на кухне, пробуя и подсаливая суп, прежде чем отправить его в столовую на подъемнике (деревянной площадке на блоках, где не так уж редко прятался шалун, поддавшись запретному соблазну прокатиться наверх в подъемнике). После того как со столов было убрано, дети делали за ними уроки, а потом приходила очередь выполнения домашних обязанностей. Ближе к вечеру наступало время занятий спортом, время игр и уроков музыки. По просьбе некоторых филантропов предлагались уроки иврита и идиша, но они не были обязательными.
Корчак, если был свободен, наблюдал за тем, чем были заняты дети. Он спрашивал: «Ну, как твои дела?» или: «Почему ты такой грустный?» словно бы совершенно случайно. По собственному опыту он знал, что дети не любят вопросов и отвечают неохотно или с холодной сдержанностью: «Хорошо» или: «Вовсе я не грустный». Он мог, проходя мимо, слегка погладить одного по голове, другого потрепать по плечу, так как знал, что дети не любят демонстративных ласк. Если чье-то лицо выглядело бледным или раскрасневшимся, он обязательно говорил: «Покажи-ка язык». Иногда он присоединялся к какой-нибудь игре и водил хоровод, распевая: «Ромазья хороший мальчик, у него в кармане дырка». А когда наступал его черед встать в центре, он всегда выбирал кого-нибудь, кто либо не был популярен, либо нуждался в ободрении.
Иногда он просто сидел в тени каштана во дворе на скамье среди детей и наблюдал за какими-нибудь соревнованиями или игрой. «Мне всегда хотелось посидеть вдвоем с ним, – вспоминала Сабина Дамм, рано лишившаяся отца. – Но это было невозможно, потому что того же хотели все. И я заходила сзади и обнимала его со спины – лучше нельзя было и придумать! «Ты меня задушишь!» – пищал он». Иногда кто-нибудь из младших детей забирался к нему на колени, гладил его бородку, а потом прислонял голову к груди Корчака и засыпал. «А ведь я, не правда ли, похож на старый дуб и дети, как пичужки, рассаживаются на моих ветках?» – спрашивал он. Когда игры кончались, дети собирались вокруг и дразнили Корчака, держащего спящего ребенка. «Нянька! Нянька!» – кричали они. А он морщил лицо и притворно бранил их: «Ш-ш-ш! Не тревожьте нас. Мой маленький устал. Дайте ему хорошенько выспаться, чтобы он проснулся завтра полный сил».
Стефа редко присоединялась к этим играм – ее слишком поглощали каждодневные обязанности. Она уже заметно разменяла четвертый десяток, и годы не смягчили ее лица, а словно выдубили его. Ее дородная, обтянутая черным фигура была в постоянном движении. Большие серьезные глаза – по-прежнему очень привлекательные – одни выдавали душевную теплоту, которую она прятала под резкостью манер. Лицо Стефы было «широким, будто дрожжевой пирог, и обсыпано бородавками, как изюмом». Дети любили потрогать самую большую бородавку сбоку от носа. Эта бородавка покачивалась, когда Стефа выходила из себя. Иногда она целовала руки детей, тянущиеся к заветной бородавке. Им нравилось наблюдать, как ее очки сползают по носу и останавливаются на самом его кончике. Она была требовательной матерью, дышавшей в спину ста шести своим подопечным, иногда награждая их шлепками, а не только поцелуями. Разозлившись на нее, дети отказывались есть, зная, как она будет опасаться, что они похудеют. Фотограф, готовясь снять ее, обнаружил, что заставить ее улыбнуться можно, только посадив к ней на колени ребенка. Ее лицо просияло, и он поспешно щелкнул затвором.








