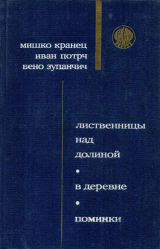
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
– Что случилось? – спросила она пожилую женщину в красном плаще. Та остановилась рядом и озиралась, словно насмерть перепуганное животное.
– Революция, Судный день, – прошептала женщина.
И большими мужскими шагами женщина понеслась по Далматиновой к отелю «Штрукль». К Вокзальной подъехал грузовик. С него соскочили солдаты и цепочкой стали поперек улицы. Женщина в красном плаще остановилась, в отчаянии заломила руки и словно окаменела. «Я должна сделать что-то, – убеждала себя Мария, – пусть что-то сумасшедшее, только пробиться к дому, только добраться домой…» И она снова увидела побледневшее лицо отца, измеряющего мне температуру. Она хорошо знала, что он подумал. Сепсис. «Прочь из этого пекла, – сказала она себе, – из этого ада, где ничего не понять». Через улицу она прошла в парк, из парка – к Айдовщине. На углу оглянулась. Перед Фиговцем, опустив автоматы, стояли солдаты. Один из них, присев на корточки, собирал с земли медные гильзы и бросал их в грязную сумку. Обстрел города не прекращался ни на минуту. Ей подумалось, хуже всего, наверно, сейчас где-нибудь у Любляницы или на площади Конгресса, откуда слышался стук тяжелых пулеметов. Сама не зная почему, она направилась к главному почтамту. Навстречу ей проехала колонна серых крытых грузовиков. Они свернули на Гаеву. Мария остановилась и стала смотреть. И здесь солдаты встали цепочкой через улицу и загородили проход. Каждый проходивший по улице попадал в кольцо, из которого не было выхода. И тут ей все стало ясно. Солдаты задерживали мужчин и сгоняли их, как скот, в большие группы. Затем их гнали к грузовикам. Растерянные, поднимались они под серые брезентовые навесы, а солдаты не переставая кричали: «Via, presto, forza, forza!»[25]
Лысый мужчина что-то принялся объяснять и не хотел подниматься на грузовик. Его схватили и бросили в машину, как мешок. Затем в грузовик сели солдаты, брезент застегнули, моторы взревели и колонна двинулась. «Куда? – подумала она. – Куда же?»
Она ощутила в себе пустоту ужаса. Услышала, как отчаянно прыгает сердце. Она побежала назад к Фиговцу, но солдаты перекрыли Госпосветскую и Венское шоссе. Теперь мужчин выгоняли из подъездов. Грузовики выстроились в ряд от самой протестантской церкви. Пожилой мужчина во что бы то ни стало хотел сойти с грузовика. Его не пускали. Тогда он добрался до борта машины, расстегнул брюки и стал мочиться. Он попал на спину и каску солдату, стоявшему рядом с грузовиком. Тот взвыл и схватился за автомат. Мария отвернулась. Она прошмыгнула через шоссе и оказалась в темной улочке, ведущей от Фиговца к Дукичеву кварталу. До самых домов она бежала, потом, уже более спокойно, свернула на Блейвейсову. Оттуда она сначала хотела пойти по Триестинской, но вспомнила, что там полицейское управление, и повернула через линию железной дороги в Тиволи. Здесь было спокойнее. Из центра города до нее доносились выстрелы и крики солдат, но ей уже казалось, что это где-то далеко-далеко, совсем как полузабытый страшный сон.
– Что они будут делать, что? – шептала она и сама слышала свой шепот. Она опустила воротник плаща и снова побежала. Она бежала вдоль железнодорожного полотна, тем же путем, каким несколько дней назад бежал я, до самого шоссе на Рожник. У переезда на мгновение задержалась. Она раздумывала – пойти через город или нет. Решила – умнее будет выбрать дорогу подлиннее, но побезопаснее. И снова побежала, держась железнодорожного полотна. Она свернула только при подходе к табачной фабрике, там, где кончалась аллея диких каштанов, которые каждую весну цветут, словно договорились, одни белым, другие винно-красным цветом – через один.
На минуту она прислонилась к перилам у перехода, чтобы собраться с мыслями. «Как мне было страшно, – подумала она, – как мне было страшно!» Выпрямившись, чтобы бежать дальше, она заметила, что рядом стоит, завернувшись в дождевик – воротник поднят, шляпа надвинута на глаза, – высокий мужчина. Он стоял не шевелясь и смотрел на нее. Она испугалась – он был совсем как страшный призрак из гангстерского фильма. Она побежала и почувствовала, что он бежит за ней. Грубо схватив ее за руку, он повернул ее к себе. Она хотела закричать, но не смогла. Во рту пересохло. Ноги подкосились. Она попыталась вырвать руку. Посмотрела на него, не различая ни черт лица, ни глаз…
– Простите, – зашептал он, – вы были в городе?
– Была, – она кивнула.
– Что там происходит? – Голос его звучал глухо и напряженно.
– Не знаю, – сказала она сердито. – Пустите меня.
Он выпустил ее руку, и тогда Мария увидела его глаза – они светились лихорадочно, как у кота.
– Что там происходит? – повторил он.
– Хватают мужчин, – сказала она, переводя дыхание. Она напряглась, стараясь казаться как можно спокойнее и храбрее.
– Ах вот как!
– И куда-то увозят.
Она пошла вперед. Незнакомец ступал рядом, почти прижавшись к ней. Она слегка отстранилась, но он опять оказался вплотную, как тень. Все время она чувствовала на себе его горячечный взгляд.
– Да, – сказала она. – И без конца стреляют в воздух. В небо. Наверно, хотят запугать.
– Правда? – пробормотал он.
Он остановился, огляделся вокруг, достал из кармана сигарету и закурил. При огоньке спички она взглянула ему в лицо. Ей показалось, что она его уже где-то видела, хотя в трепещущем красноватом свете лицо его было скорее незнакомым, чем знакомым. Когда он закуривал, она заметила, как судорожно дрожит его рука.
– Ясно, – пробормотал он, – потом будет так. Их отвезут в казармы. Там обыщут, перепишут, допросят, проведут мимо полицейских, агентов, шпионов, осведомителей и прочей сволочи. И если кто-нибудь из этого сброда узнает человека и укажет на него – дело кончено. Он уже не увидит света дня.
– Кто вы? – спросила она.
– Кто бы ни был, – последовал ответ. – Я вас знаю.
Она нахмурилась, открыв глаза, доверчиво спросила:
– Чем же все это кончится?
– Чем? – спросил он. – Ничем.
Он остановился, изумленно взглянул на нее и глухо добавил:
– Город опоясан проволокой и рвами. Тюрьмы. Концлагеря. Заложники. Осведомители. Ликвидация. Смерть. В конце всегда только смерть.
– Смерть? – переспросила она шепотом.
Она взглянула на него. Ей стало его жаль, хотелось сказать ему что-нибудь ободряющее, утешительное – он казался совершенно отчаявшимся. Неожиданно незнакомец усмехнулся:
– Революция проложит себе путь через наши трупы.
Затем он встрепенулся, что-то пробормотал и уже отчетливо произнес:
– Простите мою назойливость… – Он хотел еще что-то сказать, но махнул рукой, повернулся на каблуках и, ссутулившись, пошел обратно к переезду. Она посмотрела ему вслед и, изумленная, приложила ладонь к губам: Алеш.
Мгновение спустя она снова бежала.
Операция, тайно начатая в отеле «Мачак» у Любляницы, пронеслась. С помощью широко задуманной ответной акции оккупационным властям удалось оправдать наличие в Любляне множества солдат и офицеров, никогда не нюхавших русского фронта. При этом они не забыли использовать гудящие кинокамеры. Однако большая чистка, по сути дела, только началась. Карло Гаспероне устал. По десять часов в день он выворачивает карманы, прощупывает пиджаки, обламывает кончики ножей, чтобы они были не длиннее, чем на три пальца, и единственная польза, которую он из этого извлек, – несколько хороших зажигалок, карманные часы, серебряный портсигар с надписью «Твоя Альма» и театральный бинокль в перламутровой оправе. Бинокль он взял только потому, что тот так чудесно блестел. В общем, пустяки. Люди, которых привозят каждый день в казармы, все какая-то шваль – ни драгоценностей, ни дорогих украшений. А возьмешь какой-нибудь пустяк, эта шваль начинает вопить: «Почему вы у меня отбираете? Я надеюсь, это не запрещено иметь?» Как будто у них никогда не было войны, как будто они не знают законов, действующих в военное время. И у тебя в конце концов возникает ощущение, что ты не солдат, а вор. Но Карло Гаспероне, в сущности, добряк, он и сам без гроша в кармане, и потому все это, вместе взятое, кажется ему дьявольски глупым. Он устал и сейчас идет домой. Облачная ночь, мокрая улица, ему холодно. Нигде ни души. Чтобы отогнать неприятное чувство, он потихоньку насвистывал: «Voglio vivere così…»[26]
И вообще, эта люблянская зима невыносима, особенно для него, выросшего у моря. Оттуда нет-нет да и доносится теплое дыхание, а здесь жутко. Если нет снега, идет дождь, если нет дождя, то мороз, нет мороза – туман, а затем снова мороз или дождь или снег и туман, который вопреки терпению затягивается до полудня, а то на весь день и весь вечер, так что не понять, трясет тебя от холода или нервы разыгрались. Когда же придет весна? Да еще здесь такой безголовый народ. И к чему им все это? – думал он. Ну сжали бы зубы да потерпели. Неужели им непонятно, что маленьким людям нет смысла сопротивляться силе?! Что они, вправду не понимают, что не следует ссориться с властями, особенно с военными? Военные власти всегда суровы, даже на своей территории, ну а уж если война, то помогай господи. За счет войны господь бог списывает все грехи солдатам. Если этим беднягам что-либо не по вкусу, пусть поступают, как все маленькие люди: ни одна даже самая умная власть не умна настолько, чтобы быть умнее их, ни один закон не продуман до того, чтобы его нельзя было обойти, ни одно распоряжение так не закручено, чтобы нельзя было его обернуть в свою пользу. А они бьются головой о стену, как тот несчастный носильщик с № 77, который пытался напасть на него, вооруженного офицера итальянской армады, вероятно и в самом деле убежденный, что он не решится защищаться. Так ему и надо, дураку старому. Иногда он видел тот дождливый день как на экране: дождь, темнота, простыня, которой накрыли покойника, видел себя самого – доселе незнакомый ужас загнал его в дом, откуда он, не открывая окна, наблюдал тени людей, пока труп не положили в автомобиль и не увезли. Филомена потом рассказывала ему, что у Йосипа два сына и их обоих схватили в каком-то подвале, где они делали адские машинки. Но, словно сговорившись, они спрыгнули с грузовика – каждый в свою сторону. Одного убили, другой бежал. Карло беспокоил тот, что остался в живых, мертвые для него уже стали привычны. Живые были опасны в этом проклятом городе.
Ему кажется, что с каждым днем все ближе неотвратимая опасность. Город стал настоящим адом, вызывающим у него и ужас, и невольное уважение. Так тупица уважает неведомые ему силы, и именно потому, что он их не знает, они кажутся все могущественнее. У Карло такое чувство, будто люди начали легкомысленно играть со смертью. Совсем обычная вещь – умереть или убить кого-нибудь. Нам же, вдруг подумал он во множественном числе, легко убить кого-нибудь, а вот умереть дьявольски трудно. Если бы еще эти люди шутили, скажем, с ротой престарелых карабинеров, было бы понятно, но они же играют с целой армией. И дорого заплатят за эти шутки. В этой мысли уже было сочувствие сильнейшего.
Город был мертвый. Точно эта большая чистка его парализовала. Окна занавешены, улицы пусты, небо лежит на самых крышах. Ботинки промокли, да и проклятая крапивная форма совсем не выносит влаги. А все, вместе взятое, – неописуемый сумасшедший дом с тюремными камерами и судами, со штабами и комендантами, с учреждениями и приказами, с собраниями и проповедями, с брандахлыстами-офицерами, которые опрыскивают себя духами, будто они дома, с убийствами и облавами, с солдатами, которые сами никогда не знают, что они думают, и дожили до того, что революционное руководство обратилось к ним с листовкой на итальянском языке, и все, что пишется или говорится, по приказу или без приказа, – все ложь. Словно обманывают друг друга, и никто уже никому не верит, хотя все полны энтузиазма и поют «Giovinezza»[27], ибо так приказано, стреляют, потому что так приказано, участвуют в карательных экспедициях по деревням, потому что так приказано, – все только потому, что так приказано. И еще играют в мору[28]. Ибо это тоже предписывается какими-то негласными, но имеющими силу законами солдатской тупости.
«Моя обязанность, – убеждал себя Карло, – единственная моя обязанность – остаться в живых и вернуться домой, как только придет конец этой войне».
Ему показалось, что за ним кто-то идет. Он осторожно оглянулся, вынул из кобуры револьвер, положил его в карман, пальцем нажал предохранитель, и ладонь стала отогревать застывшую рукоятку. За ним шел мужчина, закутанный в дождевик, в шляпе, надвинутой на самые глаза. Он идет, держась поближе к домам, точно спасаясь от дождя, идет спокойно, видимо, не торопится, и, если Карло не ошибается, насвистывает, как и он, «Voglio vivere così». «Что за идиотские слова!» – подумал в бешенстве Карло и пошел быстрее. Он оглядывался по сторонам и, не переставая, размышлял: свой или нет? Если бы не свой, он не насвистывал бы так беззаботно. Но и свой, пожалуй, не стал бы так весело насвистывать. Если бы не свой, не стал бы насвистывать итальянскую песню. «Если кто-нибудь из наших, он бы окликнул меня и мы пошли бы вместе. Я болван, – подумал он, – сколько раз нам внушали, чтобы мы не болтались по улицам в одиночку даже днем, не то что ночью».
На перекрестке пустынных улиц тускло мерцал фонарь. Карло огляделся, куда бы спрятаться или улизнуть, но на этой паршивой улице не нашлось ничего подходящего. Дома на запоре, заборы какие-то подозрительные. Он перешел улицу и на ходу опять оглянулся. Незнакомец тоже переходил мостовую. Еще каких-нибудь сто метров, утешал себя Карло. «Если я оглянусь, – думал он, – то прежде, чем я успею обернуться, он меня прикончит. Как глупо, что он идет сзади. Я не могу его прихлопнуть, потому что не знаю, с кем имею дело. А он знает, кто я такой. Проклятые тряпки! Он может меня ткнуть хоть сейчас, он уже метрах в двадцати…» И Карло пошел быстрее, не догадываясь, что ему не суждено умереть от выстрела. «Скорее всего, какой-нибудь пес из ОВРА[29]. Те, кто с ними, всегда за нас. Тащится в пригород к какой-нибудь жирной телке и так же, как я, мечтает о теплой постели».
Дойдя до калитки, он судорожно схватился за ручку, невольно обернулся и попробовал взглянуть в лицо незнакомцу. «Если бы он собирался меня шлепнуть, – утешал себя Карло, – он сделал бы это давно. Наш, это как дважды два!» Он вставил ключ в замочную скважину и пробормотал заискивающе:
– Чао.
Яркий свет – как вспышка молнии – ослепил его. Он закрыл глаза, выпустил ключ и полез в карман. Но прежде, чем успел вытащить револьвер, свет погас, а голову охватила тупая непонятная боль, будто небо разверзлось над ним. Он закачался, застонал, выпустил из рук револьвер и с глухим стуком осел на тротуар. Шляпа откатилась далеко в сторону. Незнакомец осмотрелся, на секунду как будто задумался. Затем наклонился, поднял револьвер и сунул его в карман. Взяв Карло за воротник, оттащил его к краю тротуара. Он положил его голову на решетку канализации, лицом вниз, и с яростью наступил ему на затылок кованым башмаком. Затылок хрустнул, как телячья кость.
Незнакомец осмотрелся, явно раздумывая, склонился над трупом и проворно обшарил карманы. Вытащил бумажник, осмотрел его, достал удостоверение личности, а остальное зашвырнул на середину улицы. Потом опять осмотрелся и пошел медленной походкой смертельно усталого, совершенно разбитого человека.
Наутро первым оказался около мертвеца бродячий пес; он обнюхал его и противно заскулил. Его вой разбудил Филомену, которой всю ночь снилось, что она шьет себе подвенечное платье. Потом подошел патруль, солдаты долго и громко препирались, кому идти за помощью, а кому остаться на часах.
Отец заявил в присутствии людей, которые останавливались ненадолго, выходя из своих домов, и бросали взгляд на труп – голова Карло все еще лежала на решетке канализации – и на часовых:
– Так ему и надо. Хоть один раз пусть восторжествует справедливость. Он осквернил наш дом. Он запятнал наш порог кровью невинного человека, моего друга Йосипа, а это был мужик, каких теперь нет.
Люди молча шли своей дорогой. Подходили другие и точно так же молча шли своей дорогой. У трупа стояли двое патрульных – ждали третьего, а тот не возвращался целую вечность. Они все время держали винтовки наготове. Они смотрели на людей, не видя их. Выражение лиц у них было нетерпеливое, испуганное, заискивающее, и, если бы пришлось стрелять, они бы, наверное, не решились. Отец, держа руки в карманах, мерил их ледяным взглядом, потом отвернулся. Он отшвырнул ногой шляпу Карло, все еще лежавшую на тротуаре, и пошел в дом. Там он увидел Филомену – она плакала, уронив голову на столик у швейной машинки, – и подумал: «Я, как Пилат, умываю руки». Затем он услышал, как мать что-то переворачивает в комнате Карло.
– Ты! – завопил он в бешенстве. – Сию минуту пошла вниз, слышишь?
Мать сердито отрезала:
– А почему воровать и растаскивать должны другие?
Дни для нее были нескончаемо длинны, а ночи – точно никогда не наступит утро. Новости тревожные и страшные, проникают в комнату, где она сидит у моей постели. Смерть, о которой люди говорят шепотом и всегда так, точно она не предназначена и им, тем, кто пока на свободе и еще жив, – смерть на улицах, в парках, в домах, в казармах, в тюрьмах, в лагерях и в застенках. Рассказы о ней прокладывают, себе путь от человека к человеку со скоростью, недоступной техническим средствам связи, и все это – словно дорожные знаки на перекрестках и переходах: они как будто ни к чему и все же могут пригодиться, иногда они жуткие, иногда нелепые. Блокады и облавы день за днем отнимают у людей покой и ту каплю сна, которую им может дать ночь. Активисты, подпольщики, разведчики проявляют первые признаки беспокойства. Они покупают в аптеках бром в таблетках. На стенах и заборах ежедневно появляются наклеенные рядом портреты сутулого человека с мерзкими усиками и другого – с напряженным лицом и глазами, одержимого.
Мария все слышит, все видит, хотя почти не отходит от моей постели. Когда отец возвращается из города, она молча смотрит ему в лицо, и ни разу еще не случилось, чтобы она прочла на нем что-нибудь, кроме бесконечной тоски. Потом она смотрит на меня. Я лежу на кровати, укрытый до подбородка. Целыми часами я не открываю глаз и не шевелюсь. Как только я открываю глаза, Мария отводит взгляд, встает, берется что-нибудь поправлять или подходит к окну и смотрит в сад. Деревья в саду голые, синеватые. Но Мария не может долго стоять у окна. Она возвращается, садится рядом со мной, прикладывает руку к моему лбу – горячий или слишком холодный, и это всегда вызывает у нее тревогу, в которой она себе не хочет признаться. Глаза у меня широко открыты, замутненные, усталые от жара, от болей и видений. Постепенно они проясняются и наконец изредка пытаются улыбаться ей: на меня будто повеяло свежим дыханием весны.
По ночам она читает, сидя в кресле, но что проку – книги вдруг стали пустыми, ненужными, пустыми по сравнению с тем необъяснимым, что в ней таится. В те часы пыль могла спокойно разъедать книги, их могла затягивать паутина. Привычным движением она занавешивает лампу, чтобы свет не беспокоил меня, и сидит в полутьме. Сидит неподвижно, прислушивается ко мне или к себе я часто сама не знает, кого она слышит – меня или себя.
Но случается так, что комната вдруг наполняется биением жизни, – жизни, которая не хочет уходить, воли, которая поднимается в ее груди, как море, захлестывающее крутой берег, и в эти минуты плохое настроение исчезает, и не подкрадывается уже на своих воровских лапах сон, и лицо матери с портрета, написанного в мягких коричневых тонах, едва сохранившееся в ее памяти, улыбается ей ободряющей и печальной улыбкой. Мария думает о том, что это улыбка опыта, жизни, которая потом со всем хорошим и плохим, что в ней было, вылилась в ничто. Нет, не в ничто, ибо она оставила свой теплый след и в ней, сидящей сейчас на страже границы между жизнью и смертью. И она знает, что моя битва за жизнь – это и ее битва, что моя смерть была бы смертью и для нее, что ее жизнь тогда бы вылилась в ничто, без пользы, без следа, действительно в ничто, которое она не может себе представить. Взгляд ее задумчиво скользит от предмета к предмету, она пытается понять, каким было бы это прощание – прощание с окном, под которым сад и за ним город, тихий в ночные часы, оцепеневший в настороженном молчании войны, набирающий силы для нового дня, и это единственное маленькое окно заслоняет их от города, за ним – война; все эти дни, охваченная своей заботой, она просит в душе о том, чтобы окно оставалось занавешенным, далеким. И не согревают глаз мелкие вещицы, они все еще здесь, ненужные, хотя и любимые, старые и неуклюжие, но милые, дорогие спутники детства, когда-то она разговаривала с ними, как с равными: кукла с закрывающимися глазами и застывшей приторной улыбкой, длинноносый клоун в колпаке, резиновая обезьянка, которая раскачивается на пальмовой ветке и корчит рожи.
Время от времени она прислушивается – отец читает в соседней комнате; иногда он покашливает, встает, ходит взад и вперед по комнате. Хорошо слышно постукивание его шлепанцев, тип-тап, тип-тап. Затем он садится в кресло, и старые пружины сердятся и ворчат. Отец, наверно, листает ее школьный атлас, изучает положение на фронтах. В такие моменты он похож на старого отставного генерала, который даже перед смертью не хочет оторваться от своей стратегии. Слышно, как он выколачивает пепел из трубки о край пепельницы; вот взбирается на стул и заводит стенные часы, и они бьют хриплым, глухим голосом, будто жалеют кого-то.
Среди ночи она кипятит чай на электрической плитке, слушает, как бурлит вода. Словно мурлычет старый ласковый кот, который ходит вокруг нее и трется о ноги, просит, чтобы она с ним поиграла. Потом одетая ложится на диван, закрывается одеялом. Когда засыпает, к ней приходят сны, переплетенные с тревожными мыслями, и вызваны они незнакомыми чувствами. Просыпается она вдруг от испуга – не случилось ли чего? – и некоторое время, растерянная, в страхе озирается. Затем она старается взять себя в руки, успокоиться и даже улыбнуться. Иногда садится, складывает руки на коленях и отдается мягкому порханию теней, приходящих бог весть откуда и уносящих ее назад, в прошедшее.
Ее юностью был сад, особый мир, неясный и странный мир, где растут деревья и цветут цветы, где жизнь обновляется в вечном круговороте, всегда новая, всегда не такая, как прежде. Там вызревала клубника, но собирать ее можно было только тогда, когда отец определит, что она созрела. Там стоит деревянная беседка, когда-то выкрашенная в зеленый цвет, и в беседке – два старых плетеных кресла, круглый стол на железных ножках – они похожи на кошачьи лапки – и куча пустых цветочных горшков, вложенных один в другой. Это ее дом, ее мир, прибежище, тайный храм, из которого она наблюдает первые чудеса жизни, открывающиеся перед ней в игре света и теней, всегда поразительной, всегда возбуждающей. Это дом ее детства – кукла с закрывающимися глазами и застывшей приторной улыбкой, лохматый медведь, гримасничающая обезьяна. Тут же детская коляска, красный трехколесный велосипед со звонком, скакалка тоже с красными ручками, игрушечная кухонька с горшочками и кастрюлями, черпачками и ложками, со всеми вещицами, которыми она распоряжается, как взрослая хозяйка, – беспокойно снует от плиты к столу и вздыхает: «Ах, я совсем забыла про петрушку! Как я могла!» Когда обед готов, она несет его отцу. Отец улыбается. Мария чувствует, что он тронут. Должно быть, своими хлопотами по хозяйству она ему о чем-то напомнила. Вроде бы все так, как было, и тем не менее в прошлом. Она тоже уже не та, и ей не хотелось бы вернуться вспять, ей дорого богатство, которое она в себе чувствует, хоть музыка детских лет звучит так заманчиво. Мир ее расширил свои границы – из дома в беседку, из беседки в сад, из сада на улицу, затем в город. А теперь ей кажется, что он захватил весь земной шар. В мире, который она ощущает за жуткими событиями этих дней, сама себе она кажется беспомощной, оставаясь почти один на один с любовью, до которой не доросли еще ни сердце ее, ни разум, оставаясь с заботой, вселившейся в нее украдкой, без ведома отца и затмившей внезапно и полностью внутренний мир девочки, которая еще не знает, куда повернуть свою пусть маленькую, но – как она чувствует – особенную и драгоценную жизнь.
День склоняется к вечеру. Легкий ветерок перебирает листья тополя, под которым она сидит с отцом. Отец, как всегда, на плетеном стуле, который поскрипывает при каждом его движении; она сидит у его ног, опираясь руками о его колено, как голубой цветок на зеленой лужайке. Отец собирается читать ей сказку Андерсена. В руках у него немецкая книга. Если Мария чего-нибудь не понимает, она его спрашивает. Они читают, соединяя приятное с полезным, – таков принцип отца.
Отец читает: «Месяц рассказывает. В узкой улице там, за углом, – она такая узкая, что мои лучи спускаются в нее по стенам домов лишь на одну минуту, но за эту минуту я вижу как раз столько, чтобы узнать жизнь за этими стенами, – там я увидел женщину. Шестнадцать лет назад она была еще ребенком…»
Мария слушает и думает: вот и я еще ребенок. Отец читает, несколько раз он останавливается в задумчивости, и тогда Мария говорит:
– Ну а дальше?
Отец читает. Он морщит лоб. Видно, ему что-то не нравится. Вот он дочитал до конца, и Марии кажется, что он читал не подряд. Отец хочет что-то сказать, но она перебивает его:
– Папа, а зачем этот человек поставил девочку к окну?
– О, тебе еще этого не понять!
– Ну почему же мне не понять! Только зачем он ее поставил к окну? И зачем он ее перед этим нарядил?
– Ты не поймешь этого, детка! Такие ответы ее сердили.
– А что значит вот это: «У открытого окна проповедует мертвая мещанская любовь?..» – и как она у окна зарабатывала деньги?
– Детка моя, еще не пришло тебе время понимать такие вещи!
Когда же оно придет, это время? Отец снимает очки и протирает их, очень бережно и очень долго. Перелистывает книгу и гудит:
– Ох уж этот Андерсен!
Мария размышляет, склонив голову. Где-то далеко скрыты правдивые образы мира, присутствие которых она неизменно ощущает. И ей кажется: вот-вот что-то изменится и разрушит ее детский мирок. Быть может, ворвется что-то плохое, страшное. И предчувствия не сразу покидают ее.
В соседнем саду мой отец выравнивает ветки деревьев. Он стоит на высокой стремянке в своих бумажных кондукторских брюках и пилит. Под деревом стою я. В одной руке я держу большие садовые ножницы, другой поддерживаю стремянку.
– Господин Кайфеж, – окликает Мария, – зачем вы пилите ветку?
– Надо, девочка, чтоб деревья не слишком разрастались.
– А почему им нельзя слишком разрастаться?
Отец хмыкает и не отвечает. Марии хорошо видно мое лицо, насмешливое и высокомерное, и еще она слышит, как я говорю отцу:
– Какая глупая девчонка!
Деревья вскоре расцветают и приносят плоды, и вот уже прошла весна и опять наступила осень, и годы проходят, жизнь идет, и события отодвигаются все дальше, потонувшие в омуте воспоминаний. Мария чувствует, как приближается то, что должно приблизиться, и сердце ее сжимается. Она боится и все же хочет, чтобы оно пришло. И снова все задернуто туманом догадок и предчувствий, раздробленных мгновений, случайно выловленных памятью.
Поклукар, капитан в отставке, живущий наверху, сидит перед беседкой. Рядом с ним сидим на корточках мы с Марией. Поклукар листает атлас и разговаривает с нами. Он то смеется, то становится серьезным и снова шутит и поддразнивает. Все его существо дышит необычайной доброжелательностью и мудростью. Он все знает, все понимает, для него весь мир как цветущий сад, знакомый до последней травинки. Он знает причину и происхождение всего, ему ведомы все законы движения и жизни. Для него не существует ничего неприличного, даже если мы задаем неловкие вопросы – Поклукар ведь не учитель, и все, что он говорит, умно, искренне – слова его открывают в молодых душах предчувствие неизмеримого.
– А правда, что у всех моряков доброе сердце? – спрашиваю я.
– Разумеется, – отвечает он, – потому что у них тяжелая жизнь.
Моряки и тяжелая жизнь – в наших глазах это нечто непонятное, несоединимое. Поклукар усмехается и начинает рассказывать. Из ничего вдруг поднимается море, в нем ходят волны. Вихри взметают их в вышину, и корабли кажутся скорлупками, которым суждено без следа, навсегда быть пожранными черной бездной. Из ничего возникают красивые гавани, неуклюжие силуэты портовых рабочих, могучие стволы каштанов, идущие вразвалку матросы и с ними – тоска, любовь, ненависть, раскаяние, жалость, разочарование, отчаяние… Все струны человеческого сердца звучат под жестокими пальцами жизни.
Мария явно озабочена.
– А портовые девушки сильно накрашены?
– Да.
– И чтобы заработать деньги, стоят у окошка?
– Да, у окошка.
– Но почему обязательно у окошка?
– Чтобы привлечь мужчин.
– Ага. – И через некоторое время опять: – Но почему они хотят привлечь обязательно мужчин?
– На корабле мужчины одни, и, когда они приходят в порт, им нужны женщины.
– А почему же им нужны женщины?
Поклукар улыбается. Потом он становится серьезным и начинает говорить. И снова открывается мир, на этот раз другая сторона мира, которую могло лишь смутно чувствовать ее сердце, бездна ужасов, вызванных социальными условиями и слабостями человеческими. И во всем этом есть что-то недосягаемое, то, что ее больше всего волнует: что же такое любовь между мужчиной и женщиной?
– А если у матроса дома жена?
Поклукар морщит лоб и только спустя некоторое время отвечает:
– Человек не всегда сам себе хозяин.
Я сидел навострив уши, хотя и смущался от ее глупых вопросов. Я перевожу разговор на другую тему:
– А правда, что, когда на корабле умирает человек, его бросают в море?
– Правда, – отвечает Поклукар. – А что с ним еще делать?
У ограды, отделяющей их сад от нашего, я говорю Марии:
– Вчера я слышал, рассказывали, кто-то повесился из-за любви.
– Правда?
– Правда. Он любил девушку, а она его нет. Он был влюблен по уши.
– Неужели это так ужасно?
Я пожимаю плечами – мне не хочется сознаться, что я не знаю.
– Мой старик говорит, что ни одна женщина под солнцем не стоит того, чтобы из-за нее вешаться.
– Почему – под солнцем?
– Ну, так говорят. Ни одна женщина на свете.
Мария не знает, что на это сказать. Вечером она спрашивает отца:
– Папа, это правда, что ни одна женщина под солнцем не стоит того, чтобы из-за нее вешался мужчина?
– Девчурка, откуда только ты это берешь?
На другой день она говорит:







