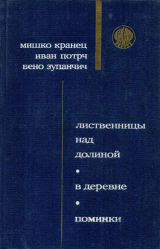
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
– Твой папа не прав. И вешаться неправильно. А мужчина и женщина, несмотря ни на что, равны между собой.
Я пожимаю плечами, мне становится стыдно, и я отвечаю:
– Мой старик вообще их не любит, женщин.
И опять Мария не знает, что сказать. Жизнь становится сложной.
– Я сегодня читал, – начинаю я, – о китайском обычае: там женщинам с раннего детства бинтуют ноги, чтобы они были совсем маленькие. Из-за этого им потом всю жизнь трудно ходить.
– Разве у них такие большие ноги?
– Не знаю, просто у них такой обычай.
– Это глупый обычай, – говорит Мария.
– Тебе, – заявляю я, слегка смутившись, – тебе не пришлось бы их бинтовать, они у тебя все равно маленькие.
Мария не знает, как выйти из положения. Ее спасает от полного замешательства мой карманный фонарь – большой, продолговатый. В саду уже темнеет, фонарь вспыхивает так, что невозможно смотреть, и узкий длинный луч света бежит через улицу, мимо соседних домов и исчезает в бездонном небе.
– Мировой фонарь, да?
– Ага.
– Смотри!
Я направляю луч на трубу их дома. Круглый зайчик скачет по почерневшей крыше. Мария вспоминает месяц у Андерсена и его лучи, которые спускались посмотреть, как живут люди на земле. Я свечу через дорогу в окно старого дома. В кругу света она видит в окне цветущую пеларгонию – цветы ее вечером кажутся совсем черными.
– Посвети в небо.
Я поднимаю фонарь: луч света взметнулся вверх и где-то исчез. Мы оба прижимаемся к фонарю, чтобы проследить за его светом, и на секунду наши щеки касаются. Только на секунду. Потом Мария говорит:
– Звезды так далеко…
– Жалко, – говорю я.
– Покойной ночи, Нико!
– Покойной ночи, Мария!
На пороге дома Мария оборачивается и жмурится – я издали свечу ей в лицо. Затем я гашу фонарь и снова зажигаю его: теперь он ласкает ее грудь, колени, ступни, потом одиноко пляшет перед порогом и беззвучно гаснет.
Память об этом живет долго, хотя проходят недели, месяцы, годы. Однажды вечером мы опять встречаемся у ограды, и Мария спрашивает:
– У тебя еще цел тот фонарь?
– Цел, – отвечаю я.
– А помнишь, как мы иногда светили?
– Помню. Еще бы! Погоди!
Через минуту я возвращаюсь, мы прислоняемся к ограде, и я принимаюсь зажигать и гасить фонарь; я поворачиваю его, и мы постепенно, кусок за куском, открываем мир: пышную верхушку растущего неподалеку осокоря, почерневшую трубу паровой пекарни, окно, на котором вместо пеларгонии стоит теперь банка маринованной брусники, номер какого-то дома, под которым написано запыленное название улицы, медную ручку в форме собачьей головы на парадной двери, летучую мышь – она все порхает вокруг деревьев, и мы никак не можем поймать ее лучом. Она исчезает, едва мы ее касаемся. И нам все кажется, что мы слышим мягкое хлопанье ее крыльев. Все, что мы видели сотни раз и в то же время как бы впервые, оживает в неподражаемых видениях, которые возникают в середине светлого круга, возвращающего предметы из темноты на свет очищенными и позолоченными. Мы разговариваем шепотом, как будто у нас какая-то тайна, мы улыбаемся, и ее глаза поблескивают в отсветах фонаря. Она говорит:
– Мы сейчас с тобой совсем не такие, как днем… Посвети в небо, Нико!
Я ставлю фонарь на колышек ограды, луч бьет вверх, похожий на перевернутую колонну. Вверху Млечный Путь, вверху звезды, они поглощают наш скромный лучик. Границы исчезают. Мы опять сближаем головы, чтобы проследить путь света. И снова наши щеки соприкасаются. Мария смотрит вверх и чувствует, что мои губы коснулись ее лица. Она хочет отодвинуться, но не может – я положил руку на ее плечо и прижимаю ее к ограде. Мы остаемся так мгновение и еще мгновение, затем девушка упирается руками в ограду, мягко вырывается, молча поворачивается и медленно уходит в дом. Войдя в комнату, она не зажигает света. В темноте она садится к окну и прячет лицо в ладони. В саду темно. И вдруг его пересекает узкая полоска света. Она останавливается на фасаде дома напротив. Однако вскоре она начинает плясать, описывая странно знакомые кривые линии, Мария смотрит на них, размышляет и вдруг понимает. Она прижимает холодные ладони к разгоряченному лицу, она готова заплакать. Я передвигаю фонарь, светлое пятно движется, пишет и затем стирает одну за другой буквы ее имени.
Мария!
Как будто кто-то позвал ее издалека. Она просыпается, вскакивает, взгляд ее на миг становится растерянным. Затем она быстро подходит к постели и кладет руку мне на лоб. Лоб не слишком холодный и не слишком горячий. Я открываю глаза и спрашиваю:
– Мария, это ты?
– Да.
Она садится на край постели и всматривается мне в лицо.
– Сверчок, – шепчу я.
– Да, – отвечает Мария, – не думай о нем.
– Сверчок, – говорю я, – Сверчок тебя… любил. Перед тем как это случилось, он просил передать тебе привет.
– Да-да, – повторяет Мария. – Ну успокойся.
Я не смотрю на нее. Я смотрю на потолок, где луч света нарисовал призрачную карту.
– Сверчок, – продолжаю я, – Сверчок тебя любил. Сверчок заслужил, чтобы ты его тоже… Сверчка больше не будет… Сверчок…
Мария видит слезы в моих глазах.
– Успокойся, успокойся, – просит она, – ну пожалуйста, успокойся!
– Лучше бы я остался и дал ему уйти.
– Успокойся, – говорит Мария и треплет мои волосы.
– Я спокоен, – говорю я и в первый раз взглядываю на нее. – Я совершенно спокоен. У Сверчка был только отец, у него не было матери. Как и у тебя. Только отец. Сверчок был одинок. Ему нельзя было идти со мной через город, его искали. Тигр и Мефистофель сказали, что больше идти некому. Мне они не доверяли. Сверчок предчувствовал, что что-нибудь случится.
Мария гладит меня по голове и говорит:
– Довольно об этом, Нико. Сейчас не время для таких разговоров. Мы еще поговорим обо всем. Успокойся, я тебя очень прошу. Успокойся!
– Мария, – кричу я. – Мария!
– Что, Нико?
– Сверчок был так одинок! Ты знаешь, что значит быть одиноким? Когда он умер, он опять оказался совершенно один. И раньше, и потом, и всегда. И только ты могла…
– Если ты будешь упрямиться, я уйду, – говорит она решительно. – Ты мне все-все расскажешь, когда поправишься. Я всегда буду с тобой. Успокойся, усни. Скоро утро. Уже светает.
Я жду весны, хотя не знаю, что она мне принесет. Будто весна сама по себе уже что-то такое, что освободит меня от чувства неловкости. Просыпаются сады. Вот-вот зазеленеют листочки на березах. Зазеленеют Головец, Крим, Курешчек, Святая Катарина, Шмарная гора и Грмада, Доломиты.
Газетчики у почтамта кричат:
– «Пикколо»! «Пополо д’Италиа»! «Корьере делла сера»!
Люди читают газеты, но если их читают, то только из-за сообщений с русского фронта: итальянские газеты не умеют так последовательно врать, как наши. А о том, что происходит на нашей территории, в них нет ничего, как и в наших газетах. Это записано совершенно особым образом в других местах – в листках и листовках со звучными названиями: «Свобода или смерть», «Вперед под знамя славы!», «Король Матьяж», «Заря», «Белый орел», «Голос народа», «Словенская акция», «Словения и Европа», «На страже Словении», «Словенские бунтари», «Пробужденная Словения». За каждым из этих листков свой комитет и своя действующая группа, хотя порой численность ее не превышает состава комитета. Одни присягают триединому богу, другие – триединому трехцветному флагу или опять-таки триединому народу и сбежавшему королю, третьи – одному-единому богу и наместнику его на земле. У всех свои боги, свои программы, свои лозунги. Умный человек старается быть осторожным, уже невозможно понять, кто скрывается за каждым из лозунгов – сторонники Натлачена или Эрлиха, Главача или Блатника, Прапротника или Першуха, Рожмана или Дихура, Рупника или Новака[30]. Да и сами они уже не помнят, кто из них что напечатал и с чем обратился к людям. Город стал настоящим политическим Вавилоном, будто сам всевышний смешал там все дерзкие языки. И во всех листках пишут: «Ждать, ждать, ждать». Во всех кричат: «Действовать, действовать, действовать», в каждом показывают пальцем: «Братоубийцы, братоубийцы, братоубийцы». А где-то тайно готовят для оккупационных властей тщательно подобранные списки имен и адресов: подчеркнуто одной чертой – в лагерь, двумя чертами – суд, тремя чертами – расстрел. Потом резолюция приведет в исполнение свой приговор над Эмером, Прапротником, над Жупецем и Кикелем, умрет Першух, умрет Эрлих, умрет Натлачен. И тогда листков станет несколько меньше.
Пахнет гражданской войной.
Я жду весны, не зная, что она мне принесет. Я знаю только, что мой ум восьмиклассника еще не созрел, он не в состоянии распутывать политические узлы и сети, сплетенные войной и политическими группировками для того, чтобы улавливать в них простых людей. Когда я слушаю, как Мефистофель рассказывает о том, что творится в городе, мне хочется встать с постели и самому окинуть взглядом весь город. Лучше всего от Барья: долина прислонилась к подножию крутых гор, а горы в свете первых сумерек похожи на кулисы из какого-то сна-театра. Они покрыты первой зеленью. Кошачий хребет Градского холма выгнулся, будто в ожидании. Этот небоскреб может заглядывать даже за государственную имперскую границу, в великий германский рейх, и поэтому вид у него словно бы удивленный. У меня вдруг появилось сумасшедшее желание бросить взгляд от почтамта по Прешерновой к Трем мостам и к Шентклавжу в то мгновение, когда вечернее солнце упрется своими лучами в зеленый купол кафедрального собора и в белый камень мостов. Я спрашиваю Мефистофеля, низвергает ли фонтан работы Роббы свои струи на каменистое дно бассейна, – а ведь пока я не слег в постель, мне это и в голову не приходило. А Мефистофель смотрит на меня с удивлением: ведь он не люблянчанин.
Я жду весны. Судя по тому, что он мне рассказывает, она не принесет мне ничего особенного. Единственный лозунг, неизменный с самого начала – он не зависит от положения под Тобруком или под Ленинградом, не зависит от накала межпартийной грызни на нашей территории, – борьба. В этом есть что-то ободряющее, последовательное, обнадеживающее. Граф Чиано[31] думает, что в Любляне за каждым окном – засада, в этом он и прав и не прав, потому что не отличает засады от засады, солдата от солдата. Старый циник, хотя и рано, почуял приближение краха.
А кроме того, весна сама по себе такая вещь, которой стоит дождаться.
Мефистофель большими шагами ходит по комнате от двери до окна, от окна к двери. У окна он вдруг останавливается и оборачивается, прикрыв черные глаза:
– Демосфена взяли. В Трнове. На каком-то сеновале.
Он оглядывается на мою постель и складывает руки за спиной. Руки у него черные от машинного масла.
– Секретаря районной организации арестовали перед самым собранием – он шел туда. Все говорит за то, что его предал племянник – он за «Стражу».
Я прослеживаю взглядом его беспокойный путь от двери к окну.
– А Люлек?
– Люлека схватили – в карманах у него был мел.
Мефистофель присаживается на край постели и продолжает, глядя в окно:
– Тигр просто вне себя. Демосфен поддерживал связь с каким-то офицером королевской армии. Тот приносил ему сообщения об облавах, револьверы, гранаты, боеприпасы.
– Провокатор?
– Никто ничего не знает.
– А что Тихоход?
– Скалит зубы и печатает листовки.
– Так ты думаешь, что Демосфен…
Мефистофель трясет своей черной головой, точно хочет прогнать назойливую мысль. Оборачивается и смотрит на меня. Глаза его горят ярче, чем обычно.
– Я считаю, грех говорить что-либо определенное.
– А Кассиопея?
– Кассиопея в полном отчаянии. У нее же дети.
– Пока я здесь лежу, я почти ничего не знаю. Мария не рассказывает всего.
– Чем меньше ты знаешь, тем лучше…
– Это так, – взволнованно подтверждаю я, – и все же… все же, как может человек сохранить мужество, если он не знает, что происходит, ему ведь не на что опереться. Мы же не старые подпольщики, которые годами привыкали… Поодиночке мы – ничто. А как дела в гимназии?
– Ничего. Тихоход говорит, что с каждым днем все меньше народу. Католики точат когти. В открытую угрожают доносами.
Мефистофель опять встал и заходил по комнате.
– Когда выздоровеешь, мы переправим тебя. К партизанам. Многие уже ушли. Там сейчас здорово. Раньше был отлив из города, сейчас начался прилив.
– А как твоя жена?
Мефистофель остановился, взглянул на меня и отвернулся к окну.
– Она в Бегуньях. А ребенок – у ее матери, в Камнике.
Мефистофель почему-то долго рассматривает улицу, сады, дома. У дома напротив стоит почтальон с сумкой через плечо и разговаривает с моим отцом.
– Слушай-ка, – говорит через некоторое время Мефистофель, чтобы перебить собственные мысли, – ты знаешь, что убили любовника твоей сестры?
– Я слышал.
– Здесь, у калитки. Кто-то размозжил ему голову. Буквально. Его нашли чуть свет. Я пытался выяснить, но никто не знает, кто и почему это сделал.
– Этого они от меня не могли скрыть, – бормочу я.
Мефистофель не оборачивается. Я смотрю на его широкую спину и чувствую, он хочет мне что-то сказать, совсем не то, что уже сказал.
– В доме был обыск, нашли какие-то бумаги. Ты не оставлял дома никаких документов? Твой брат арестован.
– Об этом я не знал, – отвечаю я, – но я уверен, что все уничтожил. Это, наверно, бумаги Антона. Он приносил домой четницкие газеты.
Мефистофель обернулся с чуть заметной улыбкой.
– Хорошо бы тебе отсюда перебраться.
А, подумал я, вот в чем дело. Он беспокоится.
– А куда?
– Куда? Если бы я знал! Все явки переполнены. Я сменил легальную квартиру. Я думаю, тебе стоит смотаться не только из-за Карло. Ты же знаешь, каждый день идут облавы и обыски. Всех мужчин увозят в казармы. Всех мало-мальски подозрительных задерживают, отправляют в Италию.
– Я об этом почти ничего не слышал, – говорю я, глотая слюну.
– Знаю, – отвечает Мефистофель. – Мария не хочет тебя волновать.
– Лучше бы она мне все рассказывала.
– В казарме всех проводят мимо окошек, за которыми стоят осведомители. Больше всего боятся какого-то Розмана. Он сбежал от партизан и теперь свирепствует в Любляне.
– А ты там был?
– Два раза. Один раз меня схватили у здания Матицы, другой раз – у Петричка, у меня там было свидание. Сошло благополучно, так как в Любляне никто из местных меня не знает. Тихохода один раз взяли с гранатой. Он спустил ее в штанину – к счастью, он был в шароварах. И его освободили. – Мефистофель улыбнулся: – Теперь, дорогой мой, пошло всерьез. И люди держатся хорошо, хотя предатели успевают немало напакостить.
– Неужели нельзя их ликвидировать?
– Мы не можем устраивать резню. Надо убрать главных.
Мефистофель снова подходит к окну. Почтальон прощается. Отец стоит у парадной двери. Он высох, скрючился. Посреди улицы копошится пестрая курица, которую он зовет Иванкой. Она пытается искупаться в пыли, но пыли еще слишком мало.
– Вот так, – говорит, помолчав, Мефистофель, – у тебя есть время подумать. Мне не хотелось тебя беспокоить, но тебе лучше знать, как обстоят дела. Буржуазия пошла на последний шаг. Они уже не грызутся между собой. Положение крайне сложное. Запрещаются какие бы то ни было самовольные действия. Понимаешь? В случае чего-либо чрезвычайного я пришлю к тебе Тихохода. Он вне подозрений.
Мефистофель повернулся к двери. Я подумал, что он собирается уходить, но он снова подошел ко мне и посмотрел в глаза:
– А как там с этой женщиной, что живет наверху?
– Да никак, – отвечаю я. – А что там может быть?
Он смотрит на меня строго, хочет услышать ясный ответ, но я действительно не понимаю, что ему нужно.
– Когда ты скрывался у нее, ты спал с ней?
Я приподнялся и покраснел. О черт, подумал я, что же ответить?
– Нет, – сказал я, – никогда. Я скрывался в комнате этого самого ее поручика, который был тогда в отпуске.
– Это правда?
– Правда, – отвечал я. – Хотя не знаю, как это можно доказать.
Мефистофель пожал плечами.
– Чертова баба, – сказал он. – Я направил к ней Леопарда, ему как-то раз некуда было идти ночью. Она пустила его и пригрела в своей постели.
– Ну? – спросил я нетерпеливо.
– Да ничего, – ответил серьезно Мефистофель. – Ничего особенного. Она не должна была этого делать. Парень теперь ходит как ошалелый.
Это было как проклятие. Мне пришлось вернуться к Анне.
Она стояла у окна и смотрела в сад. Отец возился с двумя тополями. Он надолго останавливался перед каждым из них, оглядывал дерево со всех сторон, точно намеревался запечатлеть в памяти все до мельчайших подробностей. Затем он взял шерхебель и начал очищать ствол, медленно, кусочек за кусочком, не слишком резко и не слишком плавно. Очистив дерево, он притащил стремянку и пилу. Прислонил стремянку к дереву, попробовал ногой, крепко ли стоит, переставил и снова попробовал, пока не убедился, что влезать на нее не опасно. Взобрался и спилил несколько сухих веток. Затем спустился на землю, отступил на несколько шагов и еще раз придирчиво оглядел дерево. Так, вероятно, разглядывает свое произведение скульптор, подумала она с улыбкой. Смешные эти старики. Все принимают всерьез. Если уж они берутся за какое-нибудь дело, им кажется, что именно вокруг него должен вращаться весь мир. Все остальное исчезает, немеет, теряет всякий смысл. Вот и сейчас из всего, что есть на свете, для отца существуют только эти два дерева, которые надо очистить и обрезать. Иногда она наблюдает, как он берет в руки курицу, заглядывает ей в глаза, затем открывает ей клюв, поднимает перья, ощупывает ноги – все по порядку, пока наконец не опускает ее на землю. Какая-нибудь крестьянка на его месте выпустила бы курицу в воздухе, и та, хлопая крыльями, свалилась бы сама. Он – нет. Он опускает курицу с такой осторожностью, будто это яйцо. И потом обеими руками отряхивает брюки.
– Бедняга Кайфеж, – прошептала она. Интересно, какой он был в молодости? Такой же мямля, как сейчас, тоже ходил кругами, как священник вокруг алтаря? Неужели он так же ходил вокруг женщин? Она засмеялась и приложила ладонь к губам. Еще заметит, что она над ним смеется. И так ему «повезло», когда у него на заборе написали «бордель»! Когда он вернулся, слышно было, как они бранились. Он кричал: «Что правда, то правда, пусть и на двери будет написано! Разве из-за меня написали эту гадость?» Мы, дети, казались Анне странными – точно не родные друг другу. У каждого совсем свое лицо, своя фигура, свой характер. Антон был приземистый, угрюмый, неотесанный, он не был похож ни на меня, ни на Филомену, как не походил на нее я. Филомена больше других походила на мать, какой та была в молодости, и Анне ничуть не казалось странным, что парни ее как-то сторонились. Она не урод, думала Анна, но в глазах у нее есть что-то непонятное, жадное, она точно раздевает тебя взглядом. Черт ее знает что. Собственно, Анне было ее жаль: она была добрая женщина. Бедненькая, говорила она про себя, в ней есть что-то первобытное, да еще эти медные волосы. Она никогда не была совсем юной и всегда кажется и молодой и старой одновременно. Улыбаясь, тянула Анна свои мысли, точно распутывала клубок пряжи? А Нико какой-то необычный, вечно что-то выдумывает. Вот и Поклукар был такой. Для него имели цену какие-то особые жизненные законы. Для него все могло оказаться правдой и в то же время ничто не было правдой. Он путешествовал, сидя с атласом на коленях. Она тоже не раз путешествовала вместе с ним. Она никогда не видела моря, но знает его очень хорошо. Как хорошо было бы и сейчас куда-нибудь уехать – прочь из этого люблянского гнезда, где скопилось больше солдатни, чем на каком-нибудь фронте. Нико, наверное, не забыл об этих путешествиях. Он еще попутешествует. Обязательно. У него это останется.
Она думала обо мне, потому что я опять был в этом доме. Я лежал под ее комнатой, там, где спала Мария. Из моей комнаты переехал к ней, думала Анна. Она не знала об этом, пока в один прекрасный день не зашла к Марии и открыто не спросила ее. Она называла ее «барышня», а Мария ее – «госпожа». Смешно. Мария долго смотрела на нее, и Анна уже думала, что она сейчас заплачет, а потом ответила: «Да. Он у нас. Он ранен». Они смотрели друг на друга, каждая со своей затаенной мыслью. «Барышня, а что, если к вам придут?» – «Можно будет сказать, что ему вырезали аппендицит». Вот так. И документов у него нет, ведь его документы нельзя показывать. Да и все это само по себе уже подозрительно. «Нет-нет, барышня, это не подойдет. Надо что-нибудь придумать». – «Да, но что, госпожа?» Хорошая девочка, подумала она с завистью. А вслух сказала: «А что, если спрятать его где-нибудь в саду?» – «Нет. Сад будут обыскивать». У них в доме? Они странные люди. Нет-нет. Лучше, чтобы они вообще не знали. На чердаке? На крыше? В чулане? «Папа в отчаянии, госпожа». И они снова молча посмотрели друг на друга.
Некоторые районы города переворачивали уже второй раз. Каждый день. Сегодня Вич, завтра Шишак, послезавтра Мосты. Если его найдут, сказала она про себя, его расстреляют. Сейчас ему уже лучше, сказала Мария, сейчас он уже может вставать. Значит, может защищаться.
Над садом спускались первые весенние сумерки. Отец мелькал синеватой тенью на фоне мягко рдеющего неба. Вот так смотришь, думала Анна, и все, вместе взятое, кажется неправдой. Иногда невозможно поверить. Весеннее солнце как будто очистило все вокруг. Зима миновала. Вылезают листочки, появляется зелень. Скоро у Кайфежа зацветет сирень. И каждое утро и каждый вечер на ней будет свистеть дрозд. Что это там – Кайфеж или только движущаяся тень, напоминающая о чем-то давнем, потерянном, позабытом? Неужели и вправду уже целый год продолжается весь этот бред? Анна почувствовала, что жизнь ее пуста, растрачена, бессмысленна. Ей хотелось любить, одаривать, она могла бы жертвовать и страдать, если бы только знала зачем, а все так до нелепого просто и глупо в непонятно…
По улице загрохотали грузовики. Она услышала скрип тормозов. С машин спрыгивали солдаты, они с топотом бежали по улице. Отец остановился как вкопанный.
– Облава, – прошептала она. Не закрывая окна, сбежала по лестнице и отчаянно позвонила в дверь.
– Барышня, скорее, скорее, поручика нет дома! Я его спрячу у поручика в комнате!
В шкафу я сел, заткнув за ремень пистолет. Анна заперла меня и вышла. Так, сказал я про себя, встревоженный и взбешенный. Теперь меня еще и заперли. Точно похоронили в шкафу у Поклукара. Можно представить себе, что я на корабле, плывущем в вечность. Вероятность – пятьдесят на пятьдесят. Возможно, они с уважением отнесутся к комнате, где живет их офицер, а может – нет. Если они меня обнаружат, я могу выскочить, уложить одного, другого, третьего, сбежать по лестнице, выбежать в сад, оттуда к отцу, затем… Насколько я вообще смогу бежать. В шкафу пахнет нафталином. Я не знал раньше, что от запаха нафталина можно так вспотеть. Или это страх? Кажется, я не представляю, в какую западню я попал. Уже слышны шаги на ступеньках – вот они остановились у квартиры Тртника.
Мария, наверно, волнуется. Бедная Мария. Сколько ей со мной хлопот. Ага, они разделились – одни остались на первом этаже, другие идут наверх. Стучатся. Анна подходит к дверям. Как-то она себя поведет? Я слышу, как она говорит: «Что вам угодно?» Запах нафталина становится невыносимым. Вот Анна отошла от двери. Входят. Их трое. Проходят на кухню. Анна сердится. Наверняка что-нибудь опрокинула. О чем-то болтают. Вот они идут в первую комнату, в ее спальню. Шум. Мне вдруг вспоминаются какие-то картины из «Грехов принца Сарадина» Честертона. В комнате что-то переворачивают – может, собираются вспарывать матрац. Ну, Анна им сейчас задаст! Меня злит, что я завишу от ее сообразительности. Кто-то идет прямо сюда. Я вспоминаю, как в этой новелле Честертона какой-то хитрец умел так ходить, что в соседней комнате казалось, будто ходят несколько человек. Дверь открылась – заглянули в комнату. Анна идет следом. Сейчас она объяснит, что в комнате живет итальянский офицер. Молодец, произвела его в полковники. Бедняга Пишителло, как он быстро продвинулся по службе. Она забыла, что на стуле висит мундир поручика с подобающими значками и нашивками.
– Colonnello? – спрашивает насмешливый голос. – No, signora. Tenente. Soltanto tenente[32].
– Ну все равно, – отвечает Анна, – все одинаковые болваны.
Я вытираю рукавом пот, он выступает на лбу под волосами, над бровями и стекает по вискам на лицо. Солдат шарит по углам. Отпирает ящик письменного стола. Бумаги. Здесь у поручика почтовая бумага с его факсимиле. Солдат поддает ногой чемодан, стоящий у стены, приподнимает одеяло на постели. Анна здесь. Затем она идет к двери посмотреть, что делают двое других. Солдат, оставшийся в комнате, садится. Я слышу, как под ним скрипнул стул. Он берет бумаги из ящика и книгу с ночного столика. Читает:
– Carissima Giulietta. Собачья дочь. Наверняка давно уже с кем-нибудь спуталась. А это что такое?
– Книга, – слышу я голос Анны.
– Сукин сын, – говорит солдат. – Данте читает.
Я слышу, как он перелистывает книгу и бормочет:
– Ад. Чудесно. Lasciale ogni speranza…[33]
Тут он вспоминает, что ему хочется пить. Он просит воды. У меня набегает слюна. Я проглатываю ее и вздыхаю. Анна его не понимает. Тогда он показывает жестами. Коротко засмеявшись, она приносит воды. Солдат выпивает залпом и говорит «grazie»[34]. Он кладет книгу обратно на столик и начинает разъяснять Анне, как ему хотелось пить, и какая она симпатичная черная кошечка, и что он – какое совпадение! – обожает именно таких черных кошечек. O mia bella![35] Анна это почти поняла, потому что она говорит «дурак» – наверно, он хотел посадить ее на колени или задрать юбку.
– Не хочешь сольдат? Ми хорош сольдат. Добри сердце. Много любовь. Много кьянти. Долго быть сольдат. Десять лет.
Появляются двое других. Один входит в комнату, другой останавливается у двери. Он громко зевает и спрашивает начальственным тоном:
– Ты все осмотрел?
– До последней ниточки, – отвечает тот, что сидел на стуле.
– Мадам, где иметь ваш муж?
Анна улыбается:
– Не иметь муж. Вдова.
– О, – удивляется стоящий в дверях и вдруг орет: – Что ты тут расселся, кляча ленивая? Ты действительно все осмотрел?
– Все до крошки, – отвечает скучным голосом сидящий и нехотя поднимается. Затем он говорит: – Эта вдова – симпатичная черная кошечка. Жаль, что здесь уже живет поручик. Паршивый пес. Я бы на его могилу…
– Молчи, скотина. – Это третий, до сих пор он не произнес ни слова. – Скорее он на твою. Уж он-то будет знать, когда сматывать удочки, а ты нет. Так и будешь до самого конца обниматься с винтовкой.
– Сукин сын, – говорит стоящий в дверях, – что ты мелешь? Ты здорово обнаглел. Был бы я поручиком, я бы приказал тебя расстрелять.
– Молчи, трепло, – отвечает тот, что сидел. – Стреляй себе, пока тебя не подстрелили.
– Выходи! – истерически вопит стоящий в дверях.
Я слышу, как они уходят. Вытираю пот со лба и чувствую – я весь мокрый. Внизу они встречаются с теми, что были у Тртника. Я ставлю револьвер на предохранитель и, обессиленный, прислоняюсь головой к стенке шкафа. Пронесло. Анна заперла дверь за солдатами и вернулась в комнату.
– Посиди, пока они не уйдут совсем, – говорит она. – Они пошли в сад. Я так и знала, что они пойдут в сад. Схожу на кухню, посмотрю в окно. Тебе плохо?
– Нет, – отвечаю я, – мне станет плохо, когда я тебя увижу.
– Почему? – изумленно спрашивает она.
– Из-за Леопарда. Ты что сделала с Леопардом?
Я хочу вылезти из шкафа, но она меня не выпускает.
– Ноги у меня подкашиваются, как увижу тебя, – шепчет она и поспешно выходит.
Я пытаюсь припомнить в подробностях новеллу Честертона, но не могу вспомнить ничего, кроме того, что там был сыщиком какой-то монах. О, идиот несчастный, говорю я себе, за каким чертом мне понадобилось читать ей проповедь? Я слышу, как открывается входная дверь. Наверно, Мария. Нет, шаги мужские. Но у учителя не скрипят подметки. Вбежала Анна. Она почти кричит: «Buona sera, signor tenente!»[36] Дьявол! Я снял предохранитель и затаил дыхание. Он вошел, бросил фуражку на постель. Я слышу, как он расстегивает ремень и снимает плащ. Вешает на вешалку у двери. Подходит к окну, опускает занавеску, отходит от окна, зажигает свет. Затем скрипит стул. Вот он сел за стол. Швырнул Данте на постель и выдвинул ящик стола. Сейчас начнет писать. Carissima Giulietta. Кто-то стучит. Это Анна. Она рассказывает, что в доме были солдаты, что они все перевернули, что куда-то делся ключ от шкафа и что один солдат стянул у нее из комода часы. А не желает ли он кофе? Можно сейчас же сварить. Настоящий бразильский кофе, он такого наверняка давно уже не пил. Если угодно, пусть приходит на кухню. Все это она тараторит так, что он не успевает сказать ни да, ни нет.
Поручик пишет. Мне слышно, как перо скрипит по бумаге. У меня такое чувство, будто он пишет на моей вспотевшей спине. С улицы доносится урчание грузовиков. Опять стучат во входную дверь. Мария. Я слышу шепот. Дверь закрывается будто со вздохом. Анна уходит в кухню, поручик пишет. Может, выскочить из шкафа? А как же Анна? Черт с ней. Я больше не могу. Мне не хватает воздуха, я с трудом перевожу дыхание и уже не успеваю вытирать пот, заливающий глаза. Поручик все пишет. Меня разбирает злость, потому что мне не видно, что он пишет, но я думаю, что он описывает Любляну, несчастный, чтобы его Джульетта знала, где он протянет свои жалкие ноги. И вообще, мне кажется глупым, что поручик может быть влюблен, что может быть влюблена Джульетта. Он встает и начинает ходить взад-вперед по комнате. Наверно, обдумывает. Кашляет, снова садится и снова пишет. У меня вспотели ладони. Мне хочется выстрелить в него. Наверно, я смогу попасть, потому что прекрасно ориентируюсь в комнате и знаю, где стоит стул. Меня бросает то в жар, то в холод.
Ага, голос Анны – вероятно, кофе готов. Она зовет его на кухню, чтобы он не передумал. Поручик встает, его сапоги скрипят. Анна открывает дверь в кухню. Через минуту она входит в комнату, отпирает шкаф и выпускает меня… Тьфу, черт! Входная дверь приоткрыта. И хорошо, мне даже не надо ее благодарить. Я бросаю на нее беглый взгляд, глаза у нее испуганные, несчастные, они просят прощения. На лестнице я невольно кидаюсь к окну и смотрю в сад.
Посреди дорожки на белом песке лежит вытянувшись Фердинанд. Наверно, его лягнул копытом какой-нибудь солдат. Отец стоит над ним, как над собственной могилой.
Я никогда не понимал и не уважал отцовской любви к животным. И может быть, именно из-за этой чрезмерной любви все его животные были мне противны. Я с трудом переносил запах кроликов. С Фердинандом мы тоже не были никогда особенно дружны – он лебезил перед отцом, а со мной вел себя настороженно, как с чужим. Несколько лучше я относился к Эммануэлю, хотя его зеленоватые глаза были скорее враждебными, чем дружескими, скорее скептическими, чем преданными. В нем было что-то неукротимое, свое. Равнодушные люди внушали нам, что любовь к животным – нечто прекрасное, возвышенное, достойное, почти величественное. Я никогда им не верил. За годы, прожитые рядом с отцом и его животными, проникнутые отчетливым чувством, что он любит их больше, чем нас, детей, во мне окончательно укоренилось убеждение, что такая преувеличенная любовь к животным противоестественна, что она – признак одиночества, вольного или невольного, признак вызова или даже ненависти к людям. Я всегда бледнел, когда при мне превозносили такую любовь. И это осталось во мне, хотя я никогда не унижался до того, чтобы мучить или бить животных. Я проходил мимо них, не замечая. Но в то же время я, наверное, совершенно спокойно застрелил бы одно из люблянских чучел женского рода, влекомое по улицам какой-нибудь гнусной собакой. Когда я видел, как отец гладит кролика, у меня словно переворачивался желудок. Достойный образец любви к животным я видел только у крестьян, для которых они были частью их мира, – это была любовь естественная, без болезненной гипертрофии.







