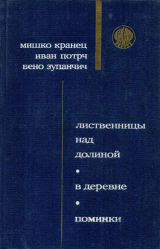
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Я вдруг понял, что рядом с Филоменой никогда не было человека, который мог бы сказать ей доброе слово о родине. У нее не было любви, которая очистила бы ее сердце, покрытое коркой зависти и мелких забот. И случилось так, что один только Карло Гаспероне сказал ей, что она красивая, что она хорошая и что он ее любит. А его черные глаза и курчавая грива и вовсе свели ее с ума. И что ей сейчас такие вещи, как родина, честь, гордость? К ней вдруг пришло все, по чему она тосковала. Нет, сказал я себе, люди – жертвы обстоятельств. Так говорит Сверчок. Но тот же Сверчок утверждает, что люди могут стать хозяевами обстоятельств. Что же мне сказать о Филомене? В чем сейчас мой долг? Долг мне диктуют ум и сердце, сказал я себе. Они вложили мне в руки красный мел.
– Филомена, – с трудом произнес я, – из тех девушек, которым семейные обстоятельства мешали выйти замуж. Хотя это по самой своей сути не имеет отношения к политике.
– Ты против этой меры? – спросил Тигр.
– Нет, – быстро возразил я. – Я такого не говорил.
Здесь Йосип, как нарочно, одним духом выпил рюмку, стоявшую перед Мефистофелем, причмокнул и сказал:
– Ну и вино! Настоящее вино, вот черти!
– Надо принять решение, – напомнил Мефистофель. – Как быть с Поклукаровой?
– Подождать, – предложил Сверчок.
– А с Кайфежевой?
– Остричь. Кто против? Никто. Значит, пусть это будет первое предостережение на нашем участке. Группу, которая это осуществит, составит товарищ Сверчок.
– Эй, Пепца! – заорал Йосип, обернувшись к дверям.
Вбежала официантка. Она улыбнулась и плотно прикрыла за собой дверь.
– Ну, милочка, что там нового?
– Ничего, – ответила девушка.
– А часовые?
– Стоят на своих местах. Все в порядке. Не беспокойтесь.
– Смотри, старайся, – улыбнулся Йосип и ущипнул ее.
– Товарищ, – угрожающе заметил Тигр, – ты, по-моему, ведешь себя недостойно. Мы на собрании, а не в кабаке.
– А что такого? – удивился Йосип. – Ну ущипнул я ее? Но ведь девочка что надо, разве нет?
Он повернулся ко мне, словно предлагая принять участие в споре. Я принужденно улыбнулся.
– Переходим к последнему пункту повестки дня: план операции, намеченной на понедельник. Слово для примерного плана, без конспиративных подробностей, предоставляется товарищу Нико.
Я очнулся от сковавшего меня отупения и хрипло заговорил.
– Я не буду в этом участвовать, – сказал я Сверчку после заседания. – Не потому, что она не заслуживает, а…
– И не нужно, – ответил Сверчок. – Мне тоже неохота. Это не занятие для бойца. Надо раздобыть парикмахера. Знаешь какого-нибудь надежного парня?
– Нет, – сказал я. – Слушай, – ты все еще влюблен?
Он сощурился и стал смотреть в сторону.
– А почему ты спрашиваешь?
– Да так. Просто интересно.
– Нет, – сказал он, – мне некогда. – Помолчав, он добавил: – Йосиповых ребят схватили. Алешу удалось бежать с грузовика, а Пепи убили при попытке к бегству.
– А Йосип знает?
– Ты же видел, он в прекрасном настроении.
– Здорово переживать будет.
– Еще бы, – сказал он. – Аддио!
Вечером, незадолго до полицейского часа, когда над городом повисла тягостная тишина, а по улицам вышагивали только патрули с автоматами на изготовку да время от времени слышался шорох автомобильных шин, попискивание маневрового паровоза у переезда через Венское шоссе и приглушенное журчание Любляницы, разбухшей от осенних дождей, произошло нечто непонятное.
– Ого, – пробурчал старый дворник, запирая парадную дверь. – Если слух меня не обманывает, что-то большое взлетело в воздух.
Женщина, протиравшая в это время пол в коридоре мокрой тряпкой, со стоном выпрямилась, увидела пламя пожара и охнула:
– Матерь божья!
Стоявший у главного почтамта полицейский в черной пелерине вздрогнул и быстрым движением сорвал с плеча винтовку. У Фиговца жалобно зазвонил трамвай. Потом он стал трезвонить яростно, так, будто куда-то опаздывал, и, дребезжа, укатил. Где-то с треском распахнулась оконная рама. Высунулась всклокоченная мужская голова. Но ничего не было слышно, и голова убралась обратно, а окно захлопнулось.
По шоссе, неподалеку от того места, где произошел взрыв, идет человек с чемоданом. Вероятно, с поезда. Он спешит. Боится, что полицейский час застанет его на улице. Вдруг он останавливается как вкопанный, щурится.
Взволнованный, я провожаю его взглядом и в мыслях продолжаю следить за ним. Остановись, остановись, товарищ! Оглядись повнимательней и постарайся как можно скорее исчезнуть. Горит красная бензиновая колонка. На ней надпись «Mobiloil». В одну секунду колонку разнесло на куски. Пламя с шипением взвилось высоко в небо, расплылось там, и теперь видны дома, озаренные красным светом, акация в красной тени, красные отблески в стеклах окон. За ними время от времени мелькали изумленные, освещенные огненными отблесками лица стариков, женщин, детишек, которых взрыв поднял с постелей. Пламя лизнуло мостовую, и она стала похожа на запотевшее розовое зеркало. Жар дохнул в лица людей, шедших по улице, и они пустились бежать.
Пора, пора бежать и тебе, незнакомый товарищ! Слышишь, вот уже пронзительно воет сирена пожарного автомобиля. Со всех сторон бегут солдаты. Они кричат так, будто попали в засаду. Темные силуэты в слепящем блеске пламени. Ночные бабочки стайками летят на свет и, обожженные, падают в огонь. Откуда-то прилетела летучая мышь, закружилась в ярком обруче, рванулась прочь и исчезла в облаке прозрачного дыма. Дым колышется и растет, словно дерево, которое хочет достать своей пышной кроной до звезд. Подъехал легковой автомобиль. Из него выходят четверо офицеров. Они стоят и смотрят на пожар. Тут же прикатили пожарные. Но им уже нечего здесь делать. Огонь сделал свое дело. Ослепительно блестят стекла автомобиля. Подкатил грузовик с солдатами. Солдаты кидаются во все стороны. Дубасят в двери, нажимают кнопки звонков, обшаривают кусты. В домах гаснет свет. Опаленная акация издает странные, болезненные звуки.
Беги, незнакомый путник, беги!
На террасе трехэтажного дома бесшумно двигаются четыре тени. Иногда слышен шепот – пара слов. Мы молча глядим на пожар, чуть-чуть запыхавшиеся. Отсюда хорошо видна часть улицы, опаленная акация, пожарная машина, еще более красная, чем обычно. Сверчок говорит:
– Жаль, что мы им не набросали ежей.
Ежи – это такие звездочки из колючей проволоки. Один острый конец всегда торчит вверх и протыкает шину любой толщины. Мефистофель смотрит на пламя. Черные глаза его блестят. Он не слышит, о чем шепчемся мы со Сверчком. Кажется, он не в силах оторвать взгляд от огня.
– До чего странное чувство, – произносит он, – как будто мы что-то создали, а не уничтожили. Значит, в человеке где-то скрывается страсть к уничтожению.
– Какая там страсть, – говорит Сверчок, – никакой страсти. Это пыл борьбы. Горела бы наша колонка, мы бы не испытывали никакой радости, хотя огонь был бы так же красив.
– Но ведь она наша, – взорвался Мефистофель. Голос его дрожит от внутреннего напряжения. – Разве и не наша тоже?
Какое мучительное противоречие: разрушать, чтобы строить; убивать, чтобы прекратить убийства.
– Скорее всего, правда: легче разрушать тем, кто ничего не построил. Я думаю, это больше всего подходит нам, – говорит Сверчок с коротким сухим смехом.
Мефистофель пожал плечами и опять зашептал:
– Нам не должно доставлять удовольствие ни разрушение, ни убийство, ни какой бы то ни было вид уничтожения. Если жестокая необходимость превращается в наслаждение, это становится опасным. Сознательный боец превращается в кровопийцу, и вместо созидателя мы получаем ниспровергателя.
Я молчу, прислушиваюсь к себе. Мефистофель сегодня ночью непривычно разговорчив. Мы пригласили его сюда наблюдать за операцией. Когда все было готово, мы втроем – я, Сверчок и Люлек – удалились с места происшествия и теперь на безопасном расстоянии вместе с Мефистофелем смотрели на огонь. Еще двое, Леопард и Тихоход, ушли в другое место. Мне показалось, что прошла целая вечность, пока Мефистофель заговорил и похвалил нас. Этого было достаточно, чтобы исчезло то сладкое замирание сердца, которое я ощущал весь день. Я мгновенно вырос в собственных глазах, созрел, стал сильным, опытным – не юноша, а скала, человек действия. Правильно, думал я, необходимо действие, довольно размышлений, прочь малодушие.
– Разумеется. Кто поддастся такой слабости, тот для нас потерян. – Это Сверчок.
Четвертый молчит. Он самый младший, самый неопытный, скромный паренек с круглыми синими глазами, почти ребенок. Мы зовем его Люлеком. Он таскает с собой шестимиллиметровый дамский пистолетик и мечтает устроить покушение на какого-нибудь генерала. Мы ему все время разъясняем, что он должен быть дисциплинированным и что нельзя устраивать покушения кому когда вздумается. Сейчас он молчит, смотрит, слушает, счастливый, что мы взяли его с собой. Большие глаза в свете пламени кажутся лиловыми. Пораженный, я смотрю в них и думаю: ведь его отец очень состоятельный человек. Что же привело к нам этого мальчика?
Тем временем я почти забыл о незнакомом путнике с чемоданом. Его схватили, когда он бежал обратно к вокзалу. Бросили в кузов грузовика и повезли в казарму. В чемодане у прохожего оказался радиоприемник, который он вез в Любляну починить. Его обвинили в поджоге бензиновой колонки, не вдаваясь в подробности, осудили на десять лет и отправили на остров Сицилию.
Пронзительный осенний вечер. Холодный дождь бесшумно омывает голые стволы акаций. На мокром асфальте отражается свет затемненных ламп и автомобильных фар. В такой день по Варшаве прошли голубые испанские легионеры, которым уготована смерть в России; они несли на штыках пятнадцать тысяч надутых презервативов в знак протеста – немцы запретили им любить полек. На кой черт испанцам бром!
Одно из многочисленных событий, волнующих людей, совсем незначительное – нападение на Филомену Кайфежеву. Почувствовав, что ее держат крепкие мужские руки, а глаза ей завязывают косынкой, она попыталась вырваться. Хотела закричать, но кто-то ловким а не слишком ласковым движением запихнул ей в рот носовой платок. Платок был не очень чистый. Затем она почувствовала, что ее сталкивают с освещенной части улицы куда-то в полную темноту. Филомена оцепенела от ужаса. Потом она услышала, как кто-то прошептал: «Ножницы», и поняла, в чем дело. Слезы обожгли глаза. Она хотела просить, но не могла. Она бы рассказала, объяснила, она бы упала перед ними на колени, умоляла. Она была уверена, что ее отпустили бы, если бы узнали, какая у нее была молодость.
Я неумолим, ибо я ненавижу, ибо таково суровое время. Я ощущаю в себе что-то от дикаря – наверно, потому что в нищете всегда есть что-то дикое. И все же мое озлобление – это и ее озлобление, как моя молодость – молодость Филомены.
Когда-то, довольно давно, Филомене было четырнадцать лет. Соседский парень, по имени Мижо, ученик слесаря, показал ей в один прекрасный день десять динаров.
– Получишь. За это.
– За что?
– За то, что пойдешь со мной и не будешь орать. Ничего страшного.
– А что ты будешь делать?
– Увидишь.
Она смотрела то на деньги в его руке, то ему в лицо. У него была рыжая кудлатая голова, веснушки на щеках и красивые белые зубы. Когда он улыбался, он не казался противным.
– Что тебе надо, скажи.
– Увидишь. Дай только честное слово, что никому не расскажешь.
Она смотрела на него вопрошающими, уже не детскими глазами.
– Ну, не скажу.
– Пошли, – сказал он и взял ее за руку.
Они ушли за Градащицу. Было лето. Вода стояла низко, над ней свешивались зеленые ветви деревьев.
– Ложись.
– А деньги где?
– На. – Он втиснул ей в руку потную бумажку.
Она легла на теплую землю. От зеленых листьев тянуло одуряющим теплом. Где-то щебетали воробьи. Мижо лег рядом. Она не смотрела на него, только почувствовала его горячие пальцы на своей груди.
– Правда, не будешь орать? – шептал Мижо.
– Нет, – сказала она.
Он нежно гладил ее. Ей было приятно. Она закрыла глаза и подумала, что, правда, не стоит кричать.
– Ну, – хрипло выдохнул Мижо.
Тогда она вытянула руку и решительно оттолкнула его и, преданно глядя ему в глаза, сказала:
– А ты мне не сказал, что ты меня любишь.
– Что? – Он глупо уставился на нее. – Разве я тебе не дал десять динаров?
– А ты меня возьмешь замуж, когда я подрасту? Ты подождешь, пока я вырасту?
– Ты… коза! – сердито воскликнул Мижо. – Да ты и так уже взрослая. Ты же мне дала честное слово. Так что ж ты теперь брыкаешься?
– Нет. – Она покраснела. – Ты мне только скажи, возьмешь меня в жены, когда я подрасту?
– Еще чего, – злобно бросил он, – жениться на девице из такой семьи!
– Из какой «такой» семьи?
– Из семьи, где неизвестно, кто кому отец!
– Что ты сказал?
Она приподнялась и посмотрела на Мижо. Глаза у него были зеленовато-рыжие. Как у отцовского кота Эммануэля.
– Сказал то, что сказал.
– Шпана!
Она вскочила на ноги, ударила его по лицу и побежала. Потом остановилась, швырнула деньги в воду и побежала дальше. Через несколько минут она обернулась и увидела, что он стоит у самого берега и отряхивает брюки. Запыхавшаяся, заплаканная, Филомена прибежала домой и все рассказала. Отец, не говоря ни слова, спокойно достал из шкафа широкий солдатский ремень с металлической пряжкой и стал ее бить. Он бил ее, пока она не потеряла сознание.
Я все это хорошо помню. Я убежал из дому, заперся в курятнике и плакал. Еще с полгода после этого случая Филомена каждый вечер рассматривала черные полосы на своем теле, ощупывала неровные следы от металлической пряжки и при этом клялась ненавидеть отца до самой смерти. Отец с тех пор не мог на нее смотреть. Лицо его при взгляде на Филомену наливалось кровью. А ей все мерещился у него в руках тот страшный ремень с металлической пряжкой. Когда несколько лет спустя появился первый и последний жених, отец ответил «нет», потому что не хотел ей давать никакого приданого.
Те, кто сейчас держат ее, не знают ничего о ее молодости, и она не может рассказать им ни об этом, ни о том, что было позже. Но нет, это не помогло бы, потому что они лишь исполнители приказов кого-то другого – того, кому некогда искать корни зла в чьем-то прошлом.
На мгновение она притихла, потом отчаянно забила руками и ногами. Один из державших ее чуть не упал.
– Слушай, ты, – зашептал кто-то, – если будешь сопротивляться, я тебе дам по кумполу. Стой спокойно, мы тебя острижем, и дело в шляпе. И чего ты гуляешь с этим паршивым итальянцем, мы ведь его все равно убьем?!
Филомена услышала скрежет ножниц. У нее засветилась робкая надежда, что волосы срежут только сзади. Но тут же поняла, что эти люди знают свое дело. Она почувствовала прикосновение холодных ножниц на затылке, по темени пробежали мурашки. Затем она ощутила холод на лбу, около ушей. Она поняла, ее стригут наголо, стараются снять все волосы, как рекруту. «Наверное, парикмахер», – подумала она, вздрогнув. Никто не говорил ни слова. Неподалеку затявкал щенок. Кто-то шикнул на него. Покончив со стрижкой, ее опять куда-то перетащили, развязали руки, и она услышала шепот:
– Не двигайся с места, пока мы не уйдем!
И исчезли так же неслышно, как появились. Филомена напрягла руки и освободилась от веревки, сдернула с глаз косынку и вытащила кляп изо рта. Она стояла в темном дворе какого-то дома. Рядом снова заскулил щенок. Слезы навернулись ей на глаза. Она повязала голову косынкой и выбежала на тротуар. Улица пуста и тиха. Синий фонарь над перекрестком дрожит на ветру, как будто от страха перед тем, что видит и что ему еще предстоит увидеть.
Я прячусь за воротами соседнего дома, слежу за ней, кусая губы и сдерживая дыхание. Мне кажется, я слышу ее рыдания. Никак не могу отделаться от мысли, что мы ее обидели, что в городе немало барышень из буржуазных семейств, которые гораздо больше заслуживают такого наказания. Но их мы не стрижем – они не ходят в одиночку по улицам. Сердце у меня разрывается, словно случилось что-то непоправимое. И беспрестанно возвращается мысль, что иначе нельзя, иначе нельзя, иначе нельзя. Время будет судить о наших делах.
Мать снова пила. Филомена сорвала с головы платок и отчаянно всхлипнула:
– Мама, меня остригли!
– Матерь божия, кто же это?
– Мы с Карло ходили в кино. А потом ему надо было в казарму. Я одна шла домой.
– Господи, – выдохнула мать. Глаза у нее были воспаленные, гноящиеся. – На кого ты похожа! Как ощипанная курица. Такие волосы и за год не вырастут. Но за что, Филомена?
– За что, за что? Как за что?! За Карло. Говорят, будут стричь всех, кто гуляет с итальянцами. Сколько лет никто не знал обо мне, пока я была одна, а теперь, когда встретила Карло, нашли меня мигом. Оказывается, я позорю честных людей. Раньше никакого позора не было, все эти годы. Как им не стыдно!.. Ой, что за люди…
Мать растерянно смотрела на нее.
– Хорошо, что не убили, – вздохнула она. – Могли и убить… Они на все способны. Сейчас убивают людей прямо на улице. Среди бела дня. Днем. На ходу. Какое время!
– Что скажет Карло? Да он меня бросит, такую, ощипанную…
– Да, – согласилась мать, – тут ничем не поможешь. Придется тебе несколько месяцев не выходить из дому. Да не уйдет он от тебя, не из-за прически же он с тобой живет. Слава богу, что тебя не убили.
– Сказали, что убьют его.
– Кого?
– Карло.
– Да, – подтвердила мать рассудительно, – очень может быть.
– Мама, что ты говоришь?!
Они сидели у стола и испуганно смотрели друг на друга. Мать сжимала руки и непрерывно шептала:
– Какое время! Какое время!
Отец в этот вечер задержался на собрании общества покровительства животным, поэтому он вошел быстро, бросил шляпу на подоконник и хотел сесть, как вдруг заметил Филомену:
– О! – И через секунду: – Ну, нашла, что искала?
– Ты, – сказала мать, – как ты разговариваешь с собственной дочерью?!
– Молчи, – сухо оборвал он ее. – Ты пьяна.
– Дурак!
– Тихо, я тебе говорю, – еще строже сказал отец. – Ты напилась итальянским вином. Оно еще вам отольется, вспомните меня!
– Ты! – закричала мать. – Ах ты сухой паек, чертов скупердяй, голубятник проклятый! Ты мне купил хоть раз рюмку вина? Был ли ты вообще мужчиной? Ты польстился на мои деньги, а я этого вовремя не увидела.
Она кричала. Кричала все громче и все сильнее багровела. Вдруг она упала на стул и истерично зарыдала. Отец схватил шляпу и пошел к двери. Филомена растерянно смотрела то на отца, то на мать. Потом и она заплакала.
– Это вы во всем виноваты, вы, вы оба…
Я следил за ним. Непрерывно. Я жил в постоянном напряжении, я был убежден, что все произойдет именно так, как я предвидел.
Дарио Вентури был человек нервный, с вечной усмешкой и забавный в своих безуспешных попытках привлечь нас на свою сторону, добиться, чтобы мы его слушали и отвечали на его вопросы. Он уже давно не испытывал удовольствия, выводя на доске: «Amate il pane, amore della casa, profumo della mensa, gioia dei focolari»[15]. Он понял: все это как об стенку горох. Сначала нам показалось странным, что он не переменил своего отношения к нам, несмотря на то, что мы не желали приветствовать его, как было приказано, хотя за это уже исключили целые классы. Мы поняли – его тактика совсем иного рода. Он был уверен, что нас можно взять голыми руками, если подойти с другой стороны. Написав на доске изречение Метастазио: «Madre comune d’ogni popolo è Roma e nel suo grembo accoglie ognun che brama farsi parte di lei»[16], он тут же приписал, взывая к нашему чувству славянской взаимности, что-то из Пушкина или из Прешерна.
Смуглое лицо Дарио Вентури расплылось в торжествующей улыбке, которую он не в силах был сдержать. Но лицо его быстро вытянулось, как только он понял, что и это культурное мероприятие не вызвало у нас ни малейшего отклика. Как будто он обращался к глухой стене. Казалось, класс бесследно поглощал все его слова. Даже скрип половицы на кафедре под его сапогом был выразительнее, чем стихи, которые он декламировал. Гимназисты, не двигаясь, смотрят в тетради, лежащие перед ними. Кое-кто читает под партой бульварный роман, другие списывают домашнее задание по математике. Тихоход, подперев ладонями свою необыкновенно большую и тяжелую голову, спит с открытыми глазами. Бьюсь об заклад, он не слышит Вентури. Если его вызовут, он, как обычно, ответит «не знаю». Будто весь мир потерял для него всякое значение и только в нем еще теплится крохотная искорка жизни. Но ради чего она теплится – этого Дарио Вентури никогда не узнает. Вот он со вздохом устремил свой взгляд на единственного отличника в классе. Дарио Вентури и вправду был достоин жалости. Через толстые стекла очков на него глянули абсолютно невыразительные глаза. Дарио Вентури вздохнул еще раз и подумал, что он никогда не любил отличников. Из них не выходит ничего путного, точно так же, как из дисциплинированных солдат. По его мнению, у молодого человека есть будущее только в том случае, если он немножко и бандит. Поэтому он иногда смотрит на нас с некоторой симпатией и искренним сочувствием.
Вентури начал писать на доске изречение Муссолини о государстве: «È lo stato che educa; cittadini alla virtù civile, li rende consapevoli della loro missione, li sollecita all’unità…»[17] Тут встал Тихоход – он сдвинул вместе с собой тяжелую, австровенгерских времен парту – и сказал:
– Господин учитель, взгляните, что пишут в этой газете. Когда я шел в школу, мне ее дал карабинер…
Он брезгливо держал двумя пальцами правой руки листочки, отпечатанные на стеклографе, будто боялся взять их как следует.
Дарио Вентури не спеша сошел с кафедры. Ему с самого начала показалось, что тут кроется какой-то подвох. Он посмотрел прямо в глаза Тихоходу, но глаза эти были ничуть не менее заспанными, чем обычно. Тогда он взял листки и вполголоса прочел:
«Молодая Словения…»
– Вот, вот, то, что подчеркнуто, – сонно сказал Тихоход.
Дарио Вентури перевернул газету и стал читать строки, отчеркнутые красным карандашом:
«В связи с этим мы должны сообщить, что во 2-й гос. женской гимназии итальянская учительница сорвала со стены портрет Прешерна и швырнула его на пол, назвав при этом учениц изменницами. Она попрекала словенцев тем, что они едят итальянский хлеб… Из разных мест поступают сообщения о том, что итальянские учителя ведут себя безобразно по отношению к ученикам-словенцам. На уроках они диктуют по-итальянски, думая, что ученики их не поймут, отрывки, где оскорбляют достоинство нашей родины и словенский народ».
Дарио Вентури не очень хорошо понимал по-словенски, однако он понял, что это касается и его. Он сложил газету и сунул ее в карман. Он боялся вспылить и поставить себя в смешное положение. На Тихохода он посмотрел так, словно готов был его убить.
– Это сапрещаеца. Не знать?
Тихоход обвел взглядом класс, словно ища поддержки. Пожал плечами и ответил:
– Не понимаю.
– Bene[18], – сказал Дарио Вентури, – садите. – Он хотел опять что-то написать, но в эту минуту зазвенел звонок. Я следил за ним. Он положил мел на стол, закрыл классный журнал, убрал в портфель ручку и две книги, сверкнул черными глазами и твердым шагом направился к двери.
Я рванулся к вешалке, где висел забытый им плащ. Быстро обшарил карманы и вытащил блестящий пистолет.
– Ура! – заревел Тихоход.
Класс поднялся и молча следил за мной.
– Не надо, – крикнул кто-то, – не надо, нам всем достанется!
Но я тем временем уже схватил свой портфель и дождевик и радостно помахал рукой на прощанье.
– Нет, – резко сказал Тигр, – ты поступил неправильно. Ты сделал сразу две глупости. Ты себя скомпрометировал. Теперь тебя будут искать. Ты сделал это без приказа, без ведома организации. А в школе ты нужнее, чем где-либо в другом месте. Если тебя поймают, ты навлечешь опасность на всю организацию и в школе, и в нашем районе. Именно сейчас, когда дело идет к зиме.
Меня это задело.
– Почему я не передал пистолет военному коменданту? Вентури забыл его в плаще. Через пять минут он уже вспомнил о нем и вернулся. Что ж мне, собирать в это время школьный комитет?
Тигр был в бешенстве. Он кусал губы и время от времени поглядывал на Сверчка, который смотрел в сторону и нервно шевелил пальцами. Мы стояли в грязном дворе, куда вошли пять минут назад. В углу двора служанка выколачивала огромный персидский ковер.
– Ты, надеюсь, не думаешь, что я предам, если меня…
– Я ничего не думаю. Я только констатирую то, что может случиться. И вообще, ничего не известно.
Сверчок наблюдал за служанкой. Она была совсем молодая, лет шестнадцати на вид. Она ударяла по ковру в каком-то ритме, будто напевала при этом песенку. Когда она повернулась к нам, я увидел круглое лицо, обрамленное черными волосами, и темные, как у серны, глаза. Сверчок смотрел на нее и, казалось, думал о чем-то своем. Потом он сказал более снисходительно, чем до сих пор:
– Хорошо, ты разобрал пистолет. А теперь что ты собираешься делать?
Я пожал плечами. Об этом я не подумал. Да, об этом я не думал совсем.
– Когда искали меня, – сказал Сверчок с мягкой усмешкой, – почему-то забыли поискать дома. Они бы схватили меня в школе, если бы не Тихоход. Он как раз случайно посмотрел в окно.
– Обдумай свой поступок, – сказал Тигр, – без дисциплины не может быть революции.
– Я сделал решительный шаг, – упрямо твердил я. – Теперь я избавлюсь от колебаний и самообмана. Я сделал единственное, что мог и должен был сделать. Я должен был уйти из дома. Должен. Все равно куда.
– Куда же ты собираешься скрыться?
Это спросил Сверчок, не сводивший своих больших глаз с девушки в углу двора. Я пожал плечами.
– До вечера что-нибудь найду.
– В следующий раз поговорим подробнее, – сказал Тигр и поднял воротник своего плаща. Он не спеша пошел со двора. В воротах, выходивших на заброшенную улочку, он осторожно осмотрелся и исчез.
Сверчок явно не торопился.
– Посмотри, какая хорошенькая.
Я все еще думал, как чертовски мало известно Тигру о том, почему я поступил именно так.
– Интересно, как такая девушка попала в этот грязный двор?
Я посмотрел на него с изумлением. Девушка вдруг обернулась и махнула нам рукой – бегите! На лестнице в противоположном конце двора появился человек в военной форме. В мгновение ока мы оказались на улице. Побежали в разные стороны.
Я обещал прийти к ней, и она меня ждала. Она надела свежий передник и поставила на плиту кофе. Взглянула в зеркальце, висевшее на стене, подумала, что я долго ее избегал и все-таки возвращаюсь. Или не возвращаюсь? Может быть, мне просто что-нибудь нужно? Она прислушивалась к скрипу ступенек, но ничего не слышала. Посмотрела на часы. Похоже, где-то задержался, подумала она. Поймала себя на том, что сыплет в кофе соль. Сердито выплеснула его в раковину, налила свежей воды. Насыпала в мельницу кофе и начала молоть. Ручка не слушалась ее. Наверно, обманул, подумала она. Нет. Скорее всего, передумал. Пошла и открыла дверь кухни, чтобы лучше слышать, как я постучу. Потом присела у плиты, подперла рукой голову и углубилась в свои мысли.
Анна была самая обыкновенная женщина. Она боялась состариться и хотела иметь детей от Поклукара. Потому что он был ни на кого не похожий. Или еще от кого-нибудь. Она была добрая, но эту свою доброту она прикрывала озорством, которое граничило с распущенностью. Или это только так казалось. «Пока кончится война, я состарюсь, – не раз говорила она себе. – Я и сейчас уже слишком стара для него, потому я ему и не нравлюсь. Пришел ко мне за наукой и больше не появляется». Она завидовала Марии, ее молодости, знала, что в этом ее преимущество, ее сила, ее перевес. И тут же объясняла себе самой, что двадцать пять лет – это тоже молодость, молодость и зрелость. «Значит, я еще молодая и мне нужно жить». Когда она узнала, что ее считают любовницей Пишителло, она сначала рассердилась, а потом ей стало смешно. Болваны. Каждый вечер он вышагивает по комнате и пишет письма невесте. «Carissima Giulietta…»[19] Сейчас он получил отпуск. Скоро состоится священный обряд в каком-нибудь мрачном соборе… И вообще это не мужчина. Какое счастье, что он не мужчина. Если бы он был мужчиной, было бы ужасно. Ее бы остригли, как Филомену. А так она будто живет по соседству со старой девой. Господи, до чего все это глупо!
Она встала, подошла к двери, вернулась обратно.
Теперь она была уверена, что я не приду. Когда это все было? В саду у Кайфежа распускались деревья. Она была в хорошем настроении, весна играла в крови. Утром она смотрела, как я сплю. Лицо у меня было бледное. Ей стало жаль меня, ведь я измучился. Она меня мучила нарочно. Играла со мной, как сытая кошка. Ей казалось, что мне это полезно. А ей было приятно.
Она снова встала и высыпала смолотый кофе в кипяток. Сняла туфли на высоких каблуках и надела домашние. Подумала, что в домашних туфлях она кажется слишком маленькой, и сердито сбросила их. «До чего же я глупая, – подумала она, – ведь он меня знает. Какая есть, такая есть». Снова надела домашние туфли и стала прислушиваться. Ей показалось, что я подурнел, вырос и помрачнел. Когда она спросила, почему меня не видно, я пожал плечами. Потом я сказал, что переночую у нее, если можно. «Переночую», – вспомнила она. Переночую, сказал я. Переночевать. Ночлег. «Да, – повторила она про себя, – пере-но-че-вать. А разве так он сказал? Как странно: я его соблазнила и поэтому он теперь меня пожалел». Ей вдруг подумалось, что теперь, если бы я пришел, все было бы по-другому. Она бы вела себя как семнадцатилетняя девочка. А в тот раз она будто обокрала меня. Забралась в мои мечты и замутила их нечистыми помыслами о своем теле. «Почему же нечистыми? Откуда это слово? Разве я недостойна любви?» Она знала, что с моей стороны это была всего лишь вспышка страсти, смешанной с любопытством, с желанием причинить боль той, которая не подпускает меня к себе. «Поэтому он и не появлялся, – говорила она себе, – в его глазах я была гадкой, грязной, шлюхой, которой нужен кто-то, все равно кто. Это было и прошло».
Когда я постучал, она обернулась в замешательстве. Не поверила своим ушам. Я постучал еще раз. В темноте я не мог рассмотреть звонка. Она подбежала к двери и отперла.
– Как ты долго!
– Долго, – пробормотал я. Снял дождевик и повесил его на вешалку вместе с кепкой. Ничего не говоря, вошел в кухню. На плите кипел кофе. Она отставила его в сторону и присела у стола.
– Есть хочешь?
– Нет, Анна, – ответил я, помолчав. Она видела, что я очень устал или чем-то подавлен. – Анна, – сказал я, – ты не думай, что это я к тебе пришел.
Она опустила глаза, сложила руки на коленях и ответила:
– А я и не думаю.
Улыбка вышла нелепая.
– Анна, мне нельзя идти домой. Поэтому я прибежал к тебе. Со мной тут случилась одна вещь. Мне надо убедиться, будет ли меня искать полиция. Вероятность велика. Пока я этого не узнаю, мне нельзя появляться дома. И вообще я не хочу возвращаться домой.







