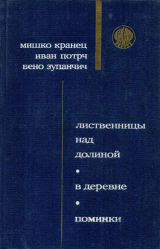
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Annotation
Настоящий том «Библиотеки литературы СФРЮ» представляет известных словенских писателей, принадлежащих к поколению, прошедшему сквозь горнило народно-освободительной борьбы. В книгу вошли произведения, созданные в послевоенные годы.
Поминки
ПЕПЕЛ ПОГИБШИХ СТУЧИТ В МОЕ СЕРДЦЕ…
Бено Зупанчич
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Поминки



BENO ZUPANČIČ
SEDMINA
Ljubljana 1957

ПЕПЕЛ ПОГИБШИХ СТУЧИТ В МОЕ СЕРДЦЕ…
Бено Зупанчич, автор романа «Поминки», принадлежит к художникам слова, в чьем творчестве четко выделяется главная тема. Перефразируя известное изречение легендарного Тиля Уленшпигеля, писатель мог бы сказать, что в сердце его стучит пепел товарищей, погибших в годы партизанской народно-освободительной борьбы.
Как многие писатели его поколения, Зупанчич принес в литературу свой личный опыт участия в партизанской борьбе и трудных лет послевоенного строительства в Югославии.
«Бено Зупанчич родился в 1925 году в городе Сисак, в семье рабочего. С 1935 года живет в Любляне. Во время второй мировой войны был активистом Освободительного фронта[1], пропагандистом в молодежных кружках. Был арестован, сидел в тюрьме, был интернирован. После войны закончил экстерном гимназию и философский факультет в Любляне. Работал вначале журналистом, потом редактором, затем был назначен директором издательства «Цанкарьева заложба». С 1959 года в течение нескольких лет занимал пост министра культуры и науки Социалистической Республики Словении, с 1966 по 1971 год был председателем Социалистического союза трудового народа Югославии, занимал другие общественные посты. В настоящее время – заместитель председателя Скупщины Социалистической Республики Словении», – говорится в краткой биографии писателя.
Видный государственный и общественный деятель, Бено Зупанчич по роду своей деятельности много путешествует, встречается с людьми из разных стран. И при этом ни на один день не прекращает своего литературного труда. В 1951 году он опубликовал первый сборник новелл – «Четверо безмолвных» и другие рассказы. Зупанчич – автор семи романов, нескольких книг для детей, сценариев для кино и телевидения. Плодотворно работает писатель и в жанре актуального политического и литературного очерка.
Нетрудно выделить в многообразном творчестве Зупанчича тему, определившую не только время действия его произведений, но и самый подход к жизни. Это – память о тех, кто погиб в годы народно-освободительной борьбы, будь то герой-партизан, которому поставлен мраморный монумент, или безвестный подпольщик, расстрелянный фашистами под вымышленным именем.
Книги словенского писателя пользуются заслуженной популярностью у него на родине, в Югославии, их переводят за рубежом. В списке издательств, заинтересовавшихся творчеством Бено Зупанчича, – «Фольк унд вельт» из ГДР, чехословацкая «Млада фронта», румынский «Универс». В Советском Союзе после выхода в свет романа «Поминки» на русском языке в 1964 году ознакомило с ним своих читателей и таллинское издательство «Ээсти раамат». Да и в других странах внимание привлек именно этот роман – одно из ранних произведений Зупанчича (первое издание вышло в Любляне в 1957 году).
«…Я описал людей, с которыми был лично знаком… Книга эта – своеобразный скромный памятник товарищам, погибшим в Любляне или позже – в партизанских отрядах…» – говорит Зупанчич в своей автобиографии, написанной для повторного издания романа на русском языке. Эта теснейшая связь между художественным творчеством и непосредственно пережитым, неотторжимость вымышленного от глубоко личного, сочетание задушевности с открытой публицистичностью, сплав лиризма и гражданского темперамента объединяют Бено Зупанчича с такими писателями военного поколения из других республик Югославии, как Мариян Маткович, Эрих Кош, Нада Крайгер. Все они начали с рассказов, пьес, повестей о войне. И хотя потом у этих авторов появились новые темы, опыт военных лет присутствует в самом их отношении к миру. Память о погибших для них священна, и не только потому, что эти люди отдали жизнь за родину. Герои антифашистского Сопротивления шли на смерть во имя новых, гуманных человеческих отношений, во имя социалистической морали. Они утверждали новые принципы человеческих отношений своей жизнью, своей борьбой и самой своей смертью. Пусть они были наивны, пусть чего-то недопонимали, не могли предвидеть, но они были искренни. И – почти все – были молоды.
«Поминки» Зупанчича – памятник молодежи военных лет. В отличие от ряда современных писателей Югославии, анализирующих по преимуществу психологию крестьянства, принявшего участие в народно-освободительном движении (некоторые из этих авторов известны советским читателям – в том числе Мишко Кранец и Иван Потрч, чьи романы вошли в данный том), Зупанчич пишет о движении антифашистского Сопротивления в словенских городах.
Время действия – 1941—1942 гг. Но последовательность эпизодов во времени занимает писателя лишь во вторую очередь. Ему важна не внешняя, а внутренняя логическая связь событий. Важен ход мыслей героев, путь их душевного созревания. Любляна. Сравнительно недавно вошли сюда итальянские части. Главные герои романа – гимназисты старших классов. Книга открывается сценой, которая по законам формальной логики была бы одной из последних: итальянский военный суд в виде особой милости не отправляет на виселицу, а «всего лишь» приговаривает к каторжным работам пятнадцатилетнего паренька, укравшего револьвер из кармана шинели фашиста – преподавателя гимназии. Но суду известно далеко не все. Содержание романа – рассказ о том пути, который менее чем за год прошел Нико, мальчик из мещанской семьи, очень далекой от патриотических настроений, ставший активным участником одной из диверсионных групп Освободительного фронта.
В финале романа писатель как бы возвращается к началу: Нико, спрыгнув на ходу с поезда, увозящего его от родных мест, направляется к партизанам.
Нико, Сверчок, Мария – герои, безусловно, положительные. Сверчка, наверное, даже можно назвать идеальным героем. Но эти категории лишь отдаленно передают отношение автора к созданным им образам. Есть слово «любимые». Зупанчич любит своих героев, он тревожится за этих мальчиков и девочек, гордится ими, порой не соглашается с ними, и спорит, и восхищается вчерашними школьниками, вдруг повзрослевшими и наравне со старшими товарищами вступившими в борьбу за честь и свободу своего народа. Наверное, они не всегда и не во всем были абсолютно правы, эти юные максималисты; они слишком строго судили других, иногда не умели прощать обычных человеческих слабостей, недостаточно доверяли жизненному опыту старших. «Но какой мерой, – говорит писатель в предисловии к своему роману, – измерить поступки человека, если в юные годы на его неокрепшие плечи вдруг обрушилось громадное бремя исторической ответственности?»[2] И сам отвечает: самой высокой мерой нравственной требовательности. Ибо его герои это выдержат.
Невозможно забыть Сверчка – грустного юного мечтателя и философа, отложившего в сторону книги и взявшего в руки револьвер. Деликатный и мягкий в личных отношениях с людьми, Сверчок непоколебим в принципиальных вопросах. История его невысказанной любви к Марии полна поэзии и печали. Словно о ней писал словенский поэт-партизан Матей Бор в стихотворении, названном «Нынче не станет меня»:
Нынче не станет меня,
Но не плачьте вы надо мною.
Нынче, к исходу дня,
Упьюсь тишиною.
…Когда ты к людям пойдешь,
Да будет взор твой лучист,
Как небо меж туч;
Когда ты к людям пойдешь,
Да будет голос твой чист,
Как звонкий ключ.
Когда ты к людям пойдешь,
Каждое слово пусть
Будет как чаша вина.
Разве, спетая наизусть,
Наша полынная грусть
Здесь или там нужна?..[3]
Воспоминание о Сверчке остается с его товарищами, как скупой луч зимнего солнца, упавший на люблянский тротуар за минуту до его гибели: чем холоднее и мрачнее жизнь в оккупированном городе, тем светлее память о друге. Пользуясь правом старшего, Сверчок приказал Нико спасать ценные документы, а сам остался прикрывать его отход, зная, что неминуемо погибнет. Сверчок завещал Нико жизнь, верность общему делу, любовь к Марии… «Передай привет Марии», – назывался фильм, поставленный по роману.
«Поминки» – роман-исповедь, написанный от лица Нико Кайфежа. Между тем первоначальный авторский замысел «Поминок» был иным: рассказ об одних и тех же событиях, чередуясь, вели три героя – Нико, Мария и отец Нико Петер Кайфеж. Постепенно в процессе создания книги на первый план выдвинулся Нико, и роман принял форму его дневника. Очевидно, именно этот герой оказался в конце концов наиболее важным и интересным для писателя. И не только потому, что Нико остался в живых и ему надлежит продолжать дело погибших. Нико Кайфеж дорог автору тем, что его характер складывается на глазах у читателя, тем, что путь его духовного созревания долог и труден, порой мучителен для него самого.
Нико переживает разнообразные и противоречивые влияния. С одной стороны – его отец Петер Кайфеж, «железнодорожный кондуктор на пенсии», как гласит аккуратная табличка, прибитая у входа в скромный домик с палисадником в предместье Любляны. Заботы старика Кайфежа ограничены узеньким мирком хозяйства, семьи и Общества покровителей домашних животных, ревностным членом которого он является уже много лет. Такие потрясения, как вторая мировая война, как оккупация родного города фашистами, проходят как бы мимо его сознания. Единственное, что может вывести из равновесия постоянного читателя газеты «Мелкий собственник», – это нарушение границ его, Петера Кайфежа, крошечного государства. Ничем не отличаются от отца старшие дети – Антон, покорно отслуживший свой срок в старой югославской армии, а после поражения Югославии отсиживающийся дома, и Филомена, охотно принявшая под свой кров итальянского офицера.
С другой стороны – книги, размышления, беседы с товарищами… Да, Нико совсем иной человеческий тип, чем его родные. Но трудно сказать, каким бы он стал, если бы молодость его пришлась на другое время. Если бы не война, не движение народного сопротивления, родившееся в первые же дни оккупации и неуклонно нараставшее, движение, увлекшее за собой Нико и перевернувшее его представления о жизни, о людях, возможно, Сверчок так и остался бы для него лишь забавным гимназистом, который умел шевелить ушами, учитель Тртник – чудаком, а приятель отца носильщик Йосип – добряком, знающим толк в выпивке.
История Нико – история «воспитания чувств» современника Бено Зупанчича, история о том, что́ дало время испытаний молодому человеку. Он рвется прочь от мира своих родителей. Этот мир вспоил его горькой ненавистью. «Надо разрушить эти призрачные мирки, состоящие из домиков, садиков, курятников и голубятен», – думает Нико. Но вряд ли он пошел бы дальше бессильной ненависти к внешним атрибутам мещанства, если бы не влияние друзей по подпольной борьбе. А не вступить в эту борьбу мало-мальски мыслящий молодой человек просто не мог, потому что борьба была действительно всенародной. Город кишит итальянскими и немецкими частями, свирепствует слепой террор, ежедневно хватают и расстреливают десятки заложников, чуть ли не каждый дом – под наблюдением полиции. Так жила Любляна в начале войны. И в те же дни в Любляне регулярно выходила газета Освободительного фронта «Словенски порочевалец», в начале 1942 года появился сборник стихотворений Матея Бора «Одолеем бурю», нелегально печатались и другие книги.
Незнакомая девушка предупреждает подпольщиков о приближающейся опасности, неизвестные люди, рискуя быть схваченными полицией, подбирают раненого Нико и ведут его через весь город, подпольщица, по прозвищу Кассиопея, провозит оружие в коляске своего грудного ребенка, старик Йосип не уступает дорогу итальянцу и гибнет на пороге дома своих соседей… Юноша с душой, открытой навстречу жизни, со склонностью к анализу и к самоанализу не мог не видеть, не замечать этого, не мог не сделать выводов.
Зупанчич показывает и неоднородность движения антифашистского Сопротивления в Югославии, сложность его путей. Примечателен эпизод, когда Сверчок приходит к руководителю городской организации Сопротивления поговорить о Нико, по легкомыслию нарушившем правила конспирации. Не будь этого разговора, возможно, судьба Нико Кайфежа сложилась бы совсем иначе. Доверие товарищей, благородство Сверчка, любовь Марии, помощь незнакомых людей дают Нико силы выдержать тюрьму и совершить побег. И граната, брошенная им на порог родного дома после неудавшегося объяснения с родными, символизирует полный, недвусмысленный разрыв героя с прошлым, со своей средой.
Зупанчич вовсе не сторонник теории неизбежной вражды поколений, схватки «отцов и детей». В его представлении баррикады разделяют людей, способных отказаться от эгоистических побуждений, понять другого, и мещанина, которому мир безразличен или враждебен. «…Все вокруг, весь мир только и ждет случая, чтобы вас облапошить, – утверждает старый Кайфеж, этот, по выражению учителя Тртника, «трагический экземпляр». – Все так рассчитано, чтобы отнять у вас или дом или сад. Если не сразу, так понемногу: сегодня деревце, завтра скотинку… Я это не выдумал, поверьте! И, как полагается, дорого заплатил за науку…» Вот эта человеконенавистническая психология (недаром, по убеждению Нико, его папаша гораздо больше любил животных, чем свою семью) и отталкивает Зупанчича и его любимых героев от мещанства.
Мещанство не только смешно и отвратительно. Оно опасно своей беспринципностью, антигуманностью, агрессивностью по отношению к окружающему миру – утверждает своим романом писатель. И, как не без оснований полагает видный словенский литературовед Франц Задравец, название «Поминки», кроме заложенного в нем высокого смысла – поминовения борцов, погибших за свободу, несет в себе еще одно значение. Писатель хотел бы, чтобы его книга звучала как отходная мещанству – потребительскому отношению к жизни, мелкобуржуазным предрассудкам, умственной и эмоциональной ограниченности, приспособленчеству.
Двойной смысл, заложенный в названии, нашел отражение в художественной структуре романа.
Люди подполья изображены поэтически, с какой-то особой задушевностью. Каждый участник Сопротивления – будь то рядовой боец или бескомпромиссный руководитель, известный под кличкой Тигр, – это целый своеобразный мир мыслей, чувств, стремлений, максимально активизировавшийся в жестоких условиях борьбы, требующих предельного напряжения всех сил. «И, если встречаются два таких мира, это и в самом деле должно стать встречей двух миров», – говорит Сверчок. Да, это люди высоких чувств. Образы национального фольклора, литературы, живописи органически включаются в ткань повествования, становясь неотрывной частью метафорической системы. Парк на окраине Любляны, где назначена конспиративная встреча, напоминает Нико одну из картин Грохара – словенского художника-импрессиониста. «Все трепещет и переливается – зелень, цветы, воздух, солнце. Когда кто-нибудь проходит мимо, кажется, что это проплывает лиловая тень. Щемит глаза от блеска. Город еще затянут дымкой…»
На этом многокрасочном фоне мещане, коллаборационисты, оккупанты точно черно-белые кадры, намеренно вмонтированные режиссером в современный цветной фильм. Изображая внутренне чуждых ему героев, автор резко меняет самую манеру письма: он дает как бы плоскостные, одномерные изображения, переходит от поэзии и задушевности к откровенной насмешке. Так написаны вражеские офицеры, итальянский сержант Карло Гаспероне, мать и сестра Нико, приятель отца – господин с петушиным профилем – «друг птиц», который тем не менее больше любил курятину, чем живых пернатых, и другие отрицательные персонажи.
Роман читается с неослабевающим напряжением благодаря присущему Зупанчичу искусству построения эпизода: каждая композиционно выделенная часть романа представляет собой законченную драматическую сцену, которая могла бы существовать самостоятельно и в то же время органически связана с остальным содержанием.
«Поминки» Зупанчича заслуживают внимания не только как книга о суровых днях войны. В ней, как и в прочих произведениях этого автора, основной предмет размышлений – настоящее и будущее. Все споры Нико и его друзей пронизаны мыслью о том, какова будет новая жизнь, которая начнется после победы над фашизмом. Тигру и Сверчку, стоящим на холме у стен древнего люблянского замка, видится в мечтах словенский Дворец Советов: «Мощный, рвущийся в облака, настоящий великан, вознесшийся над этими приземистыми зданиями в стиле барокко и сецсссиона, над диким сумбуром неровных крыш у подножия Градского холма». С каким духовным багажом придут люди к строительству социализма, удастся ли им сохранить лучшее в себе? Или же верх одержит мещанская стихия с ее жаждой стяжательства, с безразличием к политике, с подспудной тягой к реакции?
Такие вопросы задает себе и Зупанчич. И отвечает вместе со своими героями на страницах «Поминок» – пожалуй, наиболее цельной из его книг. Этот «подтекст» составляет едва ли не самое важное в содержании книги и делает ее интересной сегодняшнему читателю.
Особенности прозы Зупанчича – теплый, лирически взволнованный тон в воспоминаниях о подполье и антифашистской борьбе и резкое, категорическое неприятие мещанской «трясины» – четко проявляются и в других его произведениях. Позиция писателя по отношению к мещанину, «пересидевшему» первые послевоенные годы и вновь показавшему свое «мурло», лишь только наступила относительно благополучная жизнь, абсолютно бескомпромиссна.
В повести «Вечеринка», опубликованной в 1954 году, Зупанчич описывает праздничное застолье, организованное профсоюзом в каком-то люблянском тресте. Рассказ ведется от первого лица – происходящее описывает курьер, бывший партизан, потерявший на войне руку. Здесь явно преобладают сатирические тона; перестраховщик и бюрократ начальник, подлиза и нахал референт, «пишбарышни» из машинного бюро, уставшие от погони за выгодными женихами, красивая девушка, приехавшая из деревни в Любляну и сразу закружившаяся в вихре столичных развлечений… Симпатии автора на стороне другой, пока еще малочисленной группы сотрудников, занимающей оборонительные позиции по отношению к разбушевавшейся стихии хамства, потребительства, откровенного цинизма. Основное оружие положительных персонажей – личная порядочность, доброта, взаимовыручка… Этого явно недостаточно, рассуждает автор вместе со своим героем, подчеркивая в то же время и сложность обстановки, и прочность корней мелкобуржуазной среды, и необходимость найти новые средства борьбы с ней в изменившихся условиях. …Курьер решает вернуться в родное село, хотя понимает, что, говоря военным языком, это будет отступлением. Этот выход вытекает из логики характера, но было бы ошибкой считать его некоей рекомендацией автора. Писатель счел своим долгом поставить ряд проблем, многие из которых остаются открытыми и по сей день, но не преподнес готового решения.
Сатирическому изображению мещанства посвящен и роман «Туман» (1966). Роману «Голубятня» (1972) автор придал форму записок героя, которого он шутливо именует «гуманистом послевоенной формации». Роман направлен против югославского варианта «победоносиковых» с их бюрократическим ражем, фразерством, административными восторгами, с увлечением чисто внешней стороной технического прогресса. Кроме того, здесь, как и в романе «Потрясение» (1971), звучит новая для Зупанчича нота – обращение к социально-психологическим проблемам современной городской жизни. Писатель озабочен тем, что многие вчерашние сельские жители, перебирающиеся на постоянное жительство в город, теряют внутреннюю духовную опору и, воспринимая внешние стороны урбанизации, становятся жертвами морального отчуждения, а в результате – добычей все той же ненавистной Зупанчичу мещанской потребительской психологии.
Значительное место в творческой биографии писателя занимает небольшой по объему роман «Набат» (1970). Речь в нем идет о школьных годах мальчика из рабочей семьи, прошедших в югославском провинциальном городке в тридцатые годы.
Последний по времени написания роман Зупанчича, вышедший в 1974 году, носит символическое название «Гора». Действие его происходит в Любляне в наши дни. Эта книга перекликается с первым романом автора «Поминок». Прежде всего потому, что нравственные категории военных лет служат критерием поступков героя и его окружения. Гора всевозможных недоразумений встает между Петром Добротой и его любимой, мешает их счастью. Автор настойчиво исследует причины, ведущие к духовной разобщенности людей, и приходит к выводу: «мещанские принципы – иметь, приобретать, располагать – должны уступить место гуманистическим – давать, дарить, жертвовать».
Бено Зупанчич – один из тех художников современной Югославии, которые не сторонятся острых общественных проблем и почти всегда решают их на материале сегодняшнего дня. Такие писатели пользуются уважением, их книги вызывают интерес и часто переиздаются. «Гражданская проза Бено Зупанчича излучает веру в то, что борьба за новую этику – ответственнейшая и первоочередная задача художника»[4], – пишет Франц Задравец в послесловии к новому люблянскому изданий романа «Поминки». Творчество Зупанчича питается идеями социалистического гуманизма – в этом его ценность, в этом залог активной общественной позиции писателя. Ибо, как сказал сам Зупанчич в одной из своих публицистических статей, смысл существования литературы в том, чтобы любить, ненавидеть, воевать за человека, за его права, за его правду и чувствовать радость от того, что тело его, и дух, и все его огромное существо приходят в волнение, когда мы говорим ему о человечности.
Наталия Вагапова
Бено Зупанчич
ПОМИНКИ
Картины прошлого проплывали передо мной, как цветные витражи какого-нибудь собора. Там и сям мелькали кровавые пятна, обведенные свинцовой траурной каймой. Бремя подлинной вины я нес один, а то, в чем меня обвиняли, мне было безразлично. Меня ничуть не тронула снисходительность высокого суда. Причин для нее, правда, было немного. Тем не менее адвокат держался великолепно. Председательствующий, седой полковник, был родом из Болоньи. Полковники бывают обычно в годах, этот же находился в том возрасте, когда человеческое самолюбие достигает невероятных масштабов – если только к тому времени не выдыхается окончательно. Не удостоив взглядом своих коллег, сидевших за судейским столом, он пригладил волосы на висках, и грудь его словно сама собой выпятилась. И даже те, кто сидел в дальнем конце зала, смогли разглядеть его многочисленные ордена. Чтобы не думать о себе, я стал думать о нем. Слова адвоката «вечная, непобедимая империя не может и не должна опасаться испорченного юнца, сбитого с толку противниками порядка и справедливости» должны были казаться ему напыщенными, ненатуральными, хотя и звучали неожиданно приятно. Они подливали масла в огонь преданности к «славному отечеству, его тысячелетним культурным традициям, его бесчисленным победам и блестящему будущему». На него они возлагали свои надежды, как возлагали на него свои надежды мы. В понятии «отечество» словно растворялась ценность каждой отдельной человеческой жизни. Прошлую ночь полковник спал, наверно, с какой-нибудь молоденькой третьеразрядной певичкой. Сейчас он был не на шутку удивлен. Глаза его так и говорили: «И кто только заплатил этому паршивому триестинцу, возносящему столь неумеренную хвалу нам, «ветеранам четырех войн, знаменосцам победных боевых знамен, изорванных в абиссинских сражениях, запыленных в битве за Мадрид, выгоревших в греческих атаках?» И в самом деле, вероятно, думал он, на таком фоне смешно было бы принимать всерьез желторотого обвиняемого, не проявляющего ни малейших признаков сообразительности. Полковник, конечно, не мог догадаться, что адвоката нанял отец Сверчка, галантерейщик. И потому, признав про себя, что еще никогда в жизни не слышал столь беспардонной лести, столь изощренной лжи, он решил голосовать за смягчение наказания – за двадцать пять лет тюремного заключения.
Рядом с ним сидел краснощекий майор из Венеции (которую он называл исключительно regina del mar[5]). Это был оригинал, всегда – и сейчас, разумеется, тоже – голосовавший за смертную казнь. Подобное обстоятельство, однако, ничуть не смутило полковника, ибо дело было во многих отношениях недоказанным и неясным, по крайней мере в части, касавшейся насильственной смерти сержанта Карло Гаспероне. Отпечатки пальцев, найденные на его бумажнике, из которого убийца по непонятным причинам вытащил только документы, никоим образом не совпадали с моими. И напрасно моя сестра, Филомена Кайфеж, любовница убитого, твердила, что его убил именно я. Ее заявление и показания были не чем иным, как только подозрением и домыслами. Остальные пункты обвинения были еще менее доказаны и носили общий характер. Но все же в обвинении был пункт, который один мог меня погубить. Я не сумел скрыть пистолет учителя итальянского языка Дарио Вентури, как и вообще факт незаконного ношения оружия. Знакомства с Давидом Штейнером, alias[6] Сверчком, я, правда, не мог отрицать, ибо мы учились в одном классе, но зато я категорически отрицал свое участие в битве перед памятником Трубару у входа в сад Тиволи, – в той самой битве, где, разумеется, одержали победу доблестные итальянские офицеры и солдаты. Мне, правда, предъявили фотографию, на которой мы со Сверчком были сняты вместе у дворца Тиволи. Ее представил следствию Повренц Смех, по прозвищу Демосфен, который, однако, не знал ничего определенного о смерти Карло. Хотя он склонялся к тому, что Карло убил Алеш Доленц, подпольщик (давно уже непонятным образом ускользнувший от военных властей), сын некоего носильщика, которого, обороняясь, убил покойный Карло Гаспероне, на том самом месте, где позднее и его настигла безжалостная смерть. Вообще Демосфен с готовностью подтвердил только ту часть обвинительного заключения, где речь шла о чрезмерной склонности люблянской молодежи к коммунизму и о пистолете Дарио Вентури.
Все это, наверно, в то утро представлялось седому полковнику делом обычным и почти не связанным с таинственной смертью Карло Гаспероне. Скорее всего, он с тихой нежностью думал о прошедшей ночи. И хотя возраст не позволял ему предаваться иллюзиям, он втихомолку лелеял мысль о том, что девушка отдалась ему из любви или если уж не из любви, то по крайней мере из горячей симпатии, которую он почитал непременной сопутницей уважения. Во всяком случае, необычная доброта заполняла в то утро его сердце. Он улыбался майору, ибо знал, что все равно его, полковника, мнение одержит верх. Так и получилось. Краснощекий майор из Венеции стал еще краснее. Речистый триестинец, который старался склонить их на свою сторону, так и просиял. Полковник снисходительно улыбался, наблюдая его торжество. То, что я отрицал некоторые пункты протокола, ничуть не смущало полковника, как не смутило его мое заявление о том, что меня избили в тюрьме. Обычное дело. Возможно, ему пришла в голову мысль о человеческой непоследовательности. Идти убивать человека, а потом на суде выражать, так сказать, официальные претензии по поводу пинка, данного тебе карабинером в порыве праведного гнева. Смешно…
Я сидел перед ними, не совсем понимая, зачем они собрались, почему уделили мне столько своего драгоценного времени. Порой мне казалось, что судят не меня, а кого-то другого, я же всего-навсего любопытный свидетель. Но я продолжал думать о них, о себе, о событиях, предшествовавших тому памятному дню. Я боялся только увидеть где-нибудь в глубине темного зала отца. Филомену я видел. Она была все еще в трауре, заплаканная, но уже не столь твердо уверенная, что ее любовника убил именно я. Я пытался понять ее, отвлекшись от мыслей о том, что меня ожидает. Седой полковник почти не обратил на нее внимания, зато краснощекий майор записал ее адрес в черную записную книжку. Я покраснел. Наверняка он подумал, что неплохо бы с ней переспать. У него была навязчивая идея – он считал себя превосходным утешителем женщин. Когда наконец пришла его очередь высказать свое мнение, его вдруг обуяли сомнения: а что, если все это лишь комедия, ловко инсценированная бог знает с какими целями? И, чтобы избежать ответственности, он проголосовал за смертную казнь, забыв, что так он поступал всегда, опасаясь, как бы суд – а он знал суды – не добрался до существа вопроса. Мое дело, безусловно, было подозрительным. Разве не заявил мой отец, Петер Кайфеж, на допросе в тюрьме, что смерть Карло Гаспероне – это перст божий, кара за незаконное сожительство сержанта с его дочерью! Последняя же, мол, никогда не отличалась порядочностью и в этом смысле пошла в мать, которая всегда предпочитала травку за кустами брачной постели.
Вероятно, старик показался майору слишком уж ненормальным, а дело – еще более сомнительным из-за снисходительности полковника. Ведь это неспроста! Как бы не пришлось за это расплачиваться дорогой ценой! Но кто будет платить? Он бросал пытливые взгляды на полковника, пытаясь понять, что за всем этим кроется. Но лицо полковника было в то утро как закрытая книга с ироническим названием.
– Нет, мне нечего добавить. Подавать на апелляцию я не собираюсь.
Я не проявляю ни малейших признаков удивления или радости. Приговор вступает в силу. Карабинеры, выводившие меня из зала, шли враскачку, как матросы. На улице сияло солнце. Седовласый полковник, наверно, подумал: «Porco dio[7], какая погода!», но тут же вспомнил, что его ожидает разбор еще одного дела – группы саботажников, которые заминировали или позволили неизвестным лицам заминировать железнодорожное полотно где-то в провинции, в сельской местности, название которой невозможно выговорить. И вероятно, на сей раз он вынужден будет уступить этому краснорожему венецианцу, жирной трусливой свинье, которая боится всего на свете, в том числе и женщин. Да, в такой чудный день это противно.
Парк перед зданием суда зеленеет. На клумбах – цветы. Каменный Миклошич[8] хмурится. Он наблюдает суету перед дверьми суда, людей входящих и выходящих и словно вопрошает: «Что это? Или проклят этот дом, прокляты эти люди, что входят и выходят?» Люди же, идущие по его улице и по другим улицам, избегая оглядываться на этот проклятый дом, не поднимают глаз к каменной голове Миклошича.
Неделю спустя меня посадили в поезд, который следовал куда-то в Италию. Я совсем не думал о предстоявших мне двадцати пяти годах жизни, в мыслях у меня был год минувший, а с ним – то, что еще не прошло, что, быть может, вообще никогда не пройдет. Пытаясь утешиться, я сказал себе: ведь если за этот год что-то изменилось, если что-то изменится за ближайшие несколько лет, значит, до конца войны в мире произойдут перемены. Многое было позади (то, что меня ожидало, выглядело совсем иначе), и я видел прошлое, как видишь пейзаж через оконное стекло – несколько искаженным. Я видел людей, их лица, их души, видел себя самого как бы со стороны, и все это навалилось на меня неуменьшающимся бременем. Заковали меня вместе с каким-то кондуктором с шишенского вокзала, тоже осужденным на долголетнюю каторгу. Был он коренастый, грубый, небритый и нестриженый, с кудрявой черной гривой. В этот ранний утренний час стужа стояла зверская, но рубашка на моем спутнике была распахнута, хоть он и не переставал жаловаться на холод. Почему – я узнал позже, когда мы с ним начали препираться.







