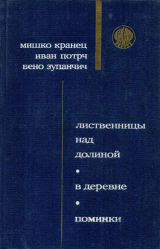
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Пуля попала в рот. У Сверчка больше не было лица – ни веселого, ни печального. Остались одни глаза, темные и спокойные, и они все еще смотрели не мигая. Один из солдат судорожно отвернулся, офицер хрипло закричал на него. Солнечные зайчики прыгали в стеклянной шапке фонаря на верху колонны. В ней отражались искаженные до неузнаваемости фигуры людей.
Я бежал, а в голове у меня стучала мысль, что Сверчку не спастись, что ему вообще не спастись. Я шептал какие-то слова и чувствовал, как у меня сохнут губы, а слезы застилают глаза. Навстречу попадались какие-то люди, они бежали с испуганным видом. Дураки, ругал я их про себя, куда вы-то несетесь? А вдруг закрыт железнодорожный переезд? Но в это время какая-то женщина прошла через пути. Я засмотрелся на ее синий плащ и, когда она остановилась, озираясь, налетел прямо на нее. Она завизжала как резаная. Чертова тетка. Звуки выстрелов преследовали меня, как дурные вести. Сверчок держится. Он прикрыл меня, дал мне время убежать, а его прикрыть некому. Не надо было нам идти через город. Не надо было Тигру его посылать. А теперь его больше не будет. Меня опять охватило желание швырнуть портфель и вернуться. Нет, сказал я себе, у меня всего семь патронов. Я добежал до поворота на Эрьявчеву и свернул на нее, потом устремился по Левстиковой, туда, вперед, к Табачной улице. Дома на Табачной были только с одной стороны, на другой росли каштаны, вот кусты, забор и за ним фабричная стена. Я огляделся и остановился. Ни души. Воскресный день. Люди отдыхают. Я забрался в кусты и сел, прислонившись к стволу каштана. Достал пистолет и осмотрел дуло. Оно потемнело от выстрела. Скорее всего, я его оцарапал, подумал я, а Сверчок и вовсе промахнулся. Сверчка больше нет. Вдруг все завертелось вокруг собственной оси. И я полетел спиральными витками с головокружительной высоты.
Услышав голоса, я очнулся. По улице шли двое: мальчик и девочка. Оба были в резиновых ботиках – я слышал, как они шлепают по мокрому асфальту.
– Он сюда побежал, – сказала девочка.
– Может быть, он ранен, – сказал мальчик. – И за ним, наверное, гнались итальянцы.
– А мама велела нам скорее идти к тете, – боязливо напомнила девочка.
– Тихо, дурочка, – сердито ответил мальчик. – Молчи, будто ничего не знаешь.
Они остановились на краю тротуара, вглядываясь в кусты.
– Была бы с нами собака, – сказал затем мальчик, – мы бы его нашли в один миг. Вдруг ему надо помочь. Надо помогать нашим.
– А какие это наши?
– Наши? Вот глупая, ну не солдаты же!
Они постояли еще некоторое время. Мне было жаль, что я их не вижу. Потом они убежали. Я услышал, как прошлепали ботики по мокрой земле.
Затем я почувствовал, что лежу на снегу. Я распахнул рубашку и начал ощупывать себя. Ноющая боль разлилась по всему телу. Я выгнул руку и стал искать платок. Лоб у меня был покрыт холодным потом. Я, пожалуй, не смогу сесть. И неизвестно, смогу ли я встать. Сейчас уже поздно. Я как загнанный, подстреленный зверь. Придется подождать, пока стемнеет. Да, скоро стемнеет. Боль усилилась. Я пытался угадать, куда я ранен. Нельзя, нельзя, говорил я. Если я начну себя ощупывать, я весь измажусь кровью. Я с самого начала знал, что ранен, хоть и отмахивался от этой мысли. Подтянув коленки к груди, я положил на них голову. Перед глазами заплясали лиловые видения из незнакомого мне мира. Сам не знаю, как и почему пришло мне на память печальное стихотворение, которое я когда-то читал: «Невольник на галерах греб…» Я брежу, смутно подумалось мне.
Скудный свет, едва различимые голоса. Они были где-то совсем рядом, приглушенные и встревоженные. Я воспринимал их лишь частью своего слуха, другая прислушивалась к чему-то другому, куда более важному, клокотавшему во мне самом. Бессознательно я все еще сжимал в руке беретту. Один голос был женский – глуховатый ласковый альт, другой – мужской, хриплый – показался мне суровым. Зачем они мне мешают? Мне ведь так хорошо.
– Ну что он, жив, дядя?
– Вроде жив.
– Значит, дети не ошиблись.
– Мадонна, но что мы с ним будем делать?
– Он же замерзнет!
– Может, его перенести к нам?
– К вам? Чтобы твои старики окончательно лишились рассудка от страха?
– А сможет ли он идти? Дай мне платок!
– На.
– Подойди-ка сюда. А Милка стоит на страже?
– Да, да. Патруль сюда не заглянет. Здесь слишком темно.
– Может забрести какая-нибудь парочка…
– Дядя…
– У него револьвер в руке. Держи эту руку.
– Потри ему лицо снегом. Может, он придет в себя.
– С ним портфель. Набитый портфель. Бог знает, какого сатану он там таскает. Ирена, дай мне спички!
– Что ты, не зажигай!
– Не кричи. Молодой совсем. Весь в крови.
– Оботри его. Подожди, давай я…
– Ирена, а если он сможет идти?
– Разбуди его.
– Эй, товарищ, просыпайся, черт побери, а то подохнешь!
Я почувствовал, как меня трясут. Острая боль пронизала с головы до ног. Машинально я поднял руку с пистолетом. Если бы незнакомец ловким движением не вырвал его у меня, я бы выстрелил.
– Знаю я эти штучки… Ирена, возьми-ка спрячь, завтра мы за ним придем. Хотя нет, давай сюда. Здесь его кто-нибудь найдет.
– Эй, товарищ, ты идти можешь? Я тебя отведу домой или куда надо.
Я почувствовал на лбу маленькую женскую ладонь.
– Дядя, у него жар.
– Ну а что у него еще может быть? Корь? Возьми портфель!
Он опять потряс меня.
– Слышишь, портфель возьмем с собой. Говори, куда тебя отвести?
– Портфель, – прошептал я.
– Да, да, портфель. Ты лучше скажи, куда тебя отвести.
Щеку мне защекотали волосы. Незнакомец наклонился, чтобы лучше расслышать ответ.
– К Марии, – прошелестел я.
– К Марии? Чтоб тебе пусто было! Да он не в своем уме, Ирена! Мне это уже действует на нервы!
Он опять наклонился ко мне.
– Куда к Марии? Улицу скажи, гром господень!
– Дядя, попробуем поставить его на ноги.
Она взяла меня под руку, подняла и прислонила к каштану.
– Ну как? Пойдешь? Ты ведь не сахарный. Ну-ка, ступай!
– Сейчас, – зашептал я. – Сейчас.
Колени задрожали, меня тошнило.
– Далеко?
– Угу.
– Дядя, не утомляй его. Давай его поведем. Скоро уже полицейский час.
– Откуда я знаю, куда ему надо? И что он тут несет.
– Милка!
– Тсс!
Я почувствовал за шиворотом снег, кто-то растер мне снегом лицо.
– Ну, теперь пошли, Ирена. Милка пусть идет впереди. Далеко впереди.
– Не беспокойся.
– Наверно, он с Триестинской.
– Нет, – забормотал я, – нет. – С трудом я прошептал адрес.
– Видишь, – воскликнул он, – все-таки сказал, гром господень! Пошли! Пойдем через Триестинскую!
Я шагнул. И вдруг я почувствовал к ним полное доверие. При свете фонаря взглянул на спасителей. Девушка была невысока ростом, крепкая, у нее были темные волосы и большие наивные глаза, испуганно и с удивлением глядевшие с худенького, бледного лица. Мужчина был пожилой, редкозубый, с взъерошенными волосами. Сухощавый, с грубоватым лицом и с сильными руками. Он вдруг неловко погладил девушку по голове.
– Видишь, Иренца, идет!
– Ох, – вздохнула девушка.
Еще одна девушка шла впереди. Я видел ее – высокая, стройная, модно одетая, она резко отличалась от этих двоих; она шла, кокетливо покачиваясь, в туфлях на высоких каблуках.
– Идет, идет, какого ж черта ему не идти. Ну а теперь ты немного отстань от нас. Если что случится, ты спрячь этот портфель. Бес его знает, что там в нем.
– Не беспокойся, дядя.
– Ну, иди сзади, слышишь? И ничего не бойся. В худшем случае подстрелят, другого ничего не случится.
– Ох, – опять вздохнула девушка, однако не отставая ни на шаг.
Филомена стояла у светлого пятна серебряного зеркала и приглаживала щеткой волосы, пристально вглядываясь в свои глаза. Лицо ее с короткими волосами стало совсем детским, наивным и слегка озабоченным.
«Мне идут короткие волосы, – думала она. – К весне будет хорошо». Затем обе Филомены нагнулись, будто заглядывая друг другу за вырез кофточки, в мраморную ложбинку, где, как им казалось, всегда должна находиться кудрявая голова Карло Гаспероне. Потом обе отвернулись и посмотрели друг на друга через плечо. Как будто собирались в оперу. В движениях обеих женщин чувствовалось то внутреннее пресыщение, которое легко и быстро переходит в жадность.
Мать, обметавшая потолок в передней, время от времени заглядывала в комнату. Дверь была открыта, потому что в передней было темно, как в туннеле, где из экономии не повесили фонаря. Мать увидела, что она смотрится в зеркало и улыбается с довольным видом. Это большое зеркало с двумя ящичками для туалетных принадлежностей Филомена купила сама – отец терпеть не мог зеркал. Он считал, что в любом зеркале скрыт сатана-искуситель. Сам сатана-искуситель, по его мнению, скрывался также в каждой женщине. А уж если они встретятся в зеркале, тут жди беды, неизбежной и непоправимой. Мать вспомнила о другом зеркале, не четырехугольном, не серебряном, как это, а овальном, в деревянной раме – в ней были вырезаны странной формы розы эпохи Сецессиона, сплетенные в венки, а под ним столик с доской розового мрамора, похожего на кусок колбасы. Оно было старое, кое-где облупившееся, и поэтому блеск у него был не серебристый, а скорее золотистый. Оно придавало коже непривычный оливковый оттенок, осязаемый, теплый и соблазнительный. Оно оживляло сияние глаз и придавало особую привлекательную матовость груди, никогда не видевшей солнца. Когда-то она стояла перед зеркалом, как стоит сейчас Филомена, и всматривалась в него с болезненным любопытством и мстительным наслаждением. В комнате было темно, потому что она задернула занавеси. Отражение в зеркале было незнакомым – диким и беспокойным, как пойманный зверь, посаженный в клетку. Когда она отходила, ей казалось, что она выходит из темноты и вдруг начинает светиться, точно разгоряченная кровь зажигается у нее внутри. Это была необычная игра со страстью, с волнующейся кровью, с манящим ощущением греховности, с ожиданием недосягаемого. И вдруг кровь застыла у нее в жилах. Кто-то неподвижно стоял у нее за спиной. Кто – она не могла рассмотреть в темноте, а обернуться не решалась. Она только чуть-чуть отодвинулась, и в это время послышался звон. Она не заметила, как и отчего, но ее отражение, в которое она всматривалась, вдруг разлетелось на тысячи мелких кусочков и со звоном поползло на пол. Осколки брызнули в волосы, в лицо, посыпались по рукам и ногам, по платью, как будто зеркало рассердилось и в гневе обдало ее сверкающим дождем. А там, сзади, стоял, сжав кулаки, отец в синем фартуке, и, когда он заговорил, его всегда покорный и преданный голос звучал хрипло, разъяренно: «Ну а сегодня ради кого ты любуешься?..»
– Мама, ты слышала?
– А что мне было слышать?
– Карло. Ты не слышала, как он шумел?
– Нет.
– Правда не слышала? Он совсем как безумный. Бродил по дому и искал убийцу.
– Какого убийцу? – удивилась мать. – Ведь он сам убийца.
– Какого? – угрюмо повторила Филомена и посмотрела на мать. – Своего. Наверно, ему приснилось, что его хотят убить.
– Да его и вправду могут убить, – сказала мать.
– Господи, мама, что ты опять несешь? – Филомена с ужасом обернулась.
– Но ты же сама говорила, что ему угрожали!
– Ну, когда это было, – пробормотала Филомена, стараясь сохранить небрежный тон. – Когда это было!
– У тебя еще и волосы отрасти не успели. – Мать бросила на нее ласковый взгляд, будто хотела сказать: «Ну-ну, утешайся!»
– Знаешь, – продолжала Филомена, опять обернувшись к зеркалу, – сегодня ночью я услышала, что кто-то бродит на лестнице. Но это не отец. Я встала, приоткрыла дверь и выглянула в коридор. И что я вижу? Карло, в одних кальсонах, в ботинках на босу ногу, пробирается по коридору, вытянув руку с револьвером. Глаза у него совсем как у бешеного. «Что ты собираешься делать, Карло?» – спрашиваю я его. Он вздрогнул и смотрит на меня, будто не узнает. Потом руку с револьвером опустил и говорит, что слышал, как кто-то ползает по дому. «Может, это старик», – говорю я ему, а сама знаю, что это не он. «Нет, – отвечает, – это не старик, старик спит. Я знаю его походку. Я убью его, если поймаю». – «Отца убьешь?» – спрашиваю. «Нет, – говорит, – того…» Мне стало страшно от этого разговора. «Тебе померещилось, Карло, – говорю я ему, – ты вчера слишком много выпил. Вот тебе и снятся ужасы. Кто может ночью забраться в запертый дом?» – «Все могут, – как крикнет, – каждый день в строю кого-нибудь недосчитываемся. Но я им еще покажу!» Повернулся и заковылял в свою комнату.
– Если с ним что-нибудь случится, – сказала спокойно мать, – надо будет посмотреть его вещи, прежде чем их перероет кто-нибудь. Если не мы их возьмем, заберет кто-нибудь другой.
– Мама! – воскликнула с упреком Филомена. – Неужели и ты сошла с ума! Ты как будто осудила его на смерть.
– Нет, – сказала мать, оглядывая переднюю. – Не я его осудила. Кого я могу осудить? Его осудили другие. И я тебе скажу, что добром он не кончит. Да что с тобой, ты разве не видишь, что делается? Каждый день их убивают. Одного на Виче, другого в Шишке, третьего – у самой канцелярии бана, четвертого – у дверей собственного дома. Среди бела дня. Убили Эмера – говорят, он был гестаповец. А что им стоит прикончить твоего петушка? Потом – Вранкара, ты разве не читала? В тот же день в Гореньской – десять человек. Говорят, перебьют всех осведомителей…
– Но, мама, Карло ведь не осведомитель! – Филомена смотрела в зеркало с отчаянием, не видя себя.
– Конечно, не осведомитель, но иностранец. И он убил Йосипа.
– Ты знаешь, что сделал он это не нарочно, он защищался…
– Не болтай зря. Ведь Йосипу было за шестьдесят…
– Но чем виноваты солдаты. Они должны выполнять приказы.
Мать поморщилась и тряхнула метелкой.
– Это все равно, – мрачно ответила она. – Кто их будет спрашивать? Ну убьют его не за Йосипа, так за то, что он иностранец. Они ведь убивают наших. Совсем недавно расстреляли шестерых. И я тебе скажу, что стрелять в связанных людей – не бог весть какая доблесть.
– Они были приговорены, – пробормотала Филомена.
– Эмер тоже был приговорен, – ответила мать.
– А что, если это Нико приходил ночью? – воскликнула вдруг Филомена.
– Нико?
– Да, Нико.
– Но разве он не в тюрьме? – Мать оперлась на метелку.
– Ну что ты!
– А старик сказал, что его посадили.
– Это неправда. Антон говорит, что его видели на улице. Вечером.
– Антон?
– Да, Антон. Антон его не любит, – нахмурилась Филомена. – Антон за какой-то легион, за короля, за Михайловича.
– Недавно я сожгла у Нико какие-то бумаги. Какой он шум поднял!
– Только у него теперь черные волосы.
– У Нико? Черные волосы?
– Да, совсем черные. И очки.
– Ох, – вздохнула мать. – Ты так говоришь… – Она с удивлением смотрела на дочь. Филомена была взволнована. Подойдя поближе к матери, она испуганно спросила:
– Но ты ведь не думаешь, что Нико может его убить? Карло?
Мать сердито пожала плечами.
– Глупости. Как я могу знать? А я его тоже видела, но мне он показался похожим.
– Где?
– Да все равно, – осторожно сказала мать. – Я подумала, отец знает, где он, только не хочет говорить.
– Нет-нет, – качала головой Филомена, – этого не может быть. Они никогда не были дружны. Он его не любит. И Нико не любит его.
– Он никого не любит, – сказала мать. – Как отец. В него пошел.
– Мне страшно, – тихо сказала Филомена. – Карло иногда приходит из казармы совсем как помешанный. По ночам его мучают кошмары. А теперь еще Нико станет пугалом в доме. На Карло этот страх накатывает время от времени, ни с того ни с сего. Если б он добился, чтобы его перевели в Италию, я бы поехала с ним. Даже на край света. Тут он совсем с ума сойдет.
– И мы тоже, – равнодушно сказала мать, – мы все сойдем с ума.
Я в жару. Мне кажется, меня обсыпали горячим пеплом, я задыхаюсь. Ко мне слетаются разорванные видения, смутные, бессмысленные. Они не приносят мне ни облегчения, ни отдыха. Из глубин какой-то бездны приходят ко мне чередой люди, знакомые и незнакомые, живые и мертвые. Лица у всех – как маски, застывшие с выражением ужаса. Один за другим проходят они мимо высокой стены из розового кирпича, на которой я хотел написать очень много, а написал лишь буквы ее имени. И они все еще там, красные буквы, а я тянусь, стараюсь взглянуть через них, узнать, что за этой проклятой стеной, только я этого никогда не узнаю, потому что она теряется где-то там, в небе, а оно глубокое, бесконечное, на нем висят, словно украшения, острые, беспокойные звезды, а Млечный Путь сияет чистотой, будто его только что подмели. И всё стена, стена, и никогда мне не заглянуть за нее, даже сейчас, когда мне кажется, что я вот-вот коснусь головою звезд. Они холодные и противные, они пускают мне в глаза ледяные лучи, они вызывают озноб и ощущение внутренней пустоты, и мне нечем ее заполнить. Откуда-то взялся Тигр. Он с удивлением рассматривает красную надпись, оборачивается ко мне и спрашивает прокурорским тоном:
– Что это ты там написал? Почему не написал «Да здравствует святая троица»?
На такой вопрос ответить невозможно.
– Ты что, думаешь, революция – игра? Ты играть собираешься?
Я пытаюсь что-то сказать, открываю рот, но сам не понимаю своих слов.
– Человек, находящийся на службе революции, – говорит строго Тигр, – не может не знать, почему он поступил так, а не иначе.
Вдруг откуда-то появился Сверчок, на голове у него берет, руки в карманах. Он насвистывает песенку, которую я много раз слышал именно от него:
Птички, я вас спрошу,
Скоро ли будет весна,
Скоро ли снова придет
Зеленая весна.
Он остановился, перестал свистеть и сказал, не вынимая рук из карманов:
– Это я написал.
– Ты? – удивился Тигр.
– Я.
– Ты разве не читал…
– Читал, читал, – сказал Сверчок, – и еще кое-что читал, милый Тигренок.
– Как это? – спросил удивленно Тигр.
– Как? – повторил серьезно Сверчок и пошевелил ушами. Так он делал еще в гимназии, и всегда было ужасно смешно.
– Ты меня обижаешь, – сказал Тигр.
– Ну и обижайся, – ответил Сверчок и засмеялся. – Я люблю Марию. И так как я не решался тебе сказать об этом, я написал на стене. А что? Мальчишки всегда так делают. Я не дописал ее имя – мне патруль помешал.
Стена вдруг исчезла. Исчезли и Тигр со Сверчком. На мгновение все потонуло в черной бездне боли. Когда стена появилась вновь, перед ней стояла Анна. Она посмотрела на буквы, заломила свои полные руки, будто не зная, заплакать или засмеяться, и растворилась, как укоряющее воспоминание. Потом возник отец. Не обращая ни на что внимания, не глядя на стену, он держал руки в карманах. Перед ним, подняв хвост, неслышно крался кот Эммануэль. Глаза у него были серовато-желтые, в крапинах. Меня охватило горькое чувство, подобное ощущению вины, несправедливости, причиненной кому-то давным-давно, но время от времени надолго и больно всплывающей в памяти.
– Отец! – позвал я его.
Старик остановился и оглянулся, не видя меня.
– Кто меня зовет?
– Я.
– Я тебя не знаю, – сухо сказал он. – Будь ты проклят. Я не возьму тебя в ковчег, когда наступит всемирный потоп.
Эммануэль нетерпеливо замяукал, и все исчезло.
Я хочу открыть глаза, чтобы избавиться от бешеного водоворота красок и света, врывающегося в мир моих снов, и в то же время сознаю, что все это напрасно, хочу закрыться руками, но они меня не слушаются. Мне нестерпимо хочется пить, и я вижу пенистые потоки воды, с шумом срывающиеся с крутых скал в зеленую долину. Неумолимый, острый как бритва нож раздирает мне внутренности. Когда это прошло, я увидел Тихохода. И здесь мне стало немного легче.
Мы с Тихоходом шли в церковь св. Якова за свечами. Из свечей и сурика мы готовили что-то вроде красного мела. Его невозможно стереть со стен. Дело было летом, к вечеру. На крыше церкви ворковали влюбленные голуби. В церкви было совсем темно. Во мраке, как светлячки, мигали лампадки у алтарей. Шаги приобретали особый звук, торжественный и угрожающий. Особенно мои, потому что Тихоход был в туфлях на резине, когда-то синих, а теперь окончательно выцветших. Когда наши глаза стали привыкать к темноте, из глубины с главного алтаря выплыли блестящие, как воск, два ангела работы Роббы[24]. Тихоход остановился посреди церкви, глухо чихнул и сказал:
– Еще насморк тут заработаешь.
На первой скамье я увидел старушку, которая, стоя на коленях, молилась. Тихоход показал на нее пальцем.
– Погоди, сейчас я разыграю роль причетника. – Он пошел как только мог тихо, но решительно, прямо к алтарю. Смешной, неуклюжий, лохматый, как всегда заспанный – настоящий причетник. У ступеней алтаря он опустился на колени, точь-в-точь как это делают причетники, привычно и небрежно. Потом – еще раз, войдя на помост. Старушка подняла голову и посмотрела на него. Он выровнял покров, поправил цветы в стеклянной вазе и оглянулся – будто бы посмотреть на лампадки. Затем начал собирать свечи – не спеша, осторожно, потом взял их под мышку и спустился вниз, будто бы посмотреть, все ли в порядке в боковых алтарях. Уже у самого выхода мы разделили свечи и завернули их в три свертка. Одна – самая красивая, самая большая и самая толстая – при свете дня оказалась деревянной. Сдерживая смех, мы спрятали ее за дверь и вышли из церкви. В парке нас ждала Звезда – маленькая черноволосая семиклассница с мелкими зубками, которые чуть-чуть впивались в нижнюю губу. Тихоход, не говоря ни слова, отдал ей самый маленький сверток, а потом сказал:
– Слушай, Звезда, знаешь что? Когда в следующий раз придешь за листовками, захвати хоть портфель, если уж не рюкзак. Думаешь, в нашем районе существует какое-нибудь там мелкобуржуазное производство? Завтра я тебе сам принесу.
Звезда понимающе улыбнулась и пошла по Флорианской улице, а мы двинулись через мост св. Якова и затем по Цойсовой.
– Слушай, – заговорил Тихоход. – А знаешь, эта Звезда мне очень нравится, хоть она и похожа немного на кошку. Знаешь, она не так уж и глупа, в общем, я ей сказал: мы с тобой товарищи, зачем все усложнять, давай крутить любовь, и никаких разговоров. Я не люблю церемоний, еще меньше я люблю ждать, это все для буржуев, которым делать нечего, а мы с тобой по-умному договоримся – и аминь. Понимаешь, она мне в самом деле нравится, хоть у нее зубы, как у белки. И в общем это я ей сказал на полном серьезе, чтоб ты знал. Почему бы и нет, черт подери? Мы уже не дети, чтобы нам играть в кошки-мышки. А она расхохоталась и сказала, что любит, подумай только, любит кого-то другого, какого-то Милана или что-то в этом роде. Ты знаешь хоть одного Милана? Все Миланы, которых я знаю, проходимцы. А я что, сказал я ей, я что – воск? А?
Он не на шутку разволновался и даже с трудом переводил дыхание – он редко говорил так много.
– И я всегда давал ей свечи, хотя это и пойдет не в наш район, а в их. Я дам ей и листовок, я их уже напечатал, как мне сказали, три ночи печатал как бешеный. Я ходил с ними резать телефонные провода – чик, чик, – я носил им «Порочевальца». Что, не веришь? Почему ты мне не веришь? Я дал ей пять пачек «Ибара» для брата, он уже полгода сидит, а посылать им нечего. Она любит кого-то другого. Свинство, скажу я тебе. Самое обыкновенное свинство. Я пока еще ей этого не сказал, но скажу при первом же удобном случае. Это бессовестно. Так не делают. Я купил ей красивый гребень, вернее, Сверчок мне его принес. Это для волос, сказал я, а то они у тебя вечно рассыпаются по плечам. А она улыбнулась и сказала, что Милану это нравится. Может, ты знаешь какого-нибудь Милана? Нет? Я ей не позволю делать из меня дурака. Что это такое? Как ты думаешь? Я тебе рассказывал, как я с ней познакомился? Нет? Меня послали что-то ей сказать насчет брата, который передал письмо из тюрьмы или что-то в этом духе. Мне сказали улицу и номер дома. Да, дом, говорят, номер 23. Звоню, стучу, спрашиваю – никто в доме ее не знает. Я, разъяренный, вышел на улицу и увидел рядом с домом 23 еще один, на котором был номер 23-а. Ага, думаю, это здесь. Облазил весь дом от подвала до чердака – нет никого. Я весь взмок, серьезно, дома-то как-никак четырехэтажные. Выхожу на улицу и вижу рядом с домом 23-а еще один, номер 23-б. Начал ругаться, а что поделаешь? Приказ есть приказ. Но и там никто ее не знал. Когда я открыл номер 23-с, мне показалось, что все это мне снится. И где, черт возьми, я ее нашел, как ты думаешь? В 23-п! Но когда я ее увидел, я уже ни о чем не жалел. Она сварила мне кофе и все смеялась, когда я рассказывал, как я ее искал. Она была со мной очень любезна, как со старым знакомым, и сразу мне очень понравилась. Они живут вдвоем с матерью. Мать глухая. Она мне открыла дверь, и я ей говорю: «Добрый день, госпожа», а она мне отвечает, что его нет дома, он в тюрьме. Наверно, подумала, что я пришел к сыну. Жутко здорово было, правда, я почему-то вспотел, и она мне все время улыбалась. Девушка на все сто, уж поверь мне. Только мне надо узнать, что это за Милан. Наверняка какой-нибудь болван, черт бы его побрал. В прошлый раз пришла за листовками – я ей обещал – с дамской сумочкой, как будто за полфунтом говядины. Я над ней хохотал: у меня их тридцать тысяч – или пусть берет все, или ничего. Уж если я делаю, то делаю как следует. И чтобы их не швыряли без толку в какой-нибудь поганый двор, лишь бы бросить, как какие-нибудь лентяи или оппортунисты. Я хочу, сказал я ей, видеть весь район засыпанным листовками рационально, ясно? Каждая листовка отдельно. И пусть посылают разбрасывать только членов СКОЮ. А то пойдет какой-нибудь трусливый идиот и вытряхнет целую кипу в каком-нибудь вонючем подъезде. Дворник, конечно, хоп все это – и на свалку. А я из-за них три дня и три ночи глаз не сомкнул. Как ты думаешь?
Я ничего не думал. Тихоход то пропадал, то появлялся снова, и я улыбался ему. Потом он исчез, как исчезли все.
Однажды я в самом деле очнулся, но не в силах был открыть глаза. Вместо снов ко мне стали приходить видения из того дня, когда погиб Сверчок. Я увидел учителя Тртника, который остановился как вкопанный, когда я вошел к нему в комнату весь в крови. Затем, словно ощутив в себе необычную силу, он начал давать указания решительным командирским тоном:
– Сюда, на диван. Мария, поищи бинты. Приготовь горячей воды. Полотенце. Спирт. Не теряй головы, Мария, ничего страшного. Ножницы, пожалуйста. Одежду придется разрезать. Убери портфель, спрячь его. Под плиту. Нет, подожди. Вытри его, он весь в крови. Сними с него ботинки, будь добра. За вами следили? Нет? Прекрасно. Ничего страшного. Сквозная рана. Как вы вообще могли идти? Во рту чувствовали кровь? Нет? Хорошо. Мария, завари чай. При ранениях всегда страшно хочется пить. Мария, да поворачивайся же быстрее и не смей вздыхать, ради бога! Ничего ужасного. Царапина. Сейчас пойдешь за врачом. Только за каким?! А он говорит, что знает врача, к которому можно безбоязненно обратиться. Ничего страшного, но врача придется вызвать. Так, та всякий случай. Ну одевайся. Оставь чай. Да не плачь, глупышка! Иди и скажи, что его зовет Сверчок. Сверчок погиб? Не надо говорить, что он погиб, скажи только, что его вызывает Сверчок. Это пароль. Так условлено. Срочный случай. Пусть придет немедленно. Да не бойся, бедняжка ты моя. Ведь уже стемнело. Да заодно прихвати портфель и спрячь его в саду – в беседке под полом.
В другой раз, когда я очнулся, в ногах постели сидел доктор. Когда он спросил меня, что случилось со Сверчком, я просто отвернулся. Доктор был молодой, черные висячие усы делали его немного старше. Мария стояла в тени, у окна. Доктор посмотрел на нее и сказал:
– Если температура поднимется, немедленно вызовите меня.
Он закрыл свой чемоданчик из свиной кожи и обернулся к Тртнику.
– А что вы предпримете, если придут с обыском?
Тртник, который стоял в дверях и беспокойно ломал пальцы, смущенно ответил:
– Я… не знаю. Ну… как-нибудь.
Доктор, удивленный, улыбнулся, еще раз взглянул на меня и стал прощаться.
Температура поднималась и падала, падала и опять поднималась, и Марии снова пришлось бежать за доктором.
Подойдя к перекрестку, она остановилась в растерянности. Гранаты, подумала она. В это время где-то совсем близко послышался лай пулемета. Она прислушалась и попыталась понять, где бы это могло быть. Она хотела проскользнуть дальше, но в это время затрещало со всех сторон. Беспорядочная винтовочная стрельба. Ей показалось, прыгает не только сердце, но и земля под ногами. Она невольно зажала уши. Взглянула на часы – пятый час. Уже смеркалось, и кучи снега, лежавшие во дворах, казались почти серыми. Как будто кто-то разложил белье, запачканное сажей. Она заторопилась – и остановилась опять. К дому доктора, за которым она шла уже второй раз, подъехал грузовик и, урча, остановился. Из него с криками выскочили около тридцати вооруженных солдат. Они окружили дом, одни из них остались у входа, держа автоматы на изготовку, с напряженными лицами, готовые каждую минуту стрелять или броситься в погоню, другие ворвались в дом.
Мария повернулась и бросилась в другую сторону. На миг перед ней встало мое бледное лицо в мелких капельках пота, губы, которые открывались только в бреду. Она пошла на Реслеву, откуда через Вокзальную, затем по Пражаковой на Миклошичеву. Вдруг она заметила, что все бегут. Люди бежали в разные стороны как безумные. Обернулась назад – там бежали. И она побежала тоже, не зная, куда и зачем, приложив ладони к щекам и задыхаясь, по Миклошичевой к «Униону».
У дверей тюрьмы она увидела солдата с пулеметом. Он направил его прямо в небо – она невольно посмотрела наверх – и открыл бесцельную стрельбу. Пулемет трясся, как взбесившийся цепной пес. Лицо солдата было искажено гримасой, дрожь пулемета передавалась и ему, так что даже его зеленая каска сползла на затылок.
– Да они с ума сошли, – прошептала она и почувствовала, что губы у нее оцепенели. Все сошли с ума. Уже сами не понимают, что делают. А ей придется искать другого врача. Вдруг она заметила высокого офицера. Он расхаживал с серьезным видом по самой середине улицы. В вытянутой руке он держал пистолет, из которого стрелял через каждые два шага. Неожиданно Мария ясно различила звон гильзы, которая, описав дугу, упала рядом с ней. «Неужели ему не стыдно?» – подумала она. Ее залила волна горячей обиды.
– Надо идти домой, – шептала она. Отец, вероятно, знает другого надежного врача.
Перед «Унионом» по краям тротуара стояли солдаты с винтовками и беспорядочно палили в воздух. Перед главным подъездом здания суда стояли два тяжелых пулемета и, сменяя один другой, тарахтели: та-та-та-та. Очереди рассекали воздух над самой головой мраморного Миклошича. Марии почудилось, что старый ученый раздраженно приподнял плечи. Запыхавшаяся, растерянная, она остановилась на углу Миклошичевой и Далматиновой. Люди все бежали и бежали, и она никак не могла понять, куда же они все-таки бегут. Одни протискивались в подъезды домов, откуда с любопытством выглядывали на улицу, другие отыскивали проходные дворы.







