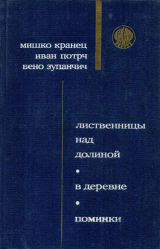
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Он резко поднялся, подошел к настенному календарю, 1941. С обложки в лицо ему смеялся розовощекий трубочист. Какой оптимизм. Детство! С потерянным видом он почесал за ухом. Потом тихо приоткрыл дверь в кухню и остановился на пороге:
– Мария, кто тебе дал эти листочки?
– Сверчок.
– Сверчок? Это еще что такое?
– Сверчок – это один парень. Так мы его зовем. А по-настоящему его зовут Давид.
– Сверчок дал тебе эти листки. А что, этот так называемый Сверчок – твоя любовь или как это там теперь говорят?
– Нет, что ты.
– А кто опустил «Порочевальца» в почтовый ящик?
– Я.
– Ты?
– Я. Тебе это кажется странным?
– Странно, – бормотал он, выходя из кухни. Потом посмотрел на занавешенное окно. На улице была уже ночь. – Мария, что же тебе подарить? Ведь тебе скоро исполнится восемнадцать!
В один прекрасный день в нашем семействе возник заговор, как назвал это отец. Этот заговор еще больше укрепил его в мысли, что он страшно одинок. Мать и Филомена – прежде всего, разумеется, Филомена – решительно высказались «за». Причины были чисто практического свойства: в первую очередь квартирная плата. У нас вечно не хватало денег. Кроме того, Карло обещал макароны из белой муки, рис, кофе, шоколад, сушеные винные ягоды и миндаль. В то время, когда стоимость денег падала с головокружительной быстротой, это было совсем не смешно. Антон пожал плечами и послал нас всех подальше. Он здесь не хозяин. Он, правда, не любит итальянцев, потому что все они бабы, а не солдаты, но, быть может, пустив одного из них в дом, мы обеспечим себе безопасность. Кто знает, что еще может случиться. И никто не хотел слушать его, отца, когда он объяснял, почему он не хочет пускать в дом чужого человека. Во всяком случае, никто не хотел понять самого главного: ведь это, в сущности, посягательство на его владения, так сказать «оккупация». Как будто из-за этой окаянной войны и каких-то там стран «оси» утратило ценность все, что ценилось до сих пор. А потом в один прекрасный день к нему вселят целый батальон таких вот, в шляпах. Антон сказал, что это вполне возможно. Войне нет дела ни до его владений, ни до его собственности. Отец возмутился.
– А я докажу, что это не так! Я обойду всех, от Понтия до Пилата, и добьюсь, чтобы отменили это распоряжение.
Антон расхохотался. Он посоветовал отцу вести себя прилично, пока его не переселили в места не столь отдаленные. Судя по всему, там хватит пространства и макарон для таких прохвостов. Когда же затем отец спросил, почему бы не пустить, раз уж так необходимо, квартиранта-словенца, мать воскликнула:
– А рис? Что ты тогда будешь жрать?
В этой битве отец проявил незаурядную решимость и страсть. Я наблюдал за ним с большим удивлением. Вспомнив его разговор с учителем Тртником, я радостно подумал: вот оно, начинается. Начало конца. День за днем все это будет оседать, пока не рухнет. И властная рука необходимости сметет наше безалаберное гнездо.
Мать моя была люблянчанка, а отец родился в 1879 году в крестьянской семье в Козьянской. Еще мальчиком он бежал от нищеты в Загреб к дяде-бондарю и стал помогать ему. Работать приходилось с утра до вечера, ел он плохо, спал мало. Дядя был старый ревматик и гораздо больше интересовался качеством бочек, чем здоровьем племянника. В 1914 году отца не взяли в армию по состоянию здоровья. В середине войны дядя отплатил ему за все его труды внезапной кончиной от удара. Все свое имущество он завещал моему отцу, и этого как раз хватило на покупку участка в Любляне, где он нашел себе службу на железной дороге. Потом, соединив приданое матери и ссуду, которую еле-еле выплатили за пятнадцать лет, он построил дом. В том же году у них родилась Филомена, а через год – Антон. Мать была дочерью мясника, здоровая, сильная, энергичная – словом, девушка что надо. Когда они с отцом получили свой дом, жизнь, казалось, начала им улыбаться. Но слабое здоровье отца и его частые отлучки из дома, связанные со службой на железной дороге, не давали покоя злым языкам. И довольно скоро его любовь к жене перешла в ненависть. Я всегда избегал семейных сцен. Я их стыдился с раннего детства.
Сейчас надо было и мне что-нибудь сказать, не дожидаясь, пока обо мне забудут. Я сказал, что не желаю видеть в доме итальянцев. Не только потому, что мы натерпимся срама и что люди будут на нас пальцами показывать…
– Пальцами показывать? – подхватила Филомена. – Ну и пусть показывают. Зато, когда ты будешь сидеть голодный, никто не будет над тобой смеяться! Люди! Разве они люди? Эти голодранцы вокруг нас, которые умирают от зависти!
Я покраснел и выпалил:
– Если он тебе так уж нравится, то иди ты к нему…
– Нет, ты меня из дома не выживешь! Ах ты сопляк! Жрешь наш хлеб…
– Тихо! – закричал отец, не расслышавший моих слов.
– Заткнись, – цыкнула Филомена на отца. – Как будто ты один живешь на свете. По-твоему, лучше пусть пропадает свободная комната и дети голодают, чем пустить в дом приличного человека и обеспечить семью.
– Приличного человека, – засмеялся я. – Цыгана!
– Ну и детки у меня, – с презрением вздохнул отец, а мать ему ответила:
– Все в отца.
Все вместе и в самом деле было похоже на заговор. На следующий день отец с утра облачился в парадный костюм и, не сказав никому ни слова, направился в город, в канцелярию губернатора; там у него был знакомый по обществу друзей птиц. Но этот господин с петушиным профилем, который тем не менее больше любил курятину, чем живых пернатых, едва захотел его видеть. Когда же отец, прождав довольно долго, вошел в его кабинет, он встретил его словами:
– Если ищете посредничества, то разговор можно считать оконченным. Я всего лишь чиновник и не несу ответственности за происходящее.
Отцу показалось: еще чуть, он повернется и уйдет. Но он заставил себя проглотить обиду. Он объяснил, что пришел всего лишь за добрым советом. Он рассказал свое дело во всех подробностях. Выслушивая их, покровитель птиц проявил явные признаки нетерпения.
– Вы с ума спятили, – сказал он. – Из-за жирного куска, который вам перепадает, беспокоите власти. Благодарите бога за прекрасную возможность застраховаться от всех случайностей. Кроме того, я уверен, что этот итальянец – контрабандист. Еще и деньги сделаете, если возьметесь с умом.
– Не надо мне иудиных денег, – упрямо твердил отец.
– Не собираетесь же вы ссориться с оккупационными властями? Вы что, воображаете, что они вас послушают? Благодарите судьбу, что к вам не вселяют какого-нибудь ярого чернорубашечника, которого вам придется приветствовать стоя с вытянутой рукой.
До отца наконец дошло, что друг птиц или не понимает его, или попросту не хочет понять. Отец вспылил. Неужели так трудно уяснить, что речь идет о неприкосновенности его владений, его дома, его семьи, а вовсе не о том, занимается ли его квартирант контрабандой, какую он носит рубашку и насколько приятное у него лицо? И когда он все это объяснил, как мог, на чистом словенском языке, чиновник заорал, скривив свою испитую физиономию:
– Милый мой, сейчас, когда стирают с лица земли города, когда целые области сжигают дотла и миллионы людей сгоняют с родных мест, вы говорите о неприкосновенности своих владений! Да вы не в своем уме, простите меня!
Он морщился, жестикулировал, стонал и вздыхал, точно от физической боли. Отец смотрел на него с удивлением и почти с брезгливостью. И этому надутому типу год назад он отдал даром двух породистых голубей!
Выйдя из здания канцелярии, он остановился в нерешительности. У входа стояла пара карабинеров в заломленных наполеоновских шляпах. Они уставились на него с чисто солдатской бесцеремонностью. Отцу стало не по себе. Он плюнул и пошел по улице Блейвейса. Перед полицейским управлением прохаживались взад и вперед двое полицейских. Они тоже принялись разглядывать отца. А что, если пожаловаться прямо сюда, в полицию? И, прежде чем он успел это как следует обдумать, он уже стоял в прихожей. Там к нему обратился кто-то и спросил, что ему угодно. Он хотел бы подать жалобу в связи с одним делом, отвечал отец, внимательно глядя на незнакомца.
– Жа-алобу?! – протянул насмешливо незнакомец. В ответ на вопрос отца, кто он такой, незнакомец криво усмехнулся и сказал, чтобы отец постучал в двенадцатую комнату.
«Стучите и отворится», – успокаивал себя отец. Теперь-то он будет вести себя умно и смело.
В комнате за черным письменным столом сидел, покусывая карандаш, плешивый офицер без фуражки. Они долго не могли понять друг друга. И так как отец, невзирая на это, не показывал ни малейшего желания уйти, офицер позвал переводчика. Вошел тот самый незнакомец из прихожей. Он ухмыльнулся и присел на край стола.
– Что ему надо? – спросил офицер. Он сунул карандаш за ухо и, опершись локтями на стол, со скучающим видом стал смотреть в окно.
– Я хотел бы подать жалобу, – скромно заявил отец и остановился, подыскивая приличествующие случаю выражения. – По делу о квартире. Ко мне хотят вселить одного вашего сержанта. Его зовут Карло Гаспероне. Такой в шляпе с пером.
– По каким причинам он сопротивляется вселению?
Переводчик приторно улыбался. Сам не зная почему, отец подумал, что этот подхалим, вероятно, родом из Горицы.
По каким причинам, черт возьми? В самом деле, по каким причинам? Он растерялся и не знал, что сказать. Не может же он привести действительные причины. Лучше что-нибудь придумать.
– У меня в самом деле есть комната, – заторопился он, – но ведь у меня трое детей. Старший сын собирается жениться, и ему некуда деваться с женой и с ребенком, который скоро должен родиться. Лишнего места у меня нет, знаете ли, дом небольшой.
– Так-так. А чем занимается его сын? Сколько их у него? – Офицер на мгновение скользнул по нему мутным взглядом. Переводчик переводил, не переставая хихикать.
– Так-так, – небрежно заметил офицер, снова отворачиваясь к окну. – Оба его сына дома. Один железнодорожник, другой гимназист. Прекрасно. А наши мальчики должны воевать. Их парни женятся, плодят детей еще до женитьбы, отнимают драгоценное время у господа бога и у людей, а наши вместо них идут на фронт. Чудесно. Им-то на фронт не надо.
Думал ли он об этом? Он еще не слышал, что хотят сделать немцы? Как это ему нравится? Быть может, его сын все-таки потеснится, чтобы один из наших ветеранов смог получить крышу над головой?
Отец потоптался на месте.
– Я знаю, что в городе есть лучшие помещения.
– Где? – живо спросил офицер. – Пусть даст нам адреса. Знает ли он, сколько в городе беженцев из Марибора и из других мест, где стоят немцы? Пусть дает адреса. Мы будем ему благодарны.
Отец, поняв, что из его затеи ничего не выйдет, в отчаянии подыскивал ответ.
– Скажите ему, – добавил через минуту офицер, – я надеюсь, он мужик с головой и с ним можно договориться. Так вот, скажите ему, что я могу предотвратить вселение этого сержанта, если он примет в комнату, предназначенную его уважаемому сыну, словенца, которого ему пришлем мы. Но никто не должен знать, что это наш человек.
– Нет-нет, – испуганно вскричал отец, – не надо! Если так, пусть лучше иностранец живет.
Офицер стремительно поднялся и не особенно сердито заорал:
– Вон! Гоните его отсюда сейчас же, а не то я его арестую!
Отец схватил шляпу и бросился бежать. Он перевел дух только на площади Конгресса, убедившись, что за ним никто не гонится.
Наперебой щебечут птицы. Ты сидишь на скамейке лицом к солнцу. Парк похож на одну из полных жизни картин Грохара. Все трепещет и переливается: зелень, цветы, воздух, солнце. Когда кто-нибудь проходит мимо, кажется, что это проплывает лиловая тень. Щемит глаза от блеска. Город еще затянут дымкой. Даже если прислушаться, оттуда не доносится ни звука. И тебе вдруг приходит в голову, что в этом городке ты прожил всю свою жизнь. Ты усаживаешься на скамье поудобнее, обхватив коленки руками. Ты ведь почти не видел других мест. Если бы не школьные экскурсии, ты вообще ничего не увидел бы, кроме Любляны. Ни Мулявы, ни Ущелья бедняков, ни Винтгара, ни Шмарной горы. Мир Кайфежей держит тебя на привязи. Еще ни разу ты не поднимался так высоко, ни разу не открывались перед тобой такие виды. Тогда глаза твои наполнились бы простором, которого ты так жаждешь. Ни разу ты еще не был на Триглаве. Это унизительно. Сверчок говорит: туда надо подниматься на заре. Тогда вокруг тебя только море плывущих облаков и туман. Вот-вот взойдет солнце. Туманы и облачка разбегутся, спустятся, поплывут над равнинами, долинами и ущельями, улягутся по лесам, полям и рекам. Из белых клубящихся облаков все больше выступают острые вершины гор, улыбающиеся солнцу. Затем показываются зеленые леса, темные, мрачноватые, как озера с четко очерченными берегами, и вот наконец весь твой край перед тобой как на ладони. Эту ладонь, как линия жизни, пересекает задумчиво поблескивающая Сава. Твой взгляд скользит все дальше и дальше – через Караванки, где сверкают темными пятнами сказочные озера, о которых ты читал в хрестоматиях. Ты видишь австрийские, швейцарские, по другую сторону – итальянские Альпы, а если утро очень ясное, то и все-все до моря, до самой Венеции.
Тебе всегда представлялось, что именно так и надо смотреть на свою родину – одним, единым взглядом окинуть ее, стоя на самой высокой вершине, так, чтобы охватить все разом и навсегда. В школе ты сторонишься тех, кто ходил в горы. Ты видел простор лишь со Шмарной горы, где вы, как девочки, собирали снежные розы. По сравнению с Триглавом этот вид был достоин Кайфежа. Кайфеж не хочет лезть ни слишком высоко, ни слишком далеко. Он не плавает, потому что боится воды, и не летает из страха перед высотой, не путешествует, потому что не выносит быстрой езды, боится любви – что-то скажут люди! Боится он и тех мгновений, когда время вдруг остановится и человек задумается над смыслом всей своей суеты. Отец стал для тебя синонимом человека, который боится всего, что может быть подозрительно, соблазнительно, не рекомендовано обществом покровительства животных или, боже упаси, запрещено властями.
Прекрасно, думаешь ты, нас возили на Муляву, но почему нас не водили на Триглав, не показывали этих озер, если уж нам полагалось знать все озера в Тибете. Тебе показали уютную деревеньку с домом, где родился известный писатель, автор «Юрия Козьяка»[11], но почему тебе не показали родину с самой высокой вершины, и даже ту ее часть, что лежит за границами?
Мир Кайфежей связывает и душит тебя – этот мир, вспоивший тебя слепой, горькой ненавистью. Как может чувствовать себя мальчик, когда отец говорит ему о матери: «Она валялась под забором с кем попало, с первым встречным. Теперь ты будешь знать, что за потаскуха была твоя мамаша». Или мать об отце: «Твой отец всегда был эгоистом, тряпкой. Это не мужчина, это ничтожество. И я не могла его не обманывать – надо же хоть как-то жить». А отец: «Я все это терпел, чтобы сохранить дом. Иначе он бы развалился именно тогда, когда уже стоил мне ровно полжизни». Дурная среда, утверждает Сверчок, непременно рождает дурных людей. Надо разрушить эти призрачные мирки, состоящие из домиков, садиков, курятников и голубятен, взорвать всех этих надменных нищих, гордых своей собственностью и обремененных обманом, воровством, преступлениями против людей, против человеческого достоинства. Дурная среда порождает карликов, и потом, когда они поймут, что навсегда останутся всего лишь карликами, они превращаются в ничтожества, рабов, клеветников, негодяев, убийц, в пресмыкающихся, а не людей. Жалкие, с двуликой душой бедняков и хозяев, они заслуживают сожаления и помощи. Но ни помощи, ни сожаления не получат они, пока существует это море незаметных, ущербных мирков, день за днем рождающих все новых и новых карликов, новых несчастных. В самом деле, думаешь ты, нас возили на Муляву, а потом и на Шмарную гору, чтобы мы постепенно смирились с крохотными размерами наших владений, со своей незначительностью. И мы удовольствовались бы мирком, где вид из окон гостиницы заменяет горизонт, а Шмарная гора – заоблачные вершины.
Ты ловишь себя на смутных мечтах. Словно живешь двойной жизнью. Одно ненавидишь и презираешь, другое любовно, как расписанное пасхальное яичко, прячешь на дне души. Вот сейчас ты впервые попытался оторваться от земли и прикоснуться к чему-то большому, осмысленному, необходимому, решающему. А в самом деле, разве человек не имеет права ходить с огнем счастья в глазах от сознания, что все, за что бы он ни взялся, разумно, значительно, непреходяще? Неужели ты обречен растрачивать впустую свой ум и сердце, как твой отец? А ведь в конце концов, когда придет время покончить счеты с жизнью, он ляжет в могилу, похожий скорее на пугало, чем на человека.
Все перед тобой зыбко трепещет, переливается и дышит в мягком свете утреннего солнца. На глаза набегает лиловатая тень. Сейчас она отлетит прочь. Она подобна неясному воспоминанию, бог весть откуда попавшему в твои мысли, занятые совсем другим. Но тень приближается, сгущается. И ты видишь человеческую фигуру, она садится рядом с тобой на скамью и тихо произносит:
– Привет.
– Привет, Сверчок!
Сверчок – сын еврея-галантерейщика, который лет десять назад переехал в Любляну из Загреба, похоронив там уже вторую свою жену – мачеху Сверчка. После ее смерти отцу захотелось бежать куда глаза глядят. Так и попал в Любляну молчаливый, незаметный мальчик, которого прозвали Сверчком. И правда, был он неказист: лицо какое-то помятое и черномазое, а на кончике носа росли три черных волоска. И прозвище это так подходило ему, что через год уже мало кто помнил его настоящее имя.
Тихий кудрявый мальчик быстро освоился с новой обстановкой. Выяснилось, что он, на зависть многим, умеет шевелить ушами, мяукать, ржать и строить рожи. Будто учился специально. И ребята в школе решили: этот черномазый еврейский мальчик и правда забавный. Некоторое время в нашем классе свирепствовала мода строить рожи и ржать. Он был еще слишком мал, и не всегда понимал, что подчас скрывается за внешней стороной вещей. Как только он это понял, он перестал кривляться. Он стал язвительным, неожиданно набрасывался на первого попавшегося. Одно время он часто ссорился со своим отцом. В самом деле, разве не отец виноват в его происхождении, в том, что он некрасив. Правда, потом он раскаивался. В его отношении к отцу ощущалось молчаливое сочувствие, иногда даже то искреннее сострадание, какое лишь дети способны испытывать к взрослым. Поэтому в один прекрасный день он пришел к мысли, что его отец – раз уж племя его так обижено и бесправно, – безусловно, человек необыкновенный. Но отец не был таким. Конечно, он был исключительный добряк, но временами на него находило жуткое упрямство. Он пытался жить согласно Ветхому завету, а финансовые дела вести в соответствии с законами современной торговли. Ходил он, заложив руки за спину и чуть подавшись вперед. Его большие темные глаза всегда светились влажным блеском.
Я восхищался Сверчком еще и за то, как он умел обходиться со своим отцом – ласково и с уважением, но при этом всегда выходило так, как хотел Сверчок.
– Греешься на солнышке, как ящерица?
– Ага.
Вид у него был задумчивый. Черные глаза потускнели. Когда Сверчок грустил, мне казалось, что в его глазах отражается вся тысячелетняя скорбь его племени.
– Что с тобой, Сверчок? Ты не влюбился?
Он молитвенно сложил руки. Потом опустил их на колени, наклонил кудрявую голову и сказал:
– Да, знаешь, правда влюбился.
Удивленный и обрадованный, я рассмеялся и обнял его за плечи.
– Черт возьми! Удачно или неудачно?
– Не знаю. Знаю только, что влюбился. А она вообще ни о чем не подозревает.
– Так признайся ей.
– Признаться? Если бы я мог. У меня просто пропадает дар речи, когда я ее вижу.
Я покачал головой.
– Но ведь надо же ей рассказать, какого черта, должен же ты узнать, «да» или «нет». Неужели ты боишься?
– Ужасно.
– Ого!
– И вообще, если бы… если бы… я был красив! Что делать – ума не приложу.
– Не думай о такой чепухе. А я с ней знаком?
– Может быть. Не знаю.
– Напиши ей письмо.
– Не сумею. Я пробовал. Не получается.
– Сдери откуда-нибудь.
– Ну нет, не хочу.
– Я тебе помогу.
– Нет-нет. Ни за что на свете. – И через некоторое время: – Сначала мне было очень не по себе. Мне все казалось, что я сделал что-то дурное. Даже отцу не мог смотреть в глаза. Вообще-то мне часто приходилось ему врать, ты знаешь почему, и все нипочем. Потом я спросил Тигра, что он об этом думает. Вообще, в принципе. И он сказал, что в такое время любовь – грех. Эгоизм по отношению к революции. Нас ждут большие дела, а я в это время мечтаю о девичьих глазах. И что надо переломить себя.
– Тигр монах, – спокойно ответил я.
Сверчок пожал плечами.
– Тигр много знает. Он член комитета. Я размышлял о его словах. И понял, что он прав только отчасти. Нет, любовь не мешает революции, если она воспламеняет человека, наполняет его восторгом, мужеством и преданностью делу справедливости. Она мешала бы, если бы отнимала его у революции или делала осторожным, трусливым, нерешительным.
Я слушал его, и это помогало мне освободиться от собственных мыслей. Конечно, Сверчок очень умный, решительный, и рассуждать он умеет гораздо лучше меня. Мне часто кажется, что я как бы витаю в пространстве, к которому сам не принадлежу, что у меня нет ни малейшей опоры. Единственное, что я хорошо знаю, мне противно – это мир Кайфежей и воспоминание о той ночи с Анной.
– Ну, я пошел, – донесся до меня голос Сверчка. – Надо кое с кем встретиться. Не забудь, вечером. На Вечной.
Он поднялся со скамейки. И опять превратился в лиловую тень, которая стала потихоньку уменьшаться и наконец растаяла в блеске солнечных лучей. Все мое существо было исполнено нетерпеливого ожидания. Хотя домашнее воспитание и школа внушили мне болезненную подозрительность, во мне они не уменьшили страстного воодушевления, жаркого восторга. Я чувствовал, стоит лишь захотеть – и ветер понесет меня, как облака над Кримом. И когда меня – а это случалось нередко – посещали видения моря и мечты о дальних плаваниях, это не было только влияние Поклукара. Некая могущественная сила влекла меня прочь от этого отвратительного крохотного мирка. Она гнала меня далеко-далеко, куда глаза глядят. Наверное, это чувствовал иногда и мой отец. Но его тоска была отравлена вонью кроличьих клеток, ее отягощало все, что стояло за ним.
Политическая теория и практика, как нарочно, объединились в этот момент словно для того, чтобы задеть самую чувствительную струну люблянского мещанина, человека с двойной душой, защищая от оккупантов его крохотный, со всех сторон огороженный мирок, и в то же время вырывали почву у него из-под ног. Он и без того уже был осужден. Но это далеко не всегда ощущалось. Впрочем, суждение о молодом человеке из мещанской семьи могло быть ошибочным. Молодость раскрепощала его, освобождала от пут и наполняла самоотверженностью. Иногда, правда, такие молодые люди ударялись в политическое сектантство и начинали неоправданно жестоко относиться к той среде, в которой они выросли. Школа, как ни странно, подливала в этот огонь каплю патриотизма, если только там был кто-то, кто умел это сделать. Пусть вначале этот патриотизм был скорее эмоциональным, чем разумным, с оттенком национализма или шовинизма, но он был ступенькой, приведшей немало молодых людей в революцию.
Мой отец не признавал никакой родины, никаких властей, никаких партий, никакой истории. Он признавал только свой мирок, где он был всем: и историей, и родиной, и верховной властью. Я уже не был таким. Мне был противен учитель, который беспрестанно твердил что-то о юных соколах, но не менее противен был и другой, который стремился доказать, что католицизм – в характере словенского народа. Однако то, что говорил об истории Тртник, служило толчком к размышлениям. Таким же толчком был тот день, когда, стоя на перекрестке Римской и Блейвейсовой улиц и испытывая странное ощущение чего-то непоправимого, я смотрел на берсальеров[12] в шляпах с развевающимися султанами – они мчались на мотоциклах к дворцу бана[13] после торжественной церемонии вручения им на Виче ключей от города. И чем больше я размышлял, тем сильнее было чувство, что я слеп. Сверчок дал мне книгу Ильина «Природа и люди», но из нее я запомнил только то, что мир непрерывно движется и изменяется и что сейчас тоже что-то должно сдвинуться и измениться. О том же самом, но невероятно заумно писал автор, укрывшийся за псевдонимом «Сигма», пробудивший во мне, между прочим, интерес к картофелю. Сверчок в этом смысле отличался от всех остальных. Для него югославская проблема, как таковая, не существовала – для него существовали еврейские погромы в Германии. А мне все происходящее казалось до ужаса запутанным и неразрешимым. Мог ли я охватить это своим разумом семиклассника, своим взволнованным сердцем? Тигр советовал мне перечитать журнал «Содобност» за последние несколько лет. Мария приносила стихи из отцовской библиотеки, у Анны я брал дневники путешествий и атласы. Единственное, что было во мне постоянно и неизменно, – это отвращение к той жизни, которой я жил. Все остальное сменялось, как цвета радуги, – замешательство, ощущение подавленности, восторг и счастливое чувство ожидания.
Иногда казалось, что, стоит мне захотеть – и я смогу летать. Иногда, напротив, я бесцельно бродил по городу, не зная, куда себя девать. Я читал вывески, будто искал в них то, чего не мог найти в себе самом. Во сне я вздыхал и ворочался, меня посещали странные видения, они продолжали меня преследовать и наяву. Я часто сиживал на скамейке у железнодорожного переезда в парке Тиволи. Я смотрел на спешащих пешеходов, на солдат, слушал скрип трамвая, останавливавшегося у почты. Затем, чтобы отвлечься, я начинал угадывать марки автомобилей, мчавшихся по улице Блейвейса. Потом вдруг поднимался и уходил, сам не зная куда. Однажды я обнаружил, что давно уже стою на Шеленбурговой, уставившись в витрину и ничего не видя. Я обругал себя и пошел дальше. Иногда я сидел в отцовском садике и пытался читать его газету. Но из этого ничего не выходило. Подняв глаза, я невольно начинал наблюдать за отцом. Он кормил кроликов. Черт бы побрал этих кроликов. Я вдруг увидел, как постарел отец. У него тряслась голова, а жалкая слабая шея обросла редкими седыми завитками. Стареет. Доконала его война. Эта война хоть кого доконает.
День был великолепный. С утра, правда, над городом поднимались туманы, но дни стояли жаркие, без единого облачка. Я направился к Люблянице, прошелся вдоль реки и остановился у моста св. Якова. Прислонившись к перилам, я смотрел в воду. Мелкая, лениво текущая, она была сейчас похожа не на реку, а на зеленоватую лужу, застывшую в бетонных берегах. Совсем как я. К чертям, надо что-то делать. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Я смотрел на прохожих. Их было не так уж много. Одни шли к реке, другие торопились обратно. Война, а люди купаются. И вообще незаметно, что война. Все как-то успокоилось. Люди замкнулись в себе. Выходят на улицу только по делу и снова поспешно расходятся по домам. А погода такая же, как обычно в это время. И река течет все так же. И все-таки что-то изменилось, сдвинулось, как снежная лавина. Каждую минуту что-то происходит, а я не знаю и не могу понять что.
Что же все-таки случилось с моим городом? Если захотят, его могут разрушить, сжечь, сровнять с землей. Захотят – и переселят в другое место всех этих Кайфежей. Я закрыл глаза, чтобы яснее это представить себе. И почему-то засмеялся. Временами мне казалось, что весь город населен одними Кайфежами, а в таком городе революция, конечно, обречена на провал.
Все вокруг блестит и переливается. Сгущаются лиловатые тени. Ты встряхиваешься и в задумчивости бредешь дальше. Медленно проходишь между клумбами. Ты воображаешь себя садовником – ходишь среди цветов и все думаешь о том, который даст ростки, и сбудутся ли твои ожидания. Это будет лучший твой цветок.
Где-то совсем рядом пробуждается город – заспанный зверь с налитыми кровью глазами; он не видит цветов, и нет ему дела до твоих дум.
На следующий день, не слишком рано, перед нашим домом остановилась обрызганная защитного цвета краской тележка на двух высоких колесах. В нее была запряжена лошадь, самой природой выкрашенная в маскировочные цвета. Три солдата сняли с тележки груду одежды, мешок, два сундучка, три ящика мармелада и ящик макарон – все движимое имущество сержанта Карло Гаспероне. Полчаса спустя он сам торжественно вступил в наш дом и водворился в свою комнату-мансарду. В мансарде было три окна, одно из них смотрело прямо на ратушу. На башне ратуши развевался красно-бело-зеленый флаг. Мать и Филомена приготовили постель для Карло. Солдаты вынесли из комнаты старый отцовский ясеневый шкаф и пару пустых птичьих клеток. Когда-то в них жили две грустные горлинки.
Отец не хочет видеть всего этого, ничего не хочет слышать. Он ушел за дом и стал чистить крольчатник, да так и не вычистил. Сел на опрокинутое корыто и думал бог знает о чем. Когда я подошел к нему, он заявил мрачно и торжественно:
– Я, как Пилат, умываю руки. Но придет время, когда вы не посмеете так со мной поступать.
Карло Гаспероне поселился у нас, устроился, и все в доме потекло прежним порядком. Отец встает, как обычно, чуть свет. Большую часть дня он проводит в саду. Мать хлопочет по дому или сидит у плиты, охает и жалуется на боли в пояснице. Отец уверяет, что это оттого, что она в свое время слишком часто валялась на травке, а мать отвечает, что это была ее единственная радость. Филомена, как обычно, шьет; впрочем, больше перешивает. Дело в том, что у нее нет официального разрешения заниматься портняжным ремеслом. Антон приходит домой только спать. Если он вдруг оказывается дома, он напивается и срывает зло на ком попало. Глаза у него навыкате и вечно гноятся. Кролики по привычке жуют клевер и овощи. Кот Эммануэль, подняв хвост, прогуливается по забору под бдительным надзором пса Фердинанда. Потом он перепрыгивает на сирень и там подкарауливает воробьев.
Карло уходит и возвращается то днем, то ночью. Отцу он кажется похожим на разбойника, которого он видел однажды на сцене в клубе ремесленников. Он трясет черной бородкой и говорит резким голосом, точно сыплет фасоль в жестяную кастрюльку. Отец не желает брать в рот его вино, его финики. Встретив Карло в коридоре, он неизменно поворачивается и уходит в уборную. Карло спрашивает у Филомены, почему старик вечно сидит в уборной. У него хроническое расстройство желудка, отвечает Филомена. Но хуже всего то, что Карло повадился сидеть в саду. Он выносит туда стул, усаживается и читает миланскую газету «Корьере», покуривает и поглядывает вокруг, точно ища собеседника. И отцу ничего другого не остается, как удрать в дом. Так же поступают в подобных случаях и все соседи. Правда, по мнению отца, с соседями не все в порядке. Некоторые из них утверждают, что сейчас хорошо поставлено снабжение, что у итальянцев превосходное вино, хороший дешевый мармелад, первоклассный рис. Другие рассказывают, что на Виче открыли публичный дом, у которого солдаты выстраиваются в очередь. Кроме того, говорят, что у каждого второго итальянца сифилис, причем не обыкновенный, а абиссинский. Так им и надо, думает отец, да и нам все это поделом.







