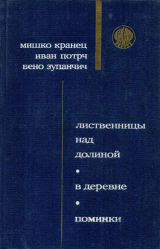
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
– Я написал стихи. Здесь тянет на поэзию. Возможно, и ты начнешь писать стихи. Будем писать вместе. А те, кто придут вслед за нами, будут их читать.
Я поднял руку и почему-то потрогал свою голову.
– Стукнули тебя немножечко, – сказал мой сосед. – Ничего страшного. Я намочил свою портянку и приложил тебе к голове. Солдат, которого ты видел, – Цезарь. Добряк, в общем.
Передо мной вдруг возникли очертания высокой трубы пекарни – ни с того ни с сего я увидел ее и очень удивился. Я припомнил какие-то незнакомые лица и среди них одно странно знакомое – это было лицо Антона. Я попытался вспомнить, как я вышел из беседки в саду Тртника, но в памяти зиял провал. Я решил, что брежу. Снова потрогал мокрую тряпку у себя на голове и взглянул на незнакомца.
– Ты попал в ловушку, да? – спросил он.
Во мне вдруг проснулось недоверие.
– Нет, – сказал он, – я не знаю. Я ничего не знаю. Где у вас тут уборная?
Он посмотрел на меня с усмешкой.
– Если хочешь помочиться, – сказал он, – помочись на замочную скважину. Моча здорово разъедает металл. В один прекрасный день мы вынем замок и уйдем.
Минуту мы помолчали, потом он добавил:
– В уборную нас выпускают только один раз в сутки. И есть дают один раз. А ты не бойся. Привыкнешь довольствоваться и тем и другим.
«Ловушка, – подумал я. – Скорее всего, меня действительно подстерегали. Наверно, чуть свет я вышел из беседки и… В таком случае то, что я видел трубу пекарни, не так странно».
– Хочешь, я прочту тебе стихи? – спросил незнакомец.
– Давай, – пробормотал я.
В коридоре послышались торопливые шаги, беготня, кто-то с кем-то препирался. Затем все стихло. Глазок в двери камеры приоткрылся и закрылся опять.
– Мадонна, – вздохнул незнакомец, – я не в состоянии читать. У меня все пляшет перед глазами. Мне даже иногда что-то мерещится от голода.
– Давно ты здесь?
– О, – воскликнул он с застенчивой улыбкой, – кажется, с конца февраля.
– А какое сегодня число?
– Не знаю, – ответил он. – Все равно. Через некоторое время это становится безразлично.
Я разозлился.
– Ничто не безразлично, слышишь!
Я хотел подняться, но с трудом смог пошевелиться. Незнакомец встал – я увидел, что он высокий и стройный, – и помог мне. Он подтащил меня к стене и прислонил к ней. Я поблагодарил его, он молча сел и спросил:
– А ты когда-нибудь писал стихи?
– Да, – отвечал я, – но это было давно.
– И я, – пробормотал он. – Глупости.
Я все еще думал о трубе пекарни, которая так странно рухнула. Я пытался восстановить в памяти вчерашний день и прошедшую ночь, все по порядку, в точности так, как было. Одно припоминалось ясно, другое менее ясно, кое-что точно провалилось совсем.
– А где мы вообще? – спросил я незнакомца.
– Так ты и этого не знаешь? В Бельгийских казармах. В подвале. Это камера номер пять. Уж это ты, верно, запомнишь.
Вероятно, где-то тут поблизости Люлек, может, и Демосфен или еще кто-нибудь из старых знакомых. Я вспомнил, что надо сообщить Марии. Я начал мысленно составлять письмо к ней, хотя и не представлял себе, как его передать. Память еще сработала настолько, что я сообразил: схватили меня не в беседке Тртника, а где-то на улице. Я придумал приблизительно следующее:
«Дорогая Мария, я жив и здоров, ничего со мной не случилось, не беспокойся, все будет хорошо, хотя сейчас я думаю о тебе как о чем-то недосягаемом. Передай привет друзьям и не думай обо мне плохо. Передай привет отцу. Желаю ему скорее поправиться, а ты не отчаивайся, что осталась одна. Твой Нико».
– О чем раздумываешь? – спросил незнакомец.
– Так, ерунда, – ответил я. – Я вечно придумываю всякие глупости. Ничего умного я еще в жизни не выдумал и не сделал. Надеюсь, что сумею возместить это позже.
Он засмеялся и потер подбородок, поросший белыми волосами. Светлые глаза его светились влажным блеском.
– Да, да, – сказал он. – Всегда так. Нам всегда кажется, что мы глупы, а завтра поумнеем. Всегда. И никогда мы до конца не поумнеем. Вероятно, это противоречит человеческой природе.
– Дурак, – возмутился я, – что ты болтаешь!
Он снова от души рассмеялся своим глуховатым смешком. Я закрыл глаза, чтобы незнакомец не мешал мне сосредоточиться, а он тем временем достал из-под грязной подстилки ручку алюминиевой ложки и начал осторожно точить ее о каменный пол. Меня раздражал скрежет металла о камень. Незнакомец посмотрел на меня исподлобья:
– Не беспокойся. Это я делаю себе нож. Хороший нож будет. Не веришь? Я могу им перерезать себе жилы или зарезать кого-нибудь, если понадобится. Полезно иметь при себе такую вещь. Жаль только, что ложка не стальная. Я бы тогда ею побрился. У тебя нет ничего такого, из чего можно сделать нож?
Я сунул руки в карманы и понял, что их уже выворачивали: исчез и носовой платок, и шнурки, и ремень, и галстук.
Он с улыбкой наблюдал за мной. Я не знал, как мне к нему обращаться, и поэтому спросил, кто он. Он посерьезнел и развел руками, не выпуская алюминиевого ножа:
– Безвестный борец революции, товарищ. Сижу здесь потому, что не решился убить того, кто потом меня угробил.
Из-за света фонаря нельзя было понять, какое небо – ясное или облачное. Часы показывали половину третьего утра. Нас было шестеро. Перрон был безлюден, только в дальнем его конце, около уборных, прохаживались двое в форме железнодорожной милиции. Дежурный по станции, скрестив руки и покуривая, стоял за закрытой дверью канцелярии – я заметил через стекло его красную фуражку. В поезде почти никого не было. Нас загнали по двое в три пустых купе. Я был скован парой наручников с кондуктором шишенского вокзала. Я заметил, что он с трудом передвигается. Напротив нас, держа на коленях винтовку, сел карабинер. Лампочка под потолком горела еле-еле. Казалось, вот-вот она погаснет и дарует нам темноту. Тогда, может быть, я засну. Я хотел есть и еще больше – спать. Некоторое время спустя карабинер отложил в сторону мешок с сухим пайком и забросил на полку свою наполеоновскую шляпу. В свете фонаря блеснула его большая желтая лысина. Оконное стекло было черно от сажи. Перрон казался через него еще грязнее, чем был на самом деле. Свет был неровный, пятнистый, и люди, время от времени проходившие мимо, казались неопрятными, их лица – неумытыми. Карабинер то открывал, то закрывал глаза, будто желая получше рассмотреть нас. Мой сосед вертелся на месте, точно сидел на осином гнезде. Из коридора доносился негромкий разговор. Он явно пришелся не по вкусу карабинеру, потому что он встал и захлопнул дверь, так что стекла задребезжали. Потом снова сел и стал моргать глазами, как лягушка в просе. Глаза у него были припухшие. Руки он непрерывно держал на винтовке с примкнутым штыком. На безымянном пальце у него был золотой перстень, блестевший подозрительным блеском, а в кармане, вероятно, фотографии его «bambini». Кондуктор заворчал, что ему холодно. Я посоветовал ему запахнуть рубашку и пиджак. В ответ он оскалил желтые зубы, но я так и не понял, что это означало. Тогда я предложил ему поспать. Все равно никто не придет проводить нас. Под глазами у него были темные круги. Когда он хлестнул карабинера взглядом своих черных глаз, тот съежился и стал смотреть в сторону.
Кондуктор вдруг спросил меня, куда я еду, и я ответил, что не знаю. Так как делать было совершенно нечего, я начал рассказывать о себе. Впервые после многих дней И ночей, проведенных в тюрьме, где я главным образом молчал, я мог разговаривать с человеком, которого не надо было опасаться, и мне стало легче. Карабинер наблюдал за нами. По его глазам было видно, что он не понимает ни слова. Два раза он выходил в коридор узнать, когда отходит поезд, и оба раза возвращался очень быстро. Мне вспомнилось утро в Бельгийских казармах, когда нас на рассвете выпустили в уборную. Неожиданно я почти столкнулся с Люлеком. Я страшно обрадовался – давно уже не видел никого из наших ребят, – и особенно, быть может, потому, что Люлек был такой сердечный малый. Он удивленно смотрел на меня своими синими глазами и молчал. «Что с тобой, Люлек?» – спросил я. «Ты тоже предатель? – спросил он. – Демосфен – предатель». По его щекам скатились две большие слезы. Я хотел ему что-то сказать, но в это время нас погнали назад. Часовой в коридоре орал: «Forza!»
– Forza! Forza! – и теперь заорал кто-то рядом с поездом.
Скорее всего, какой-нибудь офицер. Кто-то стучал молотком по колесам нашего вагона. От черного паровоза поднималось облако белого пара, оно тянулось к тусклым фонарям. Послышался сиплый свисток.
– И что теперь? – спросил кондуктор.
– Теперь? А что я могу сделать теперь?
– И что ты собираешься делать теперь? – повторил он.
– Ничего, – сказал я, – буду сидеть, пока все это не кончится.
Машинист дал сигнал. Паровоз учащенно засопел. Поезд рывками сдвинулся с места. Красная фуражка начальника станции показалась на миг за рельсами и исчезла. Как только мы проехали станцию, небо прояснилось. Над городом притаилась пелена серого тумана, она защищала его от холода, Спускавшегося с высоты.
– Пальчики у тебя, точно у дамочки.
Я пожал плечами и посмотрел на его руки. Они были смуглые, поросшие волосами, с припухшими суставами, с крепкими обломанными ногтями. Держа их на коленях, он барабанил пальцами в такт стуку колес.
Из тумана темной тенью выплыл Град. Я вспомнил стихи Жупанчича, которые мы в школе учили наизусть: «Как вьется волна вокруг скалы, так льется вкруг Града Любляна, луной осиянна…» У меня сжалось горло. Вспомнилось прошлое, то, что не прошло и не пройдет никогда. Но за этот год ведь многое изменилось, пытался я утешить себя, и если за следующие тоже кое-что изменится, то к концу войны в мире действительно произойдут кое-какие перемены. Ничего страшного, повторял я себе. Я вернусь, как дважды два, вернусь.
Быть может, горечь расставания в том и заключается, что оно стирает печальные воспоминания и открывает мне глаза на прелесть этого проклятого предместья, с его палисадниками и той жизни, к которой я был несправедлив. Оттуда до центра города – десять минут ходьбы. Впрочем, город для такого мальчика, каким я был в свое время, – это что-то тревожное, непривычное, тесное и чужое.
Мы чувствуем там себя неловко – давка, спешка, смысла которой не понять, по вечерам там слишком много огней и всегда слишком много полицейских. На мостовой нельзя бить свинчатку, нельзя играть в классы, а тем более в ножички или испытывать руку и глаз с помощью рогатки и уличных фонарей. В городе нет ни лужаек, ни поросших травой тротуаров, на которые можно прилечь и хоть немного отдохнуть от напряженной жизни, которая летом начинается рано утром и продолжается до глубокой ночи. В городе нет девчонки, которая подошла бы к тебе и сказала: «Проводи меня к подруге. Я несу ей списать домашнее задание. Она, знаешь, туговато соображает». Девочку ничуть не смущает, что ты в коротких штанишках, что у тебя ободраны коленки. Ты чувствуешь себя рыцарем из читаного-перечитаного романа и готов драться не на жизнь, а на смерть с каждым, кто посмеет к ней приставать. Ни у тебя, ни у нее нет и мысли о чем-нибудь плохом, хотя вы оба уже в том возрасте, когда мальчик начинает мечтать о девочках, а девочка – о замужестве. Но сейчас все это где-то далеко, и эта встреча немедленно занимает свой уголок в ящиках памяти.
Ты рассказываешь ей, в какую школу ходишь, а она тебе рассказывает про свою школу. Затем ты говоришь, что твой отец железнодорожник, а она говорит, что ее отец тоже железнодорожник, или дорожный смотритель, или шофер, или что-нибудь в этом роде. Вы выясняете, что живете совсем рядом, и теперь тебе нечего стесняться своих ободранных коленок. Особенно после того, как она говорит, что у них в саду тоже две грядки и одно дерево. Затем ты вспоминаешь, что знаешь ее семью, а ее саму не узнал сразу потому, что еще в прошлом году она была незаметной, неприметной замухрышкой, а сейчас вдруг за одну зиму вытянулась, ноги у нее округлились, куда-то девались острые коленки, и вся она совсем другая и все по-другому. Ты смотришь, говоришь, думаешь и припоминаешь, что в свое время ты таскал ее за косички и дразнил: «Сопля-размазня, лучше вытри свой нос, чем хныкать и ябедничать».
А она признается, что считала тебя шпаной, грубияном и бессовестным, как все остальные мальчишки, но что сейчас ты изменился к лучшему. А она не водится со шпаной, она воспитанная девочка. Ты краснеешь и не знаешь, что сказать, потому что среди ребят все наоборот: чем больше ты шпана, тем больше тебя уважают. Потом она приглашает тебя играть в пинг-понг к ним во двор. Там, мол, все очень здорово. И прощается.
Ты отправляешься домой или на какую-нибудь лужайку, ложишься на спину, поднимаешь коленки к самому небу и наблюдаешь, как по нему друг за другом плывут облака или пляшут бабочки. Ты кажешься себе большим и умным, и ты великодушно прощаешь девочке, что она немного шепелявит и что у нее совсем маленькая грудь. Ты вспоминаешь другую девочку, она не шепелявит и грудь у нее не маленькая, но зато она какая-то неприступная, ходит, покачивая бедрами, как взрослая, а ты-то знаешь, что она еще не взрослая, потому что она твоя ровесница; и, когда она взглянет на тебя своими блестящими глазами, ты не видишь в них ничего, кроме презрения, и отвечаешь ей тихой ненавистью. Ты покусываешь травинку, улыбаешься про себя и думаешь, что когда-нибудь ты женишься – все равно когда, время ведь придет – вот на этой девочке, которая так мило шепелявит и у которой такая нежная грудь. Вскоре являются Леопард, или Тихоход, или оба вместе и тоже укладываются на траву, задрав колени. И ты не можешь не рассказать им все это, разумеется приукрасив в соответствии со своим недозрелым вкусом, чтобы они не догадались, о чем идет речь. Мальчишки все шпана, никогда не знаешь, какую пилюлю они тебе преподнесут. Все девчонки вероломные, а мальчишки хулиганы. И вдруг тебе делается неприятно, что вы между собой называете грудь молочной, ноги – ходулями, а рот – клювом, рылом или мордой. Ты становишься чувствительным и стыдливым, не решаясь в этом признаться. Конечно, друзья загогочут, если узнают, чем набита твоя голова. Но в один прекрасный день ты замечаешь, что Тихоход, или Леопард, или еще кто-нибудь утратил свое пристрастие к грубым шуткам. Он, конечно, страшно удивляется, когда ты сообщаешь ему, что он влюблен, особенно если угадываешь предмет его любви – какую-нибудь голубоглазую девчонку с курносым носом и мышиными зубками. Правда, он не смеет с ней даже заговорить, а если и осмелится, то говорят они о школе, о кино или в лучшем случае о футболе, как будто на свете нет ничего, кроме школы, кино и футбола.
Некоторое время ты слоняешься без толку – все ждешь встречи с ней, хоть и знаешь, что не встретишь ее, не можешь встретить. Она уехала на каникулы к тете в Ровты, но ты все-таки бродишь и бродишь, узнавая потрясающие вещи: что у пекаря, которого ты знаешь давным-давно, одна нога деревянная, что мясник каждый вечер ругается со своей женой, потому что она не умеет запирать кассу; что у одного чиновника есть ребенок от его служанки или что девушка, которую ты знаешь, отравилась от несчастной любви. И кто-нибудь тебе рассказывает, что та девочка, та самая, неприступная, лежала с кем-то на травке на Головце и ее выследил один человек – он сам бы не прочь с ней полежать – и раззвонил об этом направо и налево, так что в конце концов об этом узнала ее мать и сказала отцу, а отец взял в руки ремень (наверно, остался как память о первой мировой войне) и выполнил свой отцовский долг – избил ее до потери сознания. После этой истории она или еще выше задерет нос перед неоперившимися петушками, или в один прекрасный день ты встретишь ее униженной, несчастной и заплаканной. Тебе жаль ее до глубины души, хочется подойти к ней, погладить ее по волосам, простить ей и легкомыслие и неприступность и сказать, чтоб не плакала, бедняжка. Не надо плакать, даже если парень после той истории бросил ее и теперь ходит в лес с другой, не надо плакать – ведь ничто еще не потеряно, разве можно в молодости так отчаиваться! Но ничего этого ты не скажешь, потому что не найдешь нужных слов и не сможешь осушить ее слезы, которые здесь, в этом мирке огородников, воспринимаются как нечто само собою разумеющееся, точно они нужны и даже необходимы. Каждому человеку иногда становится невмоготу, и бывает, конечно, невмоготу и огородникам, и тем, кто выращивает мелких животных на продажу, – у них, правда, нет большой мечты, но зато много мелких желаний, похожих на цирковых пони – они все бегут галопом по кругу и никогда никуда не приходят, а подгоняют их печальные хорошенькие цирковые артистки – ведь всем известно, что цирковые артистки несчастные и что в своих вагончиках, похожих на железнодорожные, они тайком плачут и вздыхают. Ты не можешь ей ничего объяснить, этой бедной неприступной девочке, но несколько ночей ты спишь беспокойно и видишь небывалые сны.
И тебе только остается переболеть этой чужой болью, как своею собственной. Сейчас тебе кажется грязным то, что ты когда-нибудь сделаешь сам, несправедливой обида, которую ты сам когда-нибудь причинишь другому, ты осуждаешь то, что потом будешь оправдывать, и ты одновременно жесток и милосерден, мягок и нетерпим, полон ненависти и любви, и все это – словно так и должно быть. Ты не очень уверен в том, что так и должно быть, не знаешь, будет ли когда-нибудь иначе. Скоро ты утешишься, и снова все вокруг ответит улыбкой солнечным лучам – немощеные улицы, покрытые теплой пылью, зеленеющие деревья совсем как живые, а вечерами ты будешь стоять со своими ровесниками у фонаря, мудрствовать, рассказывать или слушать истории, скорее скабрезные, чем остроумные, и в тебе не угасает какое-то светлое ожидание, и ты сознаешь, что не хочешь быть ни грубым, ни низким, ни плохим, ни жестоким, ни несправедливым. Но ты чувствуешь, что когда-нибудь будешь и таким, – на то и дана жизнь, чтобы человеческое сердце окрепло и в хорошем и в плохом. Та девочка, что чуть-чуть шепелявит, за это время, быть может, уехала куда-нибудь или умерла, быть может, она ходит с кем-то другим, а ты только провожаешь ее взглядом и думаешь о ней. Быть может, ты пишешь грустные стихи и прячешь листки под шкафом, откуда их в один прекрасный день мама выметает веником, может быть, ты пишешь ей письма, которые потом сжигаешь со слезами на глазах. И все-таки, встретив ее, ты радуешься тому, что она жива, что она улыбается, что она все так же мило шепелявит и что грудь у нее стала чуть-чуть полнее. И тебе становится ясно, что то, с другим, было недоразумение, а у тебя есть возможность завоевать ее навсегда. Ты делаешься неловким, неразговорчивым, пытаешься найти выход из тупика в дерзости, пробуешь притвориться высокомерным, и иногда тебе это удается, но вдруг, неожиданно для себя самого, ты обнимаешь ее и целуешь в глаза, в щеку или в губы, а она убегает не оглядываясь. А ты так и не знаешь, как же обстоит дело, и все повторяется сначала.
Между тем мясник ссорится с женой, которая так и не научилась запирать кассу, у пекаря по-прежнему одна нога деревянная, и по вечерам в трактире «У деревянного идола» так же поют «пей до дна, пей до дна», в парадном пахнет нечистотами, а во дворе – лошадьми, улицы такие же пыльные, а сады зеленеют и благоухают, ты вдыхаешь их запах и следишь взглядом за облаками, плывущими неведомо куда, без приказов, без цели. Перебираешь с товарищами в памяти прошедшее и петушишься, ибо твердо веришь, что вот-вот настанет время – и ты созреешь, и двери неведомого мира настежь распахнутся перед тобой, как в кино, только неизвестно, кто их распахивает. А ты встанешь и очень просто уйдешь. Через некоторое время ты, быть может, вспомнишь свою молодость и вернешься. Или уже не вернешься. И все также лупится штукатурка с домов, но не облупляется до конца, старые трубы клонятся набок, но не обрушиваются, на дороге появляются ямы, но бог весть как они почему-то выравниваются. Мясник уже два или три раза перекрашивал свою вывеску, и каждый раз на ней по-новому нарисована свиная голова. Зато вывеска пекаря не меняется: сколько ты себя помнишь, на ней никогда не было ни картинок, ни надписей. И собаки меняются: что для тебя молодость, для них – век, для тех, что не попали в проволочные ошейники живодеров. Всегда найдется какой-нибудь молодой пес, которого ты без жалости гоняешь, пока он, окончательно покоренный, не прибежит на твой свист и не лизнет твою руку. Ты ходишь играть в пинг-понг или на лужайку гонять мяч, и всегда там есть кто-то еще, у кого есть сетки, мячи, и мячики, и ракетки, а у тебя одни консервные банки, рогатки собственного изготовления и палки – драться или там еще для чего-нибудь. Ты набиваешь консервную банку старой пленкой, поджигаешь ее и бросаешь в Градащицу.
Оглядываясь, неожиданно понимаешь, что твоя память – это целый мир, целая жизнь, как бы коротка она ни была. И вдруг становится обидно, что все это кончилось и что для тех, кто придет вслед за тобой, не будет уже ни твоих огорчений, ни твоих радостей. Ты сознаешь, что сам подрывал этот мир и будешь продолжать его разрушать, и все-таки никогда не забудешь мячей, сеток и консервных банок, лужаек и садиков, не забудешь слез, вызванных первыми столкновениями с жизнью, девочек, которые слегка шепелявят, – у них маленькие груди, они такие нежные и хрупкие по сравнению с тобой, грубым и неотесанным.
– Пальчики у тебя точно у дамочки.
Я бросил на него сердитый взгляд. Он мешал мне думать своим пиратским видом и бесцеремонными разговорами.
– Ты хоть работал когда-нибудь?
– Нет, – ответил я, – не работал. И кроме того, я не переношу головорезов, таких вот, как ты. Иди к дьяволу…
Он даже не обернулся. Глядя в окно, заметил отсутствующим тоном:
– Сам я родом с Вича.
Мимо нас, как отдаленное воспоминание, проскользнул неясный красный свет.
– Вытяни, – сказал он, – не отрываясь взглядом от закопченного стекла.
– Что вытянуть?
– Руку.
Он положил свою закованную правую руку на спинку скамьи, так, что карабинер, сидевший у дверей, не мог ее видеть.
– Попробуй. Может, получится.
Я чувствовал, что он крепко держит двадцать сантиметров цепи, связывавшей нас, это чтобы она не гремела.
– Не выходит, – сказал я. – Крепко заковали.
– У, недотепа, – заворчал он.
– Иди ты к чертям, – сказал я. – Почему ты сам не вытянешь?
Левой рукой он приподнял левую штанину. Я увидел, что нога у него в гипсе, как в сапоге. Рассмотрев хорошенько его грудь, я понял, почему он не застегивает ни пиджак, ни рубашку. Грудь у него была похожа на отбивную котлету – сплошная рана. В одних местах она уже затянулась грубой коркой, в других – из глубоких ссадин сочилась сукровица. Я не нашелся, что сказать. Кондуктор обратился к карабинеру и попросил сигарету. Карабинер вздрогнул, как от испуга. Достал из мешка пачку «Милитаре» и швырнул на колени кондуктору. Когда тот взял сигарету в рот, итальянец дал ему прикурить от зажигалки, сделанной из винтовочной гильзы.
– Спасибо, – пробормотал кондуктор. Он жадно, быстро втягивал дым, так что соломенная сигарета шуршала. Через некоторое время заговорил снова: – Если ты не смотаешься отсюда, ты просто дурак. Заковали тебя плохо. А руки у тебя как у девчонки. Тебе что, хочется там сгнить? Ты думаешь, имеешь право отдыхать? А? А домашние? Ты с ними до конца рассчитался? А тот учитель и девушка, о которых ты мне рассказывал? Что? Если бы не они, тебя бы давно уже черти унесли. А ты: «Буду сидеть, пока все не кончится». Эх ты, размазня…
Кровь бросилась мне в лицо, а он все говорил, сдержанно, с неподдельной злобой, не поворачиваясь ко мне. Губы у него дрожали, рука, лежавшая на коленях, беспокойно шевелилась. Она двигалась, как самостоятельное существо, точно не была частью этого грузного, истерзанного тела. Он умолк. Я не отвечал. Я смотрел на карабинера. Он по-прежнему открывал и закрывал глаза, очевидно борясь со сном. Золотой перстень мутно поблескивал в мерцающем свете лампочки. Я откинулся на спину и закрыл глаза. Мертвый Сверчок прошел по коридору и беззвучно толкнул дверь. На его кудрях мелкими блестящими капельками осел утренний туман. Он смотрел на меня со своей мягкой, ободряющей усмешкой, так хорошо знакомой мне. «Это ты? Почему ты не бежишь? Ты же хотел видеть море! Ты увидишь его, и тебе не придется за это краснеть». Он улыбался, и я тоже улыбнулся, горько и растерянно. Он беззвучно притворил дверь и вышел через окно, не оборачиваясь. Я закрыл глаза, губы у меня задрожали: «Мария, – спросил я, – что мне делать?» Мимо окна в жутком беспорядке проносились деревья. Молодой месяц застрял в телеграфных проводах. Через некоторое время он высвободился и перекатился по другую сторону рельсов.
– Я покончу с собой, – сказал я.
– И покончи, – заворчал он. – Это все-таки лучше.
Он снова положил между нами свою правую руку и придавил цепь. Проклятая лампочка. Я поднял правую руку к губам и послюнил ее, затем смочил ею запястье левой руки. Кондуктор левой рукой распахнул рубашку и начал дуть на свою истерзанную грудь. Карабинер выпучился на него как на привидение. Кондуктор, не обращая на него внимания, стонал и дул на раны. Потом он взглянул на карабинера и укоряюще покачал головой, будто говорил: «Видишь, братец, что вы за народ!» Он даже попытался улыбнуться. Карабинер отвел глаза и еще крепче вцепился в винтовку.
– Ну как, получается?
– Да, – ответил я. Я не посмел сказать ничего другого. Я сжимал руку и пытался вытянуть ее. Если бы я мог помочь себе другой рукой, получилось бы наверняка. Я сказал ему об этом. У него сверкнули глаза.
– Постой-ка, – сказал он, – мы его сейчас выставим. Он вытер губы правой рукой, цепь отвратительно звякнула. В это время поезд остановился. На перроне стоял человек в форме, с фонарем. Он что-то кричал машинисту. Карабинера явно не тянуло подышать свежим воздухом. Он сидел как приклеенный, прижимая к себе винтовку.
– Выскочишь, когда будем подъезжать к Логатцу, – сказал кондуктор. – Я знаю линию. Я здесь ездил. Если он не выйдет, я тресну его по башке ботинком.
Он стал стаскивать ботинок – высокий, тяжелый, кованый ботинок, похожий на солдатский. Нога была обернута в грязные, пропотевшие портянки. Карабинер поморщился.
– Хорошо на его плеши отпечатаются гвозди. – Кондуктор скорчил гримасу. Это, вероятно, должно было изображать улыбку.
Поезд резко сдвинулся с места, послышался свисток. Дверь в купе распахнулась – показался карабинер с фонарем на груди. Он окинул нас взглядом своих блестящих карих глаз и закрыл дверь.
– Как только подъедем к Штампетовскому мосту, – сказал кондуктор. – Там со всех сторон лес. Первый день пересиди в лесу, на второй день, когда тебя перестанут искать, чуть стемнеет, иди на Врхнику. Я тебе скажу, к кому постучаться, они тебя переправят куда надо.
– Но… – начал я.
– Никаких «но». Смотри прыгай сразу и как можно дальше от поезда. А то затянет под колеса. Кустарника не бойся. Ничего с тобой не случится, если немного поцарапаешься.
Я сидел подавленный. Должен, думал я про себя, всем я что-нибудь должен. Может быть, отцу и матери тоже? Поезд шел у подножия холма. Склонив голову набок, я увидел деревья на вершине холма, а над ними звезды – осколки стекла, рассыпанного под зубчатыми очертаниями холма. Я никогда к ним не вернусь, сказал я про себя, никогда… И покраснел от стыда. Я размышлял. В конце концов… Чтобы успокоиться, я крепко зажмурил глаза. Тяжкое бремя опять навалилось мне на плечи. Человек, взваливший его на меня, снова принялся дуть себе за рубашку. Карабинер отвел глаза и устремил взор куда-то вдаль.
– Воды, – неожиданно застонал кондуктор.
Карабинер изобразил удивление, точно это не к нему относилось.
– Аква, – громко повторил кондуктор. Заросшее лицо его побледнело, сухие глаза вращались в почерневших глазницах.
Карабинер вздрогнул и пожал плечами.
– Аква, – повелительно повторил кондуктор. Он поднял руки, показывая, что просит глоток воды.
Карабинер закатил глаза, желая сказать, что он бессилен помочь. Однако через некоторое время он встал, постоял в нерешительности и открыл дверь.
– Альфонсо! – позвал он. Никто не отзывался. – Альфонсо!
Он вышел в коридор, прикрыв за собой дверь.
– Скорее, – зашептал мой сосед. Свободной рукой он прижал мою левую руку к скамье. Навалился на нее всей своей тяжестью, так что у меня захрустели кости. Я застонал от тупой боли, а он вырвал мою руку из наручника, не щадя сдиравшуюся кожу. Он выругался от радости и стремительно бросился к окну, но не мог сдвинуть с места раму.
– Дьявол, придется разбить!
– Альфонсо! – кричал в коридоре карабинер. Мы поспешно уселись и уставились на темное стекло. Карабинер заглянул в купе, закрыл дверь и снова крикнул:
– Альфонсо!
Кондуктор поднялся, взял ботинок и ударом каблука разбил стекло. С сухим звоном оно осыпалось почти до самой рамы.
– Прыгай!
Мгновение я колебался. Потом, повиснув руками на багажных полках, выбросил наружу ноги. Осколки стекла впились мне в зад. Левой руки я почти не чувствовал. Держась за верхнюю раму, я высунул голову. В глаза понесло искры и дым. В таком положении я задержался секунду, не в силах заставить себя спрыгнуть в бездонную пропасть. Тогда кондуктор – я так и не спросил его имя и фамилию – решительно пнул меня в спину. Я все же успел оттолкнуться ногами от стенки вагона, чтобы не попасть под колеса. Сквозь облако дыма и искр я полетел вниз, в невидимые кусты. Меня качнуло и подбросило, будто я прыгнул в натянутый гамак, и отшвырнуло в овраг за насыпью. Я поджал под себя ноги, пошевелил пальцами и ощупал лицо. Почувствовал острую боль в животе. «Еще с того раза, – подумал я, – пройдет». Подняв голову, посмотрел вслед поезду. Между темными стенами леса, вдоль рельсов, брезжил рассвет. Сверкнула росой паутинка. К небу поднимался столб дыма, из которого сыпались искры. Затем он скрылся за холмом на повороте, и единственное, что я мог рассмотреть, был мечущийся и словно скачущий красный фонарь на последнем вагоне. Завтра с Врхники я смогу написать Марии, подумал я. И отцу. Я знал, что его уже выпустили. И вдруг мне почудилось, что я не один.
– Сверчок! – окликнул я. Прислушиваясь, я сосал свою окровавленную руку. Я бросил взгляд вслед красному огоньку, уже окончательно исчезнувшему из виду, и еще раз громко позвал: – Сверчок!
notes
Примечания
1
Освободительный фронт (ОФ) – так называлась подпольная организация антифашистского сопротивления в Словении, работавшая под руководством КПЮ.
2
Beno Zupančič. Sedmina. Ljubljana, 1975, s. 306—307.







