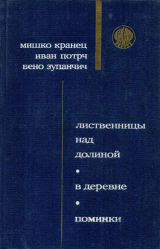
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Фердинанд был уже старый, ненамного моложе меня, седой, почти беззубый – олицетворение убожества нашей жизни. Поэтому первым чувством, ожегшим меня при виде его трупа, было своего рода облегчение – рухнула еще одна опора этого проклятого мирка. Но отец… при мысли о нем мне все больше становилось не по себе. Меня – сам не знаю почему – разъедало неотступное ощущение вины.
Теперь я совсем один. Хожу по комнатам, смотрю на вещи и думаю: эта принадлежала Давиду. Эта – его матери. Эта – его второй матери. Она его любила, как родного. Давид знал об этом. И любил ее. Когда она умерла, он плакал. Я хожу и смотрю, и временами мне кажется, что меня самого нет в живых. Все вокруг меня и во мне самом умерло. Жена, вторая жена, единственный ребенок, вещи. Никто не разговаривает, не слышу ни шагов, кроме своих собственных, ни человеческого голоса, кроме собственных вздохов. На меня смотрят глаза, смотрят с портретов, с фотографий, со всех вещей, принадлежавших когда-то им. Так вот и умрешь еще до собственной смерти.
Он долго смотрел на меня не двигаясь. Я видел лежавшую перед ним бухгалтерскую книгу, а на краю стола – Ветхий завет в кожаном переплете. В глазах его, когда он вошел, не появилось ни удивления, ни недоверия. И я невольно подумал, что этот человек, должно быть, давно уже от всего отрешился.
– Садитесь, – сказал он мне. – Мы здесь одни.
Рядом с письменным столом стояло старое кожаное кресло. Комната представляла собой склад, до потолка набитый полками и коробками. Он сел, и я тоже сел, сам не зная, зачем я, собственно, пришел.
– Мы со Сверчком были одноклассники, друзья.
Штейнер откинулся назад и смотрел на меня спокойно, печально, без блеска в глазах, и, когда он жаловался мне на свое одиночество, я все время думал о том, что так же одинок был и Сверчок.
– Это ужасно, – сказал я, потому что не знал, что еще можно сказать, – Я был рядом, когда это случилось.
– Да? Правда? Он был не один?
– Нет, – отвечал я, – мы были вдвоем. Мы несли документы, от которых зависела жизнь многих людей. Мы были обязаны спасти их. Я нес портфель, а Сверчок прикрыл меня и дал мне возможность уйти.
Штейнер беспокойно задвигался. Лицо его исказилось в судороге.
– Разве это так произошло? Господи, разве его убили не случайно? Господи боже мой, ведь меня известили уже после того, как его похоронили. Мне сказали, что его убили по роковому стечению обстоятельств… Так сказать, несчастный случай.
– Нет, – сказал я, – было так, как я рассказываю. Я пришел бы к вам раньше, если бы не был ранен.
– Так он знал, что его ожидает?
– Он держался геройски, – выдавил я из себя. – Я, раненный, успел укрыться в безопасном месте, пока он их сдерживал.
Я заметил в его глазах слезы. Он не чувствовал, как они поползли по его щекам. Он вытер их рукавом и встал. Ему хотелось пройтись по комнате, но было некуда шагнуть. Он опять сел, опершись локтями на стол.
– Я… я… я… не знаю, что мне делать… Я… – всхлипывал он. – Могу я вам чем-нибудь помочь? Может, вам нужны деньги? Или что-нибудь еще?
– Нет, – сказал я, – у меня есть все необходимое. А деньги, если они у вас есть, дайте на народный заем. Они нам очень нужны.
– С удовольствием.
– Я пришлю к вам человека, который их примет. Он скажет, что его прислал Брадач. А я не уполномочен принимать деньги.
– Присылайте.
Он сидел задумавшись, опустив голову на руки, точно забыв обо мне. Я уже собирался встать и бесшумно исчезнуть, но тут Штейнер поднял голову:
– Скажите мне, пожалуйста, у него была девушка?
Я удивленно поморгал.
– Да, – ответил я с трудом, – он любил одну девушку, но никогда ей об этом не говорил.
– О, – воскликнул он, – я чувствовал, мне казалось, я ведь и сам был таким! Я был таким же!
Мне нечего было сказать. Человек в черном. Весь в черном. До самой смерти он будет в черном. В горле у меня что-то сжалось. Я отвел глаза и без всякой прямой связи подумал о своем отце.
Первое, что мне казалось нужным сделать, едва я оправился, – это зайти к отцу Сверчка. Я и сам, в общем-то, не знал, зачем я к нему пойду и что буду говорить, но я чувствовал, что прежде всего должен пойти именно туда, что это меня гнетет и я не успокоюсь, пока не схожу к нему. В этом было какое-то мучительное утешение, необходимое дополнение ко всему, что накопилось во мне после смерти Сверчка. На обратном пути я удивленно оглядывался вокруг, точно шел не по Любляне. Я чувствовал, будто во мне что-то сдвинулось, отдалилось. Точно все унесли куда-то набухшие вешние воды и в то же время прошлое осталось нетронутым в моей памяти. Кипучий восторг, которого я раньше так боялся, нервное нетерпение, разъедающая тревога, мысль о том, что мой долг мне не по плечу, болезненная ревность к постоянству и стойкости Марии – все это прошло. Постель в комнате Марии была как корабль, стремительно и незаметно переправивший меня на противоположный берег. И я знал, а после свидания со Штейнером убедился окончательно, что удивительная внутренняя стойкость Марии вселилась в меня. Вместе с болезненным восторгом, который теперь казался мне схожим с опрометчивостью, прошла и неуверенность, и затаенное опасение, что все, что я вижу, что слышу и чему верю, неправда. Мое спокойствие теперь не было только спокойствием – это была готовность и преданность сильного, знающего себе цену человека. Разговаривая со Штейнером, я почувствовал, какая пропасть между его и моей преданностью. Ведь его готовность была всего лишь маской тихого беспросветного отчаяния.
От Штейнера я пошел к Мефистофелю узнать, что нового и за что мне приниматься. Мефистофель жил теперь на Римской у какого-то отставного жандарма, без конца ковырявшего свои желтые зубы. Этот костлявый старикашка отличался практическим складом ума и нелюбовью к долгим размышлениям. У Мефистофеля я застал Тихохода, они играли в шахматы. Я подсел к ним и стал их разглядывать, точно намереваясь заново с ними познакомиться: с Мефистофелем, всегда погруженным в свои мысли, и с Тихоходом, вечно заспанным, добрым, на вид легкомысленным, что часто давало повод судить о нем неправильно. Тут же сидел и старик жандарм. Фамилия его была Подкозлочек – меня это ужасно смешило, – он ковырял в зубах, курил сигару и, прикрыв глаза, рассказывал жандармские истории.
– Да, да, – говорил он, – свинство, а не служба, доложу я вам, ребята. Требовать честности на такой службе – нет, это я вам скажу, слишком много вы хотите от бедного человека. Говорю я вам, у каждого в жилах течет та же кровь, все немного честные и немного нечестные, и каждого легко посадить за мошенничество, если не за крупное, то за мелкое. Только вот одному повезет и его выпускают, а других сажают независимо от того, нарушали они закон или нет.
Мефистофель не слушал его – он знал наизусть все его истории и жандармскую философию, Тихоход же скалил зубы и перебивал его неожиданными вопросами. Очевидно, он видел его впервые. И тем не менее он спросил:
– А что, правду говорят, будто вы отбили жену у своего начальника?
Старик захихикал и прикрыл глаза, точно желая сказать: ну не хитрец ли я? Потом шлепнул себя по коленкам.
– Да, было что-то в этом роде, баба была что надо. Вернее сказать, соблазнила меня она, а не я ее. Всегда у человека есть своя мораль, какое-то, что ли, уважение к вышестоящему лицу, и искушение должно быть поистине дьявольским, чтобы он ему поддался.
Мефистофель бросил на него недовольный взгляд и сказал, не поднимая головы от шахматной доски:
– Хватит, старик. Тебе пора. Нам надо поболтать о своих мужских делах. А ребята при тебе стесняются.
Старик засмеялся – с таким звуком течет вода по старой водосточной трубе – и убрался. Мефистофель посмотрел на часы.
– Можешь у меня переночевать. Будет облава – смотаемся через двор. Утром ко мне зайдет Тигр, надо поговорить…
Он встал, выглянул за дверь, повернул ключ и улегся на кровать, покрытую ветхим зеленым одеялом. Тихоход принялся напевать «Наточим косы». Мне вдруг показалось, что комната стала теплой и уютной. Мы разговорились. Я больше слушал, чем говорил, и меня не покидала мысль, что я стал совсем другим. Мы почти не упоминали о войне, о заданиях, о политике. Мефистофель рассказывал о жене, о ребенке, о том, как они жили до войны (они поженились за год до нее) и как они – парень и девушка – ходили по воскресеньям к св. Йошту, на Шмарную гору, на Строжич, на Триглав, на Голицу, на Камницкий перевал.
Лампа мягко освещала наши лица, и старый Подкозлочек преданно взирал на нас с висевшей на стене фотографии строгими серыми глазами из-под низко надвинутой жандармской фуражки. У Тихохода была заспанная физиономия. Лишь иногда по ней, как луч утреннего солнца по реке, пробегал какой-то свет. Кудлатые волосы падали ему на лоб, иногда он откидывал их назад, но они опять лезли в глаза. Выразительное лицо Мефистофеля было в полутени, только его черные глаза сверкали темным блеском, и этот блеск привлек мое внимание. И я сказал про себя: для него, как и для меня, что-то уже миновало, но каждый новый день рисуется ему ярче прошедшего. В этом замкнутом, немногословном человеке жила огромная способность любить. Потом заговорил Тихоход – о том, как он познакомился со Звездой и как она ему наврала – теперь-то он точно знал, что никакого Милана не существует, что у нее вообще нет парня и все это она придумала, чтобы он к ней не приставал. Он почесывал за ухом и похохатывал, мы с Мефистофелем тоже смеялись. Это походило на правду – все, что он рассказывал, все, что думал предпринять и что помогало ему собраться с духом.
Тихоход стал прощаться, и я пошел с ним. Я подумал, что Мария будет волноваться, если я не приду, а мне этого не хотелось. Мы договорились встретиться утром пораньше, как только придет Тигр. По дороге Тихоход говорил мне:
– Я знаю, в чем дело. У нас заберут револьверы. Им нужны десять штук. Пять у них уже есть, три у нас – это восемь, и еще пару надо достать к послезавтрашнему дню. К тому же нам придется добыть кое-что для себя. Дьявол, я сдаю, наверно, уже третий. А ты?
– Ну, – сказал я без всякой досады, – у меня это будет пятый, не считая того, что я взял в школе.
Дома было тихо. Я бесшумно отпер дверь и хотел проскользнуть в комнату для прислуги, что рядом с кухней, – я туда переселился из-за окна, выходившего в соседний сад, – но заметил под кухонной дверью тонкую ниточку света. Я вошел и увидел Марию.
– А, это ты, – спокойно сказала она. – Разве уже так поздно? Я, кажется, задремала.
Врет, подумал я, и как невозмутимо врет. Я сел с другой стороны стола, достал из кармана сборник Бора «Одолеем бурю», который мне дал Мефистофель.
– Послушай-ка. Такого ты еще не слышала.
Мы сидели за кухонным столом, накрытым клетчатой клеенкой, каждый со своей стороны. Я читал, а Мария слушала с широко раскрытыми глазами. Она совсем не казалась сонной.
Все грабь, все рушь, терзай огнем,
лес виселиц
ставь и режь!
Сквозь века, наша кровь, пылай и кричи:
– Голову поднял мятеж!
Когда вихрь в лесу завывает
в ночи,
крепость корня чуют сильные деревья.
И вот
в час, когда вы из почвы
рвете нас, палачи,
вглубь, до пепла, наш корень растет.
Те, кого вы вчера унижали, слепили,
вам в спину, в лицо стреляют сейчас.
Вам хвала —
ненавидеть вы нас научили,
услышать души и крови приказ![37]
Я читал целый час. И когда закончил, мы долго молчали. Мария сидела, не опуская глаз, и по их выражению я понял, что ее мысли постепенно перешли к чему-то совсем иному. К чему же? – подумал я вскользь, а она сказала, заметив мой испытующий взгляд:
– Надо завтра показать отцу.
– Да, – сказал я. – Он спит?
– Спит, – отвечала она, – но сквозь сон он слышит каждый шаг на улице, каждое движение в доме, каждую птицу в саду.
Я посмотрел на часы и встал.
– Он боится?
– Нет. – Она задумчиво покачала головой. – Я не знаю, как это назвать. Это не страх. Это что-то другое, я не знаю что.
– Уже поздно.
– Поздно, – пробормотала она, не двигаясь с места. Я обошел стол и провел пальцами обеих рук по ее волосам.
– А ты тоже слышишь каждый шаг на улице?
Она не ответила. Опустила голову на стол и спрятала лицо в ладони. Положив стихи в карман, я наклонился, Прошептал ей «спокойной ночи» и открыл дверь. Она подняла голову и усмехнулась мне как будто издалека, через пелену чего-то неведомого, все еще отсутствующая и неподвижная.
В своей комнатке я зажег лампу на ночном столике и встал у окна, думая о том, куда бы спрятать стихи. Затем запер их в ящик ночного столика. Сел на неразобранную постель и задумался. Лампа рассеивала по коврику и по полу желтоватый пятнистый круг света, а за ним лежала темнота. И из нее снова выходили люди, знакомые и незнакомые, живые и мертвые. Они были как воспоминание, как предупреждение, как призыв и как упрек.
На стене я с трудом различил написанную маслом картину «Перед грозой». Я погасил лампу, встал, отдернул занавеску и открыл окно. На улице стоял густой мрак и сначала мне показалось, что я забыл отодвинуть занавеску. Я посмотрел на небо – оно было набрякшее, как тело утопленника. Вглядевшись, я заметил по краям облаков кружевные отблески далеких зарниц. Я отошел к постели, присев на край, снял ботинки и подумал, что в самом деле не понимаю, что с ней. Не знаю. Я собирался уже встать, чтобы раздеться, как дверь тихо отворилась. Она вошла, и в темноте я различил что-то белое, перекинутое через руку. Непривычно быстро она прошла вперед, бессильно опустилась на коврик у постели я прислонилась головой к моим коленям Удивленный, я склонился к ней. Мне показалось, она хочет что-то сказать. И я действительно услышал, хотя она шептала едва слышно, едва различимо одно и то же слово, как будто в это мгновение забыла все остальные слова.
Гроза налетела на город, как всадник на одичавшем от испуга племенном жеребце, облака катятся огромными валами, в несколько слоев, нижние задевают за крыши домов, время от времени гремит гром, глубоко, глухо, гулко, молнии освещают серые колокольни и железные купола церквей, черепичные крыши домов, пустые улицы, качающиеся деревья, устремившие куда-то свои кроны, дождь стучит в стекла посеребренными или позолоченными молнией пальцами, и стекла позванивают, точно девушки отвечают нетерпеливым ночным гостям, а дождь все стучит, подчиняясь призывам ветра, стучит неравномерно, порывисто, то судорожно и стремительно, настойчиво, то нежно и ласково, маняще, будто шепчет тайные мысли или просит бог знает о чем; и ночь заглядывает в незанавешенные окна человеческих жилищ, озаренная молниями, любопытная и бесстыдная, взмахивает своими блестящими перьями с каймой из обжигающих стрел, и люди щурят глаза и беспокойно прислушиваются, будто к стуку собственного сердца, трепещущего сильно и требовательно, стесненного в груди.
Часовые у казарм попрятались в будки, они накидывают плащ-палатки и проклинают погоду, не признающую приказов, чуждую сожалениям, – погоду, которая живет своей жизнью, укрощенная и неукротимая. Вымытые улицы пусты, как будто люблянчане демонстративно празднуют какой-то свой праздник, стены домов намокли, смешно и наивно ворчат водосточные трубы; решетки канализации, журча, поглощают накопившуюся воду. Когда гроза вдоволь набуйствовалась, с севера резко потянуло ветерком. Властным движением он убрал последние обрывки туч с похолодевшего неба – звездного, чистого, далекого. Успокоились деревья, усталые и промокшие, утихли трубы и водостоки, солдаты вылезают из будок и осторожно перешагивают через лужи на тротуарах. В воде, как и на краю неба, отражается утро.
Гроза не дала ей сомкнуть глаз. Она прислушивалась к ударам грома – они докатывались издалека, бог весть откуда, и разражались, как нарочно, над самым домом в оглушительный гул. Слабо державшиеся в рамах оконные стекла тряслись, вызывая тоску. Дождь барабанил по деревянным ставням и приносил воспоминания – неясные, едва различимые, но все же воспоминания, от которых сжималось горло. Она оглядывалась на окно – свет молний проникал в ее комнату через щели в ставнях и на миг освещал противоположную стену – стену над постелью, где висело изображение девы Марии, которой ангел, преклонив колени, возвещал непорочное зачатие. Холодный слепящий свет и нестройный рой мыслей. Гроза была предвестником весны и лета, а весна вносила в кровь жгучую отраву. Этот яд, воспоминания, тоска и мысли сливались в ненависть, тем более требовательную и непреодолимую, что к ней примешивалась распалившаяся страсть. Тело жаждало любви, оно истомилось ожиданием.
Обливаясь жгучими слезами, она задыхалась. Когда гроза пронеслась, она встала и распахнула окно. В комнату проник свежий утренний воздух. Деревья заметно вздрагивали, точно были не в силах сразу успокоиться после того, что случилось, а в окнах домов на противоположной стороне улицы уже блеснул розовый свет утра. Ей не хотелось больше ложиться. Она придвинула к окну стул и села. Над крышами домов сверкал круглый кусок омытого, переливающегося зеленым цветом неба, и даже уродливая черная труба пекарни казалась стройной и блестящей. По улице торопился, крупно шагая, мужчина в форме железнодорожника. Через плечо у него висела сумка проводника, за поясом – закопченный фонарь. Шаги его, исполненные пустоты и отчаяния, отлетали от голого тротуара.
Если бы здесь был Карло. Но Карло нет. С тех пор как его нет, жизнь Филомены – легкомысленный, страстный порыв, жажда наслаждений – кончилась, остались вялость и безразличие. Отец посмеивался над ней, но молчал. Антон только однажды процедил сквозь зубы: «Ты связалась с итальянцами, а Нико – с коммунистами». Мать ведет себя странно, она не сочувствует, хотя и не смеется над ней, и все же ей, вероятно, кажется естественным и справедливым, что Карло убили. Впрочем, все это проходит мимо нее, как пролетает птица мимо окна, у которого она сидит, – не коснувшись ее. Одинокая, она подавлена, сломлена, опозорена. Если ей нужно выйти из дому, она выходит только в сумерках. Она избегает встреч с людьми. Запирается в своей комнате, если есть работа, садится к швейной машинке, а в груди ее постепенно накапливается зависть и злорадство, рожденные ненавистью. Ей не могут простить той маленькой капли радости, которую ей довелось испытать. И она довольна, что у отца все идет кувырком, что у него убили собаку и кота, стащили несколько кур и кроликов, – так довольна, что не всегда успевает скрыть радость, сияющую в глазах. А иногда это опасно. Однако и это утешение кажется ей отвратительным, как противен ей весь дом с тех пор, как она опять осталась одна. Когда к ним поселили преемника Карло, тоже унтер-офицера, она ожидала, что он поймет ее грусть. Тоска по Карло помимо ее сознания превращалась в тоску по кому-нибудь. Итальянец был высокий и бледный, точно чахоточный, с холодными, презрительными глазами, всегда смотревшими в сторону. Людей, живших в доме, он лишь наблюдал и обращался к ним разве что за самым необходимым. В первый же день он провел четкую границу между ними и собой: «Не надейтесь, меня не убьют. Я знаю, что этому способствует. И пусть никто без необходимости ко мне не приближается».
Он приходит и уходит, ничего не говоря, и единственное, что они слышат, – это его скрипку. «С ума сойти», – говорит мать. И в самом деле, мучительно слышать в этом мертвом доме чистые, пронзительные звуки скрипки. Как будто появляется что-то предательское, разоблачающее и переворачивает тебе внутренности. Отец бесновался, затем он сходил к знакомому и вернулся с барабаном. И как только наверху раздаются звуки скрипки, старик начинает барабанить сильно и яростно, с таким явным отсутствием слуха, что люди на улице останавливаются и прислушиваются к необычной музыке. Скрипка умолкает, Витторио Марти спускается вниз, он бледнее, чем обычно, плюется белой пеной. Старик спокойно запирает барабан в шкаф и смотрит в окно, готовый к приятию смерти. Мать объясняет Витторио, что старик в свое время играл на барабане в оркестре железнодорожных служащих и до сих пор иногда барабанит – так, для развлечения, человек он уже в годах, из ума немножко выжил, вот, случается, и тоскует по молодости. Марти смотрит белесыми глазами и уходит к себе в комнату. И опять, как только сверху слышится скрипка, внизу стучит барабан, затем умолкает сначала скрипка, потом барабан, а Марти бродит по дому – лицо чахоточного, с глазами, которые горели бы презрением, не будь они такими водянистыми. И все же в лице его есть словно какая-то невысказанная печаль: может, он и в самом деле смертельно болен или ему в минуту озарения вдруг стало ясно, в чем смысл человеческой жизни. Улыбнулся он, наверно, всего лишь раз – когда убили Фердинанда, – а ведь тогда расплакалась даже мать – пса она любила гораздо больше, чем мужа.
В городе легко скрыться от итальянцев – они ведь как слепые, разве что наймут предателей или сыщиков из местных. Зато от своих скрыться невозможно, и не только в центре города днем или в сумерки, когда там больше всего народу, но даже рано утром или поздно ночью, когда на улицах вроде бы никого нет, нельзя пройти по городу без того, чтобы тебя кто-нибудь не заметил. Вероятно, поэтому в Любляне издавна повелось, что человека там тем больше уважают, чем меньше его знают. И то, что утром, когда я выскользнул из дома Тртника, меня заметили по крайней мере две пары глаз, было не просто совпадением, потому что меня мог заметить кто угодно, не только Филомена и Антон, хотя, признаться, это не одно и то же, но не менее закономерно. Моя уверенность в том, что никто меня не видит, была по крайней мере наивна. Я всерьез верил, что, кроме нескольких товарищей, никто не знает, где я скрываюсь, а это было с моей стороны легкомыслием. Разумеется, об этом знали все соседи, хотя в те времена это было не столько опасно, как чуть раньше или чуть позже, когда война с ее недобрыми поборами даже люблянчан приучила молчать и хранить секреты про себя. Филомену не мог обмануть ни костюм, которого она на мне еще не видела, ни очки в черепаховой оправе. Увидев у входа в сад Антона, она подумала, что это все неспроста. Антон возвращался из тюрьмы. У калитки он оглянулся мне вслед и быстрее зашагал к дому. Заметив у окна Филомену, он сплюнул и сказал:
– Видела, а? Это на его совести тот, твой…
К пяти часам дня у нас было – вместе с нашими личными – только восемь пистолетов. Девятым должен был стать пистолет Пишителло, которого мы собирались подстеречь вечером, а за десятым мы стали лихорадочно охотиться наобум, ибо другого выхода не было. Часов около двенадцати мы разоружили какого-то карабинера у моста св. Якова. Опасаясь, как бы мы его не убили, он без устали разъяснял нам, что он отец пятерых детей. У него оказался барабанный револьвер, к которому у нас не было патронов. Винтовку его мы бросили в Любляницу. Он рассыпался в благодарностях, однако, чуть мы отошли, заорал: «Aiuto, aiuto!»[38]
Позже, когда мы направлялись через мост к Трновской церкви, невдалеке появился высокий полицейский в черной пелерине. Я огляделся и подумал: «Этого!» Словно по команде, мы ускорили шаг, с тем чтобы встретиться с ним как раз на углу. «In alto le mani!»[39] – прошипел Мефистофель. И, стоя на расстоянии метра друг от друга, все трое мы достали из карманов пистолеты. Полицейский удивленно остановился и что-то пробормотал в замешательстве, не трогаясь с места. Он только шевелил рукой под пелериной. Наверно, хотел достать пистолет. Дурак. Я поднял пистолет и выстрелил ему в грудь. Почти одновременно выстрелили Мефистофель и Тихоход. Полицейский покачнулся, отступил назад и осел наземь, привалившись к стене церкви. «Скорее! Тихоход, следи!» Я поспешно отогнул край пелерины и начал искать пистолет. Полицейский был молодой, красивый, с черными кудрями и черными усиками. Он смотрел на меня бесцветными глазами, и я не мог понять, потерял он сознание или нет. Я не ощущал ненависти, скорее жалость. Это за Сверчка, сказал я себе. Нащупав пистолет и передав его Мефистофелю, я заметил, что руки у меня в крови. Я кое-как обтер их о пелерину полицейского. Через минуту мы уже неслись обратно через мост. На мосту я обернулся. Полицейский был на том же месте, только голова, раньше лежавшая у него на плече, теперь свесилась на грудь. Он выделялся черным пятном на серой стене церкви. Какой-то старичок изо всех сил тащил за собой упиравшегося мальчика. Он хотел скорее уйти от церкви, а мальчик без конца оглядывался и спотыкался. Где-то с треском захлопнулось окно. Побледневший Мефистофель сказал:
– Все три попали в грудь. И неудивительно – с семи шагов.
Это за Сверчка, подумал я опять. Навстречу нам шли три карабинера. При виде их мы сунули руки в карманы, приготовившись драться. Заметив это движение, карабинеры перешли на другую сторону, словно нас и не было. Тихоход закричал им вслед:
– Синьоры! Посмотрите там, у церкви! Аттентат!
Они удивленно остановились, скинули с плеча винтовки и помчались к мосту. Но похоже, идти на мост им не хотелось, потому что пошли они через Градашицу к Краковскому валу. Тихоход засмеялся каким-то хриплым смехом.
– Разойдемся, – сказал Мефистофель, – На. – Он протянул мне пистолет полицейского. – Иди к Кассиопее, пусть спрячет. И побудь там до семи. В семь десять у киоска.
И мы разошлись, не сказав больше ни слова.
– Мойца, можно у тебя это оставить?
Она посмотрела на меня своими темными серыми глазами и улыбнулась:
– Неужели нужно спрашивать?
Она вышла, потом вернулась. Я сел и почувствовал себя страшно усталым. Кассиопея (так окрестил ее Тигр, потому что у нее было четверо прелестных ребятишек – целое созвездие) ловко и привычно хлопотала в маленькой кухне, где стены были выкрашены зеленой краской. Старшего мальчика не было дома, второй пристроился у двери и загонял гвозди в половицы. Девочка лет трех сидела у плиты и складывала поленья в подпечек. Самый младший, месяцев восьми, лежал в деревянной люльке и сосал соску. Муж Мойцы был рабочим-строителем. С самого начала зимы он сидел в подвале Бельгийских казарм, не зная, что с ним будет. А она сновала по кухне, раскрасневшаяся от жара плиты, и ее открытое лицо и полные зрелой женственности движения успокаивали меня. Улыбнувшись, она обнажила красивые белые зубы под пухлой верхней губой, но большие серые глаза остались серьезными. Вот настоящие пролетарии, думал я. Так они живут. Ютятся в двух крохотных комнатках, где едва можно повернуться. Мальчик, забивавший гвозди, случалось, попадал себе по пальцу, тогда он клал его в рот и смотрел сначала на маму, потом на меня. Подумав, решал не плакать. Девчушка у плиты – вылитая мать: светлые, слегка вьющиеся волосы и большие серые глаза – смотрела на меня серьезно и с интересом.
– Я сварю тебе кофе, – сказала Мойца, – только такой, суррогатный. Настоящего у меня нет. А почему ты спросил, можно ли оставить? Тебе что-нибудь сказали? Ты знаешь Блажа? Нет? Тебе не рассказывали, как я с ним поссорилась? Знаешь, такой легкомысленный старикашка, за свою задницу дрожит, а ко мне тащит все: передай это, передай то, да поскорее, слышишь. Послал меня как-то до того далеко, ну я положила в коляску ребенка и спрятала все что надо под него – бумагу, револьверы, клише и бог весть еще что. Шла и думала, вот-вот умру. Еще и полгорода не прошла – ну, думаю, все. Ноги подгибаются, вся обливаюсь потом, а сама оглядываюсь так, что на меня поневоле можно обратить внимание, а тут еще Грегец стал орать, как будто его режут. Ну нет, говорю я себе, больше так не будет. Одна буду ходить, а с ребенком – ни за что. Это мне не по силам. И по правде сказать, будь дома Грега, он бы меня не пустил с ребенком. Не могла я – и все тут. И когда он ко мне пришел опять с тем же, я его выставила за дверь. Потом всю ночь не сомкнула глаз. Нет, этого от меня требовать нельзя. Как хотят, но на это я не согласна. Да еще иметь дело с ним, с этим… Сам-то небось осторожничает. Он потом меня оговаривал где только мог, я-то знаю, ну и пусть… пусть только еще сунется с чем-нибудь подобным. Ну, если бы Грега был дома…
Она повернулась ко мне спиной, переставляя кастрюли на плите. Я взглянул на ребенка в люльке – он причмокивал соской и тянулся глазами к матери. Маленький, с ямочкой на подбородке, со светлым чубом на лобике. Мойца села, сложив руки на коленях.
– Ну, что скажешь? А как бы ты поступил? Здорово на меня обидятся?
Я смотрел на нее, понимая, что именно этот вопрос все время стоял в ее глазах. Что же ей ответить? Я видел, она боится и мужа – не уверена, что он одобрит ее поступок.
– Конечно, Грега бы этого не допустил, – сказал я. – Нигде не сказано, что не может быть какого-нибудь другого, лучшего способа.
– Веришь, я едва добралась до места. Все боялась, что потеряю сознание и тогда люди будут заглядывать в коляску. Вообще-то я не трусиха, правда нет, но с ребенком – господи, даже вспомнить страшно!
И тут мальчик попал себе молотком по ногтю и из пальца брызнула кровь. Он заплакал и подбежал к матери. Она взяла его на колени и, убрав волосы со лба, прижала к груди:
– Ну-ну, маленький, не плачь!
Закипел кофе. Она посадила мальчика ко мне на колени и, подойдя к плите, сняла крышку с кастрюльки. Мальчик успокоился, начал разглядывать пальцы и позвал мать:
– Мама, а у дяди тозе кловь!
– А, в самом деле, – смутился я. – Дай-ка мне умыться.
Она принесла таз и, пока я мыл руки, скорбно смотрела на меня. Она поняла, что это не моя кровь. Потом села и, снова взяв мальчика на руки, сказала:
– Дядя ушибся и, видишь, совсем не плакал. Мальчики не плачут из-за чепухи. Даже если сильно ударишься, плакать нельзя. Плачут только девочки.
Она покачала ребенка на коленях, вытерла ему нос, и мальчик мужественно вернулся к молотку и гвоздям.
Она поставила на столик передо мной кофе и хлеб с повидлом.
– На что ты живешь? – спросил я ее.
– Воздухом живу, – отвечала она с улыбкой. – Надо бы пойти работать, но куда девать детей? Старший у свекрови в Мостах. Она мне помогает, чем может. А я то где постираю, то зачиню, то продам. Хочется и Греге что-нибудь передать, а нечего. Я знаю, он там голодает. Иногда присылает что-нибудь его сестра, она замужем в Доленьской.
– Скоро станет лучше, – выпалил я. – Не может так долго продолжаться. Будет лучше.
– Хоть ты не корми меня разговорами, – сердито сказала она. – Когда это будет лучше? Все еще только начинается.
– Потом, – повторил я смущенно, – потом, когда кончится война. Неужели ты думаешь, что потом не будет лучше?
– Знаешь, – ответила она, – возможно, будет немного лучше. Блажу с его мордой, уж конечно, будет лучше. А нам – я что-то в это не особенно верю.







