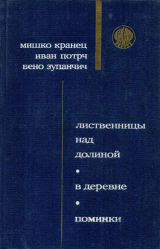
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Он проводил слепого до дому и все пытался вытянуть из него, о какой Магдаленце тот плачет. Слепой, всхлипывая, рассказал, что схватили и изнасиловали его племянницу. Ей было шестнадцать лет, и она была такая хорошая, добрая… Он умолк и, задумавшись, нахмурил лоб. Отец, не мигая, смотрел на него с недоверием, убежденный, что его пригласили для чего-то другого.
– Ах да, вот что я хотел вам сказать. – Тртник поднял голову. – Насчет вашего сына. Вам сообщили, что ему пришлось оставить гимназию?
– Никто мне ничего не сообщал, – отвечал отец.
– Меня просили вам передать, что парень в безопасности. Он думал, что его будет разыскивать полиция, и вовремя скрылся.
– Да, они, как волки, окружили дом, – сказал отец. – Почти тридцать человек. Все перевернули. В саду застрелили кота Эммануэля, да вы его знали, он много лет жил в нашем доме. Я им сказал, что ничего не знаю, потому что парень неделю назад исчез. Они хотели увезти меня. Если б не Карло, который в это время был дома, они бы и в самом деле меня увезли. Но зато что они натворили в доме!
Учитель смотрел на него поверх очков.
– Дорогой сосед, если о нем еще будут спрашивать, скажите, что его посадили в тюрьму. Скажите, мол, так говорят, вы слышали.
– Конечно, – подтвердил отец, – так и скажу. А что я еще могу им сказать?
– Все, что сейчас происходит, – продолжал учитель, – войдет в историю и будет записано золотыми буквами на мраморных плитах.
– Угу, – пробормотал отец.
– Мария, – позвал учитель, – как там дела с чаем?.. И это тоже пройдет, – обратился он опять к отцу, – а затем наступят времена, каких еще не бывало.
– Угу, – отвечал отец, оживляясь. – Только в это я давно уже не верю. Всю жизнь я жду лучших времен. А теперь на старости лет все втоптано в грязь: дом, семья, хозяйство.
– Я не согласен с вами, – возразил решительно учитель, – человек может выдержать гораздо больше, когда он верит. Мы стиснем зубы и выдержим, а потом все будет по-другому.
– Не верю, – резко отвечал отец, – не верю, не верю. У меня нет веры ни во что. Если бы сейчас ко мне явился сам бог-отец, я бы у него первым делом спросил удостоверение личности.
Учитель улыбнулся, и снова ему послышался отчаянный голос: «Г д е м о я М а г д а л е н ц а?»
Отец продолжал:
– Я всю жизнь попадался на своем доверии. Так было с Катариной. С Филоменой. Так и с Антоном. А теперь пропал и младший.
– Не пропал.
Мария внесла чай. Отец обратился к ней:
– Быть может, барышня что-нибудь знает о нем?
Тртник посмотрел на нее с удивлением.
Мария слегка покраснела.
– Нет, – отвечала она, – я знаю то же, что и папа.
Она разливала чай. Отец заметил, что носик чайника постукивает о чашку. Тртник тоже заметил это и озабоченно взглянул на дочь.
– Вы ведь были друзьями, не так ли? – тихо спросил отец.
– Конечно. – Она улыбнулась. – Конечно, мы были друзьями.
На деревьях за окном висели комья снега. Холодный свет проникал в комнату. Поэтому лица их казались бледнее, чем на самом деле. Над чашками поднимались кудрявые облачка пара. Стекла очков учителя ослепительно сверкали. Глаза Марии, когда она отвернулась к окну, были совсем синими. Отец втянул в себя запах глинтвейна и подумал, что, очевидно, все не так просто. И ему рассказали не все. А может, вообще не сказали правды.
– Ведь я-то ему не доверял. Я для него всегда был чужим, как он сам был чужим для всех. – Точно не он всех нас, своих детей, поставил на ноги. Сердце его вдруг обожгла жгучая ревность. – А мне он ничего не передавал?
– Он просил вам передать, чтобы вы не тревожились понапрасну. Пейте, сосед, и закусывайте! Мы так скромно встретили Новый год. Да и сейчас все очень скромно, только теперь появилась надежда…
– Надежда, – пробормотал отец. Он задумчиво смотрел в освещенные окна.
– А каково сейчас тем, кто на улице, – вздохнул учитель, проследив за его взглядом.
– В последнее время парень был какой-то чудной, – заговорил отец. – Я думал, он влюбился. Он никогда не говорил мне, куда ходит. Часто являлся домой после полицейского часа. Я его предостерег. Он ответил, что заигрался в карты. Врал, наверно.
– Хороший чай ты заварила, – сказал с любовью учитель дочери. – Из тебя выйдет прекрасная хозяйка.
– Это правда, – подтвердил отец и тоже взглянул на нее. Она ниже наклонилась над чашкой. Глаза ее были влажными – наверное, от пара. Затем она поднялась и молча вышла.
– Ты что? – встревоженно воскликнул учитель ей вслед. – Она в том возрасте, когда дети становятся странными, – пожаловался он соседу.
– Ах, дети, – сказал меланхолически отец.
– Дети – это особый мир. Мы, старшие, не в состоянии ни понять их, ни судить о них. Они живут совсем не так, как мы в те же годы.
Он задумчиво посмотрел на отца. Отцу показалось, что его пытаются в чем-то убедить. «Да не надо меня убеждать», – подумал он.
– Одну минуту, – учитель встал. – Я посмотрю, что там с девочкой.
Он вышел и тут же вернулся.
– Ее нет нигде, – сказал он озабоченно. – Просто как сквозь землю провалилась. В дровяной сарай она не могла уйти – ключ на кухне. Да и следов на снегу не видно.
Он сел, на лице – растерянность. Отец разглядывал его, размышляя о том, сколько же ему может быть лет. «Он моложе меня, – подумал он, – и все-таки выглядит очень старым».
Пришла Мария.
– Где ты была, Мария?
– Я бегала в сарай за дровами, – ответила она, не глядя на него. Собрала посуду и тихо вышла.
– Ваш сын, наверное, так же играл в карты, – грустно сказал учитель, – как Мария бегала сейчас в сарай за дровами.
Они посмотрели друг на друга и усмехнулись. Затем отец поднялся и простился.
– Иди ко мне, – сказал я ей.
Она решительно ответила:
– Нет, не сейчас, нет.
Ставни были прикрыты неплотно, и полосы ослепительного света пересекали комнату. Резкая черта разделила ее лицо от лба до подбородка на две неравные части. Я смотрел на нее не в силах отвести глаза. «Нет», – сказала она. Она хотела знать, почему я скрываюсь именно у Анны. И уже во второй раз я ответил: «П о т о м у ч т о». Она не хотела шагнуть дальше порога, не хотела сесть и потому стояла. Я сидел на краю постели Пишителло и, не отрываясь, смотрел на нее.
– Ты ничего не понимаешь, – сказал я, – ты мне не веришь, потому что не любишь меня, и я тебя теперь ни о чем не попрошу.
– Это неправда, – сказала она сердито. – Зачем тебе понадобилось идти к Анне?
– У меня ничего нет с Анной, – повторил я, – ничего, совершенно ничего.
– Все равно, – холодно ответила она.
Я увидел ее лицо – на мгновение оно оказалось целиком на свету, а затем целиком в тени. Я подумал, хоть бы она спросила, почему я не пришел к ней. Я бы рассказал ей почему, рассказал. И ни о чем не буду просить. Если только ревность служит подтверждением любви, спасибо и на том. Я слышал, как она спустилась по лестнице, встал, распахнул окно и открыл ставни. «И с ней я тоже порву», – подумал я ожесточенно. Я зажмурил глаза от щемящего блеска снега, от мороза, пробравшегося в комнату. Закрыл окно и опять подошел к кровати. Лег на спину и взялся за «Лунные пейзажи». Я открыл книгу, прочел несколько строк. Прислушался. В саду тополь освобождался от снега – белый ком постепенно соскользнул с его черных ветвей с глухим звуком, и ветви упруго выпрямились.
С потолка на меня смотрело огромным горящим глазом циклопа мое одиночество.
– Мария?
– Да, папа!
– Поди сюда!
– Сейчас.
Она подошла и остановилась рядом. Он подвинул стул, и она села напротив. «Что-то случилось, – подумал он, – надо ей помочь». Нельзя допустить, чтобы она блуждала по лабиринтам девичьих забот одна.
– Что с тобой, Мария?
– Ничего.
– Где ты была?
Уголки ее губ задрожали. Она опустила глаза и сказала:
– Наверху.
– Где наверху?
– У Анны.
– У Анны?!
– Да, у Анны. Там скрывается Нико.
Он удивился. А он-то говорил с отцом так, как будто я скрываюсь где-то далеко. Где-то в надежном месте.
– Он что, не решился прийти к нам? И почему именно у Анны?
– Почему? – прошептала она, чертя туфлей по полу. – По совершенно особым причинам, папочка, но мне они неизвестны.
– Какие же это причины? Какие тут могут быть причины?
– Не знаю, – повторила она.
Учитель про себя усмехнулся и подумал, что надо подходить к ней по-другому, иначе они не договорятся. Девочка стесняется. Девичья скрытность.
– Ты расстроена?
– Да нет.
– Ты плакала.
– Нет.
– Зачем ты меня обманываешь?
– Если я тебе говорю, значит, нет.
– Ты его любишь?
Она подняла на него влажные глаза. Почертила туфлей по паркету, потом отец услышал ее ответ:
– Нет, папа.
«Так-так, – подумал он, – она его любит, конечно, она его любит. А я, разумеется, ничего об этом не знаю. Ох эти дети!»
– Вы целовались?
– Да, – сказала она. – Ты еще долго намерен меня мучить?
– Я не мучаю тебя. – Его голос был сух. – Я хочу тебе помочь.
«Конечно, – подумал он, – они целовались. Поэтому она иногда бывала такая сияющая. Бедные дети. Трудное время выпало для любви». Он взял ее за подбородок.
– Смотри мне в глаза! А он тебя тоже любит?
– Да, я думаю. Хотя не знаю.
– Прекрасно, – пробормотал он, – не знает, однако думает. И вы с ним были близки?
Она посмотрела на него гневно и изумленно, он видел, что она готова вскочить.
«Ее легко обидеть, – подумал он, – надо осторожнее. Не отпугнуть». Ему показалось, что он слышит древнюю и вечно прекрасную песню. Дочь опустила голову и сжала ладони.
– Нет.
Он не знал, вздохнуть ли ему свободно или встревожиться. Сам себе он вдруг показался смешным и глупым, этакий педагог-пугало, который из нездорового любопытства мучает ребенка. Взяв себя в руки, он спросил:
– Почему?
На мгновение ей показалось, что он сошел с ума. А он улыбнулся и положил руку ей на колено.
– Не волнуйся. Я хочу, чтобы ты все рассказала. Тебе будет спокойнее.
– Почему? – переспросила она через некоторое время, она была уже почти спокойна. – Я не знаю. Может быть, я слишком молода. Я боюсь. Может быть… Нет, не знаю, правда, не знаю.
– Тот, кто искренне любит, – проговорил тихо учитель, глядя мимо нее, – заслуживает быть искренне любимым. Ты должна это знать. Я хочу сказать, тот, кто искренне любит и искренне любим, должен сделать и этот шаг.
Он замолчал, прикрыл глаза и снова увидел слепого. «Г д е м о я М а г д а л е н ц а?» Несчастная Магдаленца, никогда она не узнает любви… Ему показалось, что слепой – это он сам, а Мария – Магдаленца. Он зажмурился, чтобы прогнать мучительные видения, и сказал:
– Я и твоя покойная мать – мы это знали. Вот почему мы были счастливы. Поэтому и ты – дитя искренней любви.
Она посмотрела на него сначала с удивлением, потом с нежностью. Глаза ее наполнились слезами. «Я должен был ей об этом сказать, – убеждал он себя. – Она ожидала, я буду читать ей проповедь». То, что с Магдаленцей, случилось еще с двумя девушками – их изнасиловали в тюрьме. Весь город знает об этом. На собраниях читали их письма.
Он опустил голову, словно на мгновение углубился в свои мысли, и продолжал:
– Вероятно, я должен был тебе это объяснить. Чтобы ты знала, что думает твой отец о любви. Чтобы ты успокоилась. Чтобы мне доверяла. Люди должны быть детьми любви. Что касается тебя, это так. И люди должны поступать так, чтобы все дети были детьми любви.
Он снова умолк, не глядя ей в глаза. «Пошел проповедовать, – сказал он про себя. – Готово, влез на кафедру». Однако продолжал, потому что надо было продолжать:
– Любовь – это не только слова, поцелуи, цветы, стихи. Любовь – это кровь. Страдания. Мечты. Тоска. Носишь ее в себе, и нет ей конца, ибо она неизбывна. Из нее рождается все великое. – Голос его надломился. Он закашлялся и взглянул ей в лицо. – Я тебе все сказал. Ты уже большая и умная. Ты любишь. Мечтаешь. Тоскуешь. Ты знаешь, что хорошо и что плохо. Наше страшное время не может тебя испортить. Но оно может тебя… может тебя… согнуть.
Про себя он подумал: ее могут погубить. Стоит поймать ее с «Порочевальцем» – ее бросят в тюрьму и… Но он не решился сказать ей об этом.
– Может согнуть, но не испортить, – продолжал он. – Вот что я тебе хотел сказать. Настоящая любовь никого еще не испортила.
Он поднялся.
– Теперь скажи мне по правде, почему он не пришел к нам? Он сам так решил или ты ему что-нибудь сказала? Сказала, что это неудобно или что-нибудь в этом роде?
– Нет. – Она чуть заметно усмехнулась. – Я и не знала ничего, пока мне не сказали.
– Из этого следует, – учитель обрадовался, – что он способен тонко чувствовать, не так ли? И все-таки он мог бы скрываться у нас. Признайся, вы не верили мне?
Мария улыбнулась.
Он отступил к окну и только тут почувствовал, как дрожат его руки от волнения. «Я становлюсь старым. Хоть бы с ними ничего не случилось. Люди – дети любви… Должны быть, должны быть». Она подошла к нему и прижалась к его плечу.
– Спасибо, папа, – сказала она тихо, – я никогда этого не забуду. У тебя большое сердце.
Он усмехнулся горько. Прижался щекой к влажному стеклу. Холод обжег его. Не оборачиваясь, он сказал:
– И ты постарайся отвечать мне тем же.
Каждую ночь я просыпался. Что-то подступало ко мне снаружи, из ночи, что-то – из тьмы внутри меня. Жгучим огнем это «что-то» разливалось по моим жилам – может, потому мне казалось, что в комнате кто-то есть.
В полусне я всматривался в темноту, за окно, где жила ночь. Снова и снова видел я лицо Марии, разделенное светом и тьмой. Каким странно значительным было это мгновение. Я вспомнил ее там, у Любляницы. Две робкие голубки, сказал я про себя, которые всегда прячутся. С тех пор как ко мне впервые заявился Сверчок, время проходило быстро, в заботах. У меня всегда кто-нибудь был. Вечером, когда я оставался один, меня подстерегали мои воспоминания о прошедшем дне, затем, когда все стихало или когда я бог весть почему просыпался посреди ночи, где-то глубоко во мне пробуждалось чувство приниженности, а вслед за тем – стремление истребить его, горячее желание проявить свою волю, свою любовь, чтобы потом можно было сказать: я уже не ребенок, разве я не созрел для жизни, для войны, для всего, что предстоит человеку в жизни? Тигр называл это комплексом неполноценности.
Из тьмы выплывали фигуры знакомых. Они подступали и исчезали без слов, без всякого выражения на лицах. Они двигались, серые, как тени, и почему-то их не становилось меньше. Люди, говорил я себе, мир, человек – все это непостижимо! Я стою перед сфинксом: тело его поглотил красноватый песок пустыни, а взгляд человеческих глаз устремлен в неведомое. Быть может, это и вправду символ материи и духа, животного и человеческого – двух противоположных начал, как объяснял нам учитель истории. И я представлял себе, что я сфинкс с похотливым звериным телом, прикрытым одеждой Анны, с тоскующим взглядом, устремленным во тьму за окном, и я мечтаю, но кто поверит, что именно этой ночью я открыл смысл существования мира, смысл жизни!
Не раз потом вспоминалось мне, как я лежал, кто знает когда, под жердями для просушки снопов вдали от беспокойного города. Я ждал связного, который почему-то запаздывал. Был один из тех дождливых зимних дней, когда человеку хочется убежать от себя самого. Дождь идет, дождь стучит по крыше – по четырехугольным цементным плитам. Изнутри крыша похожа на мостовую – чистая геометрия, которую я наблюдаю снизу, чуть со стороны. Я лежу на сене, от которого пахнет стойлом. Лежу, завернувшись в плащ, и смотрю вверх – на балки, перекладины, колья и доски, на всю эту странную мешанину крестов. Это напомнило мне о покойном Йосипе. Все, что надо мной, как заброшенное кладбище с черными деревянными крестами: одни еще держатся, другие подгнили, искривились, пошатнулись, некоторые уже рухнули. Еще год, еще день – и от них не останется и следа. Мы забудем о них. Так забудут и о нас. Когда-нибудь все будет забыто, все минет.
Когда я теперь оглядываюсь назад, мир кажется мне стоящим на голове. Перевернутые дома с висящими трубами словно подвешены к раскисшей почве и отражаются в мрачном, сером озере безнадежной печали. Время от времени кто-нибудь пробегает между домами, разрывая серую пелену дождя. Кто-то раскрыл зонт – крыло черной бабочки или летучей мыши. Но он исчезает, а серая пелена вновь целая и такая же плотная. Мне вспоминается Мария в зеленом переливающемся плаще; под капюшоном мраморно блестит ее лицо. Я говорю, как никогда не могу говорить, если она рядом. Я прислушиваюсь к своему голосу, и он кажется мне хриплым и полным отчаяния. Прочь, прочь эту разнеженность, которая для солдата опаснее неприятельской пули! Я провел рукой по клокам сена, висевшим на балке, сено зашуршало. И я почувствовал, что сейчас смог бы разговаривать с животными, вещами и предметами, точно на мгновение они обрели какой-то особый смысл и свое лицо. Балка справа пуста. Я смотрю через нее и вижу себя школьником, который написал между линейками тетради неуклюжие буквы, первые знаки своей примитивной учености. Там, вдали, холм – грязный, громоздкий, неправдоподобный. На нем карикатурные деревья. Они едва различимы в сером воздухе. Словно распятые на крестах люди, машущие многоруко. Балки перечеркивают эту призрачную картину и отодвигают вдаль, так что я не могу коснуться ее.
Что за архитектура, думаю я. В ней есть что-то родное. Теплое. Как будто читаешь народную балладу. Что-то безыскусственное, невольно наводящее на мысль о приключениях Мартина Крпана[21]. На мгновение Мартин Крпан с картин Смрекара[22] показался мне чересчур изысканным. Крестьянские памятники, сказал я себе, просты, угловаты, но зато они с юмором, они правдивее. Где-то далеко за серым холмом послышался издевательский писк поезда. Пронзительный сигнал сегодняшнего дня.
Мои мысли вернулись к Марии. Я точно балансирую между любовью и смертью. О, это всего лишь нежный мотылек, говорил я себе, и он вспорхнет с моей ладони именно тогда, когда мне захочется его поймать, но как не задеть при этом его цветные крылышки. И жизнь навсегда останется сладостным и горьким ожиданием, а то, что должно прийти, отодвигается как раз настолько, чтобы ты не потерял надежды.
У-у-у! – насмехается невидимый поезд.
Я стряхиваю оцепенение, и мысли мои переносятся к Йосипу.
Простыню, которой его накрыли, промочил дождь, и она приняла черты его лица. Посмертная маска рассыльного Йосипа. Он должен был или ударить Карло Гаспероне, или отказаться от себя самого. Проходившие мимо люди оглядывались через плечо. В черных дождевиках, они были его погребальной процессией. Карло смотрел, не открывая окна, как Йосипа положили в машину – неподъемный и неизбывный груз. За серым стеклом я видел темное лицо Карло. Это было лицо одержимого, отчаявшегося. До самой смерти не избавиться ему от неведомого доселе ужаса. И этот ужас сведет его в могилу. На его поминках никто не споет ни веселых, ни грустных песен без звука «р». И меня вдруг пронзило дикое желание: мне захотелось, чтобы моим отцом стал он, Йосип – пусть даже мертвый.
Взглянув опять вверх, я ужаснулся. Надо мной и вокруг меня вечерние тени умножили страшные образы, уже знакомые мне: кресты, всадники, ограда из колючей проволоки, штыки, сторожевые вышки концлагерей, похожие на деревянные козлы или на строительные леса, холодный серый плиточный пол тюремных коридоров. Вдыхаю опьяняющий запах сена, дождя, земли, слушаю мерный шорох дождя, похожий на колыбельную песню испуганному, беспомощному ребенку, вглядываюсь в серые клоки, висящие между балками. Я лежу, подо мной пачка листовок, отпечатанных на стеклографе, – листков, которые понесут суровое слово революции. Или я никогда не видел жердей, на которых сушат снопы, не вдыхал запаха сена, не видел опаленных зноем жниц? Почему именно сейчас я так остро чувствую судьбу покоренных и непокоренных людей, веками цеплявшихся за эту сотни раз попранную землю? Я думаю о смерти и о любви. Душа моя полна светлыми и мрачными образами, мой рассудок утомлен исканиями, сердце встревожено ожиданием и страстью. Через мгновение я возвращаюсь к действительности. Что делать? Связного все нет.
В каких-нибудь двух метрах от стога стоит, подняв воротник, высокий крестьянский парень. Из-под загнутых полей его шляпы выбивается копна льняных волос. Он смотрит на меня с застенчивой и в то же время совершенно беззаботной улыбкой.
– Заснул? Я опоздал чуть. За мной гнался патруль. Еле улизнул. Приятно в дождь лежать под крышей, правда?
Хватит. Хватит! Я резко поднимаюсь, чтобы разогнать смятенные мысли. Смотрю в окно. Все спокойно. Ночь тихая, самоуверенная, пасет своих черных овец. Я бесшумно открываю дверь и выхожу в коридор. Дважды останавливаюсь – ни звука, кроме тиканья старого разбитого будильника, – останавливаюсь у дверей Анниной комнаты. Я прислушался, вытянул перед собой руку, стараясь разглядеть ее в темноте, но не разглядел, нажал ручку двери – она беззвучно подалась. Дверь открылась, и я услышал ее дыхание – спокойное, ровное дыхание человека, погруженного в волны сна. Кто знает, куда они ее несут, подумал я. Вошел. При слабом сиянии, проникавшем через два окна, я увидел ее. Она лежала на спине, повернув голову набок. Я различил светлое пятно лица и темные пряди волос, рассыпанные по подушке. Правая рука поверх одеяла, маленькая и пухлая, как у ребенка. На ночном столике кокетливо тикали ее ручные часики. Рядом книга – Вальтер Скотт, «Айвенго». Я вспомнил ту ночь – тогда у нас горел свет. А ведь она без колебаний пустила меня под свой кров. Я точно сам себя хотел убедить, чем я ей обязан. Стоя у постели, я, не мигая, смотрел на нее. Меня вдруг охватил озноб. Опять появились люди – они шли бог весть откуда и бог весть куда. Я зажал руками голову и вспомнил о Марии. Отвернулся и почувствовал, что краснею. Шатаюсь по дому, как лунатик. Что бы подумала Анна, увидев меня здесь. Я внезапно понял, что ее тело было бы мне приятно, а поцелуи – отвратительны. Эта мысль отрезвила меня. На цыпочках я отошел к двери, осторожно прикрыл ее за собой и вернулся в комнату Пишителло.
Остаток ночи я беседовал с покойным Поклукаром. Проснувшись утром, я помнил только, что мы спорили, как друзья, желающие друг другу добра.
В деревянном сарае пахло плесенью и кислятиной. Куча угля в углу покрыта толстым слоем пыли и паутины – старой, мертвой, тусклой паутины. Мефистофель сидел на подгнившем цветочном ящике, бывшем когда-то собственностью общества озеленения. Он сидел, поставив локти на колени. Копна черных волос спадала ему на лоб. Стекла очков у Тигра поблескивали, когда он поворачивал голову в луче света, робко проникавшем через зарешеченный люк под самым потолком. Сверчок положил пачку бумаг в портфель и передал его мне. Голос его был глуховат, когда он сказал:
– Такая уж у меня злосчастная внешность, любой дьявол меня узнает. Мне вообще не изменить себя, не загримировать. Ну как бы я выглядел, если бы попытался стать блондином?
– Белый барашек, – хохотнул Мефистофель.
– Сказал бы, что боишься, – заметил Тигр. – Мы знаем, в каком положении вы оба. Но сейчас другой возможности нет. Бумаги надо передать немедленно. Нам удалось захватить типографию. От этих бумаг зависит судьба…
– Нет ни малейшего смысла, – прервал его Мефистофель, – рассуждать теоретически. Это бланки удостоверений личности. Всякие комментарии излишни.
Я молча наблюдал за ними, кусая губы. Мне было неприятно. Что-то уж слишком много они говорили.
– Ты чудак, Тигр, – сказал спокойно Сверчок. – Я не боюсь. Правда, мне не очень по себе с тех пор, как меня разыскивают. Пол-Любляны меня знает. Больше всего мне сейчас хотелось бы уйти из города.
– Сейчас, зимой?
– Ты чудак, Тигр, – так же спокойно повторил Сверчок. Мефистофель поднял голову и опять хохотнул. Мне показалось, что он сделал это для того, чтобы прекратить спор.
– Вообще говоря, Сверчок, я бы тоже охотно ушел из города. Пройдет не так уж много времени, и мы все уйдем, по очереди. А пока нам ничего не остается, как потерпеть. Если человек принял решение, размышлять нечего.
– Как вы вооружены? – спросил Тигр.
– У меня беретта, – сказал я.
– А у меня беретта, – сказал Сверчок, – и шестимиллиметровый дамский пистолетик, который мне одолжил Люлек. Попугать сгодится.
– Вот дьявол, – изумился Мефистофель, – где вы достали беретты?
– На Вечной, – съязвил Сверчок. – Там их дают даром.
– Пора, – сказал Тигр.
Мы не спеша шли по улице. Часы на здании почтамта показывали четыре. Резкий юго-восточный ветер рвал облака, время от времени между ними проглядывало белесое солнце. Асфальт был чисто вымыт дождем. Я увидел наше отражение в зеркальной витрине, и мне показалось, что вид у нас очень естественный – прогуливаются два гимназиста, которые не торопятся домой. Сверчок был в синей кепке, в стоптанных башмаках, в измятых брюках. Я знал, что он спит где-то на складе у своего отца и что отец в вечном страхе за него. Народу на улице было мало: одни шли к парку, другие просто прогуливались по Блейвейсовой. Перед Народным домом остановились болтая два зеленых Наполеона.
– Смотри, – зашептал вдруг Сверчок, – за нами следят.
Я почувствовал, как вся кровь отлила у меня от лица. Я хотел сказать, что надо бежать, но передумал. Сверчок лихорадочно зашептал:
– Не беги, пока не договоримся. Здесь они нас не остановят. Трое в штатском, я узнал их рожи. Пошли на ту сторону… Черт побери, они идут за нами. Не спеши. Пойдем до конца по Блейвейсовой, завернем за угол, я скомандую, и мы откроем по ним огонь. Они бросятся бежать. Постарайся попасть. Целься пониже, в грудь. Потом через улицу. Ты – вперед, через железнодорожный переезд, в парк. Беги вдоль рельсов, у второго или третьего перехода сворачивай в город, там легче скрыться. Я стану за колонной, буду прикрывать тебя, потом побегу вслед за тобой. Если со мной что случится, передай привет Марии… Теперь внимание, они все идут… Кончится тротуар, оборачивайся – стреляй один раз, я буду два, не забудь снять предохранитель. Когда я скажу «сейчас», обернись и отскочи чуть в сторону, им труднее будет целиться. Смотри не потеряй портфель, черт возьми, тогда все пропало… Как я скажу «сейчас» – обернись, отскочи, стреляй…
Я подумал, что ему не уйти от этой колонны. Его будут обстреливать из Народного дома, там всегда полно солдат. Раньше я не верил, что человек может решиться на заведомо безвыходную ситуацию. Сейчас… сейчас… сейчас! Я обернулся, отпрыгнул в сторону и выстрелил. Те трое тоже выстрелили. Трое в шляпах с узкими полями. У одного тонкие черные усики. Я целился в него, он был ближе ко мне. Я видел, как с него слетела шляпа, потом он тяжело упал на тротуар.
– Беги же! – Голос Сверчка донесся откуда-то издалека.
Я сдвинул с места одеревеневшие ноги, словно выдирая самого себя из промерзшей земли. Я стал невероятно громоздким и словно сонным. «Ничего не понимаю!» – с трудом шевельнулась мысль. Я увидел, как Сверчок присел на корточки за колонной, положив руки на края широкого постамента. Я увидел прохожих, бросившихся врассыпную, как горстка перепуганных кур. Не потерять бы портфель! – повторил я озабоченно наказ Сверчка и сжал ручку, ставшую вдруг потной и скользкой. Поблизости никого не было. Люди бежали к почтамту. Бежали по Блейвейсовой к музею. Бежали к Дому рабочих. Бежали испуганно, не оборачиваясь. Мне вдруг пришло в голову бросить портфель в кусты у железной дороги и вернуться на помощь Сверчку. Но кусты были голые – красноватые прутья на сверкающем снегу, в них ничего не спрятать. Рельсы сверкали, как две струны, вонзившиеся в глаза. Я зажмурился. Нельзя, сказал я себе, нельзя. Я увидел Сверчка, который на миг оглянулся и крикнул: «Беги же!» И я кинулся бежать изо всех сил. На бегу я сунул руку под рубашку – там что-то зачесалось. Когда я ее вытащил, она была в крови. Я не поверил своим глазам. Я поднес ее к губам и лизнул. Ощутил солоноватый вкус крови и с удивлением сказал себе, что все это мне снится. Наверное, я поцарапался. Я еще крепче сжал ручку портфеля, как будто в нем была моя жизнь, жизнь многих людей.
Сверчок, подняв руки, обхватил постамент и спрятал голову за колонну. Полицейские оттащили своего раненого в сторону. Карабинеры у входа в Народный дом прислонились к стене рядом с галереей, подняли винтовки и стали стрелять залпами. Сверчок подумал, что мог бы сейчас убежать, но тогда поймают меня с портфелем. Он слышал, как пули поднимают фонтанчики песка и впиваются в камень колонны. Подбежали солдаты и залегли за оградой Народного дома у Блейвейсовой улицы; пригнувшись, они перепрыгивали через ограду и прятались за церковь. Ее купола под полосатым небом казались черными. Полицейские вернулись на середину Александровой улицы, там их было не достать пистолетными выстрелами. Кто-то кричал во все горло. Крик этот показался Сверчку монотонным, как голос молящегося под сводами пустой церкви. Он берег патроны и зорко оглядывался. Время от времени он высовывался из-за колонны, стрелял и снова прятал голову. Солнце нет-нет бросало на песок свои бледно-желтые цехины. Теперь он уже далеко… Сверчок посмотрел на часы. В правой руке он сжимал беретту, в левой – дамский пистолетик с белой костяной рукояткой. «Они попытаются меня окружить. Эх, если бы у меня был парабеллум! Я бы выпрямился и, отстреливаясь, отступил в парк. Вот было бы здорово. Надо следить, чтобы не зашли со спины. Если я встану и побегу, они изрешетят меня. Памятник Трубару мешает…» Боевой азарт захлестнул его горячей волной, отогнал мысль, остро сверлившую мозг, и нагнал белую пену намеренной беззаботности. Солдаты пристрелялись. Пули свистели совсем рядом. Те, что попадали в колонну, откалывали по кусочку белого камня и сплющивались. Иногда казалось, что кто-то единым ударом рассекает стаканы. «Нет, через улицу уже не перебежать. Окружают. По всему городу подняли тревогу. Никуда не уйти. Главное – чтобы Нико убежал. Чтобы спас портфель. И чтобы Тигр… бр-бр-бр… нет, я не должен бояться ни Тигра, ни смерти». Что-то шевелится в кустах около церкви. Надо целиться спокойно и точно. Так… Мундир закачался и рухнул, как мешок. С другой стороны был виден перекресток у почты. Мостовая опустела, но на тротуарах было черно от людей. И в этот момент гробовой тишины загрохотал трамвай – зеленый люблянский трамвай. У здания Оперы стоял, совсем один, мальчик в коротких штанишках, в длинных чулках и меховой шапке, он, не отрываясь, смотрел на него. Аддио, парень! Ему показалось, что он прощается с кем-то из товарищей. «Хорошо им с винтовками, всего-то пятьдесят метров, – сказал он про себя. – Не могу больше сидеть на корточках, чуть отступлю и встану на колени». Ноги сделали свое дело. Бедные ноги. Ему вдруг стало их жаль, будто это были не его ноги. Наверное, вот уже почти четверть часа, как убежал Нико. «Если счастье ему улыбнулось, времени должно хватить. Если нет, напрасно я отстреливаюсь и вообще все зря». Вот не везет. Надо наклониться как можно ниже и наблюдать из-за края постамента. Нет, нельзя. Пули с силой забили по колонне. Ему пришлось поднять голову. «Попало в плечо», – с удивлением отметил он. Черт возьми. Слишком высоко поднялся. Руки он держал наверху, опираясь пистолетами о мрамор. Кто-то заорал. «Идут в атаку, герои», Он чувствовал, как по груди течет кровь и стекает ниже пояса, теплая, щекочущая. Ничего, не так уж и больно. Солдаты шаг за шагом продвигались вперед. При каждом шаге они по команде стреляли. «Идиоты, я их подпущу поближе». Он хотел поднять правую руку и почувствовал, что она стала чужой, одеревенела. Положил пистолеты на землю, левой рукой достал из кармана патроны, зарядил. «Видела бы сейчас меня Мария!» – мелькнула неясная мысль. Ее образ в эту минуту почему-то стал неразличимым, далеким, хотя мысль о ней была совершенно спокойной. «Странно, – подумал он, – или всегда так перед смертью?» Он пригнулся почти к самой земле, быстро выглянул и выстрелил в солдата, который оказался ближе всего к колонне. Он услышал грохот винтовки, выпавшей из рук солдата. «Bella matribus detestata…»[23] Такая надпись была на каком-то памятнике… Он попытался вспомнить. В это время обожгло живот. Ах, дьявол, с другой стороны. Как будто проглотил стакан водки. «Меня окружают. Я говорю сам с собой, как старик. Хоть бы уж Нико спасся. За несколько минут пройдут сорок лет жизни, которые я думал еще прожить». Он поднял обе руки и стал стрелять, бешено, стиснув зубы, с ненавистью, раньше ему незнакомой, и в то же время какой-то краешек сознания сообщал ему, что его тянет книзу, сильно, непреодолимо, будто влечет к центру земли. Земное притяжение. Галилео Галилей. Ага, еще и в грудь. Он выругался, сплюнул и мгновение смотрел отсутствующим взглядом на пятно крови на белом мраморе колонны. Приблизившиеся было солдаты прыжками отступали назад. Он перевел взгляд к почтамту. Как он недосягаемо далеко. Никогда уже не стоять ему перед ним, глядя на беспокойные стрелки электрических часов. На мостовую упали робкие лучи солнца. Мокрый асфальт вспыхивал и гас, когда набегали облака, гонимые ветром. «Что делать, ведь я не считал выстрелов», – подумал он. Нажал на оба спусковых крючка сразу. Револьверы были пусты. Тут его словно схватило железной рукой. Он выпрямился, стоя на коленях, и вдруг его швырнуло назад, навзничь, все так же с револьверами в руках. Посмотрел вверх: колонна, невероятно высокая, ослепительная. Никогда он не мог отличить дорического стиля от ионического. Почувствовал, как в рот хлынула кровь. Закрыл глаза. Прошли столетия, пока он с трудом смог их открыть. Он увидел их: они бежали к нему. Ему почудилось, что они надвигаются откуда-то из неведомой дали с невиданной скоростью. Пятеро или шестеро. Вот они уже здесь и смотрят на него, целясь из винтовок. А он не может пошевельнуться. Хотя левая рука еще жива. Он прикрыл глаза, искаженное гримасой лицо приближалось. Взгляд выпученных глаз впился в него. Сверчок из последних сил вытянул левую руку и ударил его пистолетом в зубы. Мгновение спустя он снова открыл глаза. Увидел дуло пистолета, наведенного на него очень высоким офицером в тирольской шляпе. В голову целится. Он подумал, что отец будет плакать, когда узнает.







