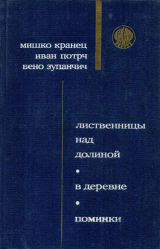
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Весенний ветер приносил в предместье дорожную пыль и кружил ее вокруг высоких труб старинных домов.
Перед военными складами в Мостах поднимались тучи пыли, смешанной с мукой: несколько дней назад здесь выбрасывали мешки прямо через окна и народ растаскивал их по домам. И когда налетал ветер, в воздухе стоял запах муки самого тонкого помола. Священник в Крижанках, подготовивший проповедь для майской заутрени, призадумался и решил добавить в нее несколько свежих тем в связи с последними событиями.
Мы со Сверчком, сами того не ведая, обсуждали их в горячих спорах во время вечерних прогулок на Головец или на Шишенский холм. Для начала мы воспаряли к звездам, а потом возвращались на землю. Проклятую и благословенную. Понятную и непонятную. Прекрасную и отвратительную. И долго после этого мне снился Поклукар. Во сне я возвращался к тому времени, когда капитан Поклукар был еще жив. Тогда каждый день я открывал континенты, океаны, архипелаги, созвездия. И я был уверен, что все это существует на самом деле, что так и должно быть.
В те времена ни одна книга так не волновала мое воображение, как школьный географический атлас. Поклукар часто говаривал мне: «И зачем тебе весь этот хлам? Атлас – вот книга книг. Надо уметь читать атлас. Атлас – это «Тысяча и одна ночь».
До сих пор я помню его сидящим в саду с толстым немецким атласом на коленях. В зубах у него трубка, окованная потемневшим серебром. Рядом с ним сидит Анна и вяжет ярко-зеленую кофточку. Анна – полная противоположность старику. Она слушает наш разговор и посмеивается. У Поклукара серые глаза, теплые, озорные глаза мечтателя. В ярких черных глазах Анны, когда она поворачивается к нам, зажигаются искорки. Опять я буду плохо спать. Уже тогда я задумывался о том, как, должно быть, опасны эти черные глаза, если они смутили покой старого фанатика. А он и вправду был фанатиком. Перед смертью он все мечтал о том, в какие бы еще путешествия отправился, если бы жизнь вдруг началась сначала. «А кто знает, – говаривал он, – кто знает?»
Едва ли думал я тогда, что он умрет (он погиб от рака легких), а я все так же буду приходить сюда и рассматривать его картинки, карты, атласы, дневники путешествий. И меньше всего думал я тогда, что в один прекрасный день скорее упрямство, чем желание, бросит меня в постель его молодой вдовы. Что потом я засну как мертвый, жалкий, словно побитая скотина. Вот и конец мечтам о море. Анна улыбалась. Она была похожа на учительницу, довольную своим учеником. Я долго не поддавался на ее мелкие ухищрения. Когда она положила мою голову на свою горячую грудь, у меня все поплыло перед глазами. Я почувствовал, как у меня на виске бешено колотится жилка.
Так я узнал страсть и стыд.
Когда я спросил ее, что помещается внизу, под ее комнатой, она ответила: «Там спит Мария». Лицо у нее было злое. Я отвернулся и собрался уходить. «Ты парень что надо, счастлива та, кому ты достанешься, – сказала она. – Не переживай, должно же это было когда-нибудь случиться». Мне показалось, что она надо мной смеется. Когда я был уже в коридоре, она сунула мне в руки тот самый атлас. Я не хотел его брать. За атласом словно стоял Поклукар. Вот как я обошелся с человеком, который любил меня больше, чем отец и мать, вместе взятые. Наступили странные дни, похожие на унылую погребальную процессию под дождем. Я был сам не свой. Меня сглазила черноокая колдунья. Сотни раз я подходил к ее порогу и сотни раз поворачивал обратно. И злился: как вообще меня могло туда занести? По ночам ко мне подбирались жуткие чудовища, они тянули ко мне свои оскаленные пасти.
Сверчку я об этом ничего не рассказывал. Я боялся, что он поднимет меня на смех или сочтет мерзавцем. И потом, мы со Сверчком были заняты иными делами. Сверчок утверждал, что еще не все погибло с концом Югославии. Что вспыхнет революция. Я не мог понять, откуда он берет эти мысли, которые излагает с таким увлечением.
Он не мечтал, а скорее размышлял о событиях. Не успели возобновиться занятия в школе, как разнеслась весть об Освободительном фронте. Учителя неохотно отвечали на наши вопросы обо всем этом, и мы их не спрашивали. Только Демосфен, который немного заикался, спросил у Иова, дряхлого старца с манерами аристократа, учителя естествознания, по воззрениям младшего современника Чарльза Дарвина, что такое «сверхчеловек». Быть может, это какой-нибудь особый вид? Иов протер очки, хотя в этом не было ни малейшей надобности, и ответил, что это не входит в школьную программу и, следовательно… В школьной программе этого и правда нет, заявил Демосфен, но ведь там нет и оккупации. Зато в школьной программе много королей: один Освободитель, другой Объединитель, третий Отступатель.
Надо сказать, что Иов был ярым монархистом. Он проглотил слюну и велел Демосфену сесть. Опасные мысли следует держать дома, сказал он, в школу же приносить только дозволенные, то есть предписанные. На следующем уроке естествознания Демосфен спросил: «Господин учитель, почему в школьных наглядных пособиях человек нарисован без половых органов? Ведь в учебнике об этом кое-что говорится!» Иов ответил, что это сделано по соображениям морали. Но Демосфен был упрям. Он сказал, что в Сикстинской капелле даже бог намалеван голым. Иов покраснел от гнева: «Почему вы говорите «намалеван»?» Демосфен ответил, что это неважно. Он только хочет сообщить, что у хорошего и послушного гимназиста наших лет должно быть либо чувство, что он ненормален, либо уверенность в том, что его оскопят тут же по получении аттестата зрелости. И наука о прекрасном и добром здесь ни при чем. Иов приказал ему замолчать. Он поставил ему «очень плохо» по естествознанию и пообещал рекомендовать ту же меру преподавателю словенского языка. И еще – если Демосфен будет вылезать с подобными пошлостями, он доведет это до сведения директора, которого мы звали Бледной Смертью. А если ему в самом деле понадобится совет перед вступлением в брак, пусть обратится к старшим товарищам или знакомым. Демосфен ответил, что он не может ждать, ибо эти вопросы тревожат его с первого святого причастия.
На перемене он спросил Сверчка, будут ли после революции рисовать человека оскопленным. Нет, ответил Сверчок, тогда половое и все нравственное воспитание будет покоиться на иных основах, чем ложная мещанская стыдливость, которая есть не что иное, как следствие, а в то же время и средство духовного и физического порабощения человека человеком. Иов не стал жаловаться Бледной Смерти. На следующем уроке он преподнес нам проповедь о любви между мужчиной и женщиной. Он разъяснил, что любовь плотская и возвышенная, то есть духовная, находятся в непримиримом противоречии. Духовная, или платоническая, любовь, так сказать, прекрасна и не нуждается в грязной плотской любви, хотя эта последняя и необходима для размножения человечества. Демосфен снова выскочил с вопросом, является ли платоническая любовь бесполой и в чем вообще состоит разница между полами. Иов снова затянул песню о размножении человечества. Демосфен продолжал валять дурака. Он болтал что-то о средних веках, о епископе Егличе, о том, что сам Соломон, упоминаемый в Священном писании, имел иные взгляды на любовь, чем господин учитель. Спор перешел в непрерывное состояние войны между Иовом и Демосфеном. Демосфен получил выговор с предупреждением об исключении.
Вскоре после этого Сверчок принес мне небольшую книжечку: Сигма, «Наше мировоззрение». Он посоветовал мне прочесть ее повнимательнее. То, чего я не пойму, он мне объяснит. Он забыл в книге открытку, где было написано: «Милый Сверчок, душа моя кудрявая, я надеюсь, что в этот трудный час ты не отречешься от своих убеждений и поймешь, что надо делать. Твой Алеш». Алеш был сын носильщика Йосипа, приятеля моего отца. Насколько мне было известно, Алеш и его старший брат Пепи целыми днями пропадали в каком-то чулане. Они составляли взрывчатые смеси и изготовляли мины, ракеты, адские машинки и тому подобные страшные вещи, необходимые для революции. На открытке стоял штамп Нового Места, где Алеш задержался, возвращаясь из добровольческого легиона, который частью разогнали, частью перебили усташи в Загребе.
В ту ночь, когда мне приснился Поклукар, я вдруг позвал во сне Марию. Она была где-то очень далеко от меня, Мне хотелось, чтобы она подошла ближе.
– Что с тобой, Нико? – услышал я хриплый голос. – Ты бредишь?
И правда. В комнате светло. Это на отцовском ночном столике горит лампа под зеленым абажуром. Мой отец любит животных и зеленый цвет. Половина пятого утра. У отца бессонница, он перечитывает в постели старый номер «Мелкого собственника». «Не разобрал ли он моих слов?» – вдруг приходит мне в голову. Но нет, старик, очевидно, ничего не понял. Он спокойно говорит:
– Душно. Открой окно, а я потушу лампу. Никак не могу уснуть. Читаю. Думаю – поможет.
– Странный сон мне приснился, – говорю я.
– Военное время, – равнодушно бормочет отец, – чего только не приснится.
Я приподнялся в постели и с замиранием сердца спросил:
– Отец, а правда, что к Поклукаровой Анне итальянцы ходят?
Отец посмотрел на меня с удивлением, но не мог разглядеть в темноте выражения моих глаз.
– Откуда я знаю? Что один ходит – это как дважды два четыре. Тот, что у нее комнату снимает. С чего это тебе пришло в голову?
– А, да так просто, – смущенно ответил я, пожалев о своем вопросе.
Я повернулся к стене и попытался вновь вызвать виденное во сне. Но у меня ничего не вышло, и я перенесся мыслями к Люблянице. Мы с Марией часто ходили гулять к реке. Лучше всего там под ивами. С этими мыслями я и погрузился в легкий, освежающий утренний сон.
Майское воскресное утро. Мир Кайфежей, от которого я рвался прочь, как рвется дворовый пес с цепи. Над ним сияло мягкое весеннее солнце. Кривая сирень в углу сада уже покрылась зелеными листочками. Вот-вот расцветет. А магнолия, которая расцвела месяц назад, уже облетела. На этот раз я даже не заметил, как она цвела. Как это я о ней забыл?
Опершись локтями о железные перила балкона, я опустил голову на ладони и разглядывал сад через прямоугольные отверстия балконной решетки. Отец в своей полосатой фуфайке казался мне похожим на арестанта, приговоренного к пожизненной каторге.
Он ступил на тротуар и зажмурился от солнца. Калитку он из осторожности оставил открытой. Если хозяин чувствует себя сильным, он неохотно оставляет открытыми двери своего дома. Но сейчас, когда отец впервые вышел за калитку с тех пор, как началась и кончилась война, ему показалось особенно необходимым обеспечить себе путь для отступления. На улице не было ни души. Отец повернулся лицом к дому, засунул руки в карманы и, стоя на тротуаре, окинул взглядом свои владения. Так делают настоящие хозяева. Раньше он делал так каждый день, это было ему необходимо для душевного спокойствия. Теперь же, когда он уже две недели не мог выйти за калитку, ему показалось, что вновь открывшаяся возможность стоять в такой позе хоть немного утешит и вознаградит его. Дом находился все на том же месте, где простоял, уже много лет, скромный и тихий; по его внешнему виду никак нельзя было догадаться о том, что происходит внутри. Сейчас он вдруг показался отцу чужим и некрасивым. Он посмотрел повнимательнее, но ему и в голову не пришло, что дом стал таким уже давным-давно. Он решил про себя, что дом необходимо заново окрасить и, возможно, сменить крышу. Он также подумал, что весна в этом году была бы недурна, не будь этой злосчастной войны. Он бросил взгляд на соседний сад, где склонился с мотыгой в руках господин близлежащих владений – учитель Франц Тртник. Его золотые очки поблескивали на солнце.
Отец снова посмотрел на дорогу. В заржавевшей решетке водостока застрял измятый обрывок «Словенского народа». Он сразу различил жирный заголовок: «Наши доблестные соединения…» Отец криво усмехнулся и перевел взгляд на дом. Да, этой весной отец действительно здорово сдал. Почти забросил сад. Целый месяц ни к чему рук не приложил, ни за что не взялся как следует. Не мог себя заставить. Разве можно браться за дела, когда не знаешь, что тебе готовит завтрашний день? И хотя ему больно было смотреть на заброшенные грядки, лопата не слушалась его рук. А больше никто в доме не питал страсти к садоводству. Правда, мой брат Антон, пехотный поручик, слишком быстро вернулся из Далмации, и к тому же успел еще приволочь из бельгийских казарм, официально именовавшихся казармами воеводы Мишича, два ящика солдатских сухарей – только на это его и хватило. Филомена была занята шитьем, а я сад ненавидел. В это время мы со Сверчком рыскали по тем же казармам в поисках оружия и наткнулись на ящик парабеллумов, однако никак не могли разыскать магазины к ним.
В конце концов нас прогнал усатый охранник, которому показались подозрительными мальчишки с руками, по локоть вымазанными машинным маслом. Видимо, он считал, что растаскивать съестные припасы еще можно, но оружие… Оружие, боже милостивый!.. Наверно, кто-то заранее позаботился о том, чтобы магазины к этим парабеллумам так и не нашлись.
В те дни горел бензиновый склад у Святого Вида. Над городом висело страшное грибовидное облако дыма. Серые мундиры солдат, бежавших со всех фронтов, казались под ним еще более мрачными, землистыми.
И все-таки не это выводило из равновесия моего отца. Его беспокоила судьба его мира, его владений, которые он сам возделал и обнес оградой. Именно поэтому ему казалось, что никакая война не посмеет на них посягнуть. В те тяжкие дни он пришел к глубокому убеждению, что мир этот до такой степени принадлежит ему, заработан его трудом и оплачен столь дорого, что нет на свете войны, которая бы его коснулась. Ему казалось, это было бы настоящим преступлением, все равно что убить ни в чем не повинного человека. Его, например. Ведь он за всю свою жизнь никому не сделал ничего плохого, хотя, по правде говоря, ни от кого добра не видел.
Отец отступил в сад и тщательно прикрыл за собой калитку. Но в самом ли деле эта решетчатая дверца так прочно защищает его от всего, чего он боится, от того, что ждет его там, снаружи, подобно притаившемуся зверю?
Не спеша, задумчиво подошел он к забору, отделявшему его сад от сада Тртника. Он прислонился к ограде как раз напротив того места, где учитель Тртник, похожий на официанта в своей белой рубашке и черном жилете, перекапывал узкую грядку чернозема. Пиджак его висел на заборе.
– Доброе утро, господин учитель!
Учитель выпрямился и поправил очки. Лицо его раскраснелось от работы. Он пригладил свои редкие седые волосы и ответил:
– Доброе утро, сосед!
Отец с любопытством вглядывался в него. Ему явно хотелось понять, какие мысли роятся в этой ученой голове.
– Пора опять браться за дела, не правда ли? Вихрь войны пролетел. Из-за всей этой чепухи у меня половина сада осталась невозделанной.
Учитель поморгал близорукими глазами. Он смотрел прямо на солнце. Затем переложил мотыгу в другую руку и недовольно пробормотал:
– Вы полагаете?
– Ну да. А почему бы и нет? Оно и к лучшему, что так быстро все кончилось. А то бы и у нас бомбили. Говорят, в Белграде в один день было убито тридцать тысяч человек. Впрочем, зачем говорить о политике? Политика – сучка. Какой только пес ее не кроет! Завтра я собираюсь перекопать грядки за домом. Судя по всему, с продовольствием будет худо. Пора нам, мелким собственникам, выступить на первый план. Я попробую развести побольше кур и кроликов. Вы просто не поверите, сколько дохода приносит хорошо откормленный кролик. Да еще пух. Зимой…
Учитель продолжал смотреть на него и щуриться от солнца. Отец сконфузился и замолчал. Он огляделся вокруг и сказал:
– Погода стоит неплохая. В этом году даже апрель как будто ничего.
– Да, – подтвердил учитель.
Отцу показалось, что он не в настроении.
– У вас что-нибудь случилось?
У учителя задрожало лицо, будто все мускулы вдруг заходили под загрубелой кожей. С трудом он выговорил:
– Да нет, сосед, ничего не случилось, то есть со мной лично ничего. Но со мной и со всеми нами произошло нечто страшное. Просто плакать хочется.
Отец смутился окончательно. Разговор зашел о том, о чем он не смел и думать. Он поднял руки и снова опустил. Потоптался на месте, поглядел поверх головы учителя и заметил в окне дома его дочь. Мария крикнула:
– Папочка, надень пиджак. Ты же простудишься!
Тртник вздрогнул, улыбнулся и пожаловался:
– Девочка чем дальше, тем больше меня учит. Как надо одеваться. Чем лечиться от насморка. Когда ложиться спать.
– Но ведь это, – примирительно сказал отец, – всего лишь забота и любовь. Разве не так? Не нужно сердиться. Моим-то плевать, простужусь я или нет. Сам виноват, скажут, да еще добавят «старый дурак» или что-нибудь в этом роде. Думаете, им на меня не плевать?
Учитель снял с забора пиджак и послушно надел его.
– По правде говоря, я не представляю, как бы я жил без этой девочки.
– Благо вам, – тотчас подхватил отец. – Мне, например, такое и в голову не придет. Я никогда не чувствовал, что дети обо мне заботятся. Если я еще как-то держу их в руках, то только тем, что могу в любой момент выставить из дому, как в свое время выгнали меня. Такой человек, как я, привязан только к своему имуществу. Поверьте, мне нечего ждать ни от детей, ни от кого-нибудь еще. А по-вашему, есть чего ждать?
Учитель смотрел на него с непривычным интересом.
– Такой человек, как я, – с воодушевлением продолжал отец, – в сущности, несчастный человек. Потому я и говорю: хорошо, что война кончилась. А чего мне ждать от войны? Чтобы за мной шпионили, чтобы меня ограбили, вселились в мой дом или что-нибудь в этом роде? Я, знаете ли, этого не люблю. Во время войны обычно совершаются дрянные вещи. Едва ли бог сохранит нас и на этот раз. Мой дом – это мой дом, так я про себя думаю. И пока я жив, я хочу, чтобы он и вправду был моим. Если дети не захотят меня слушать, я их выставлю за дверь. Пусть каждый своим горбом заработает такой домик, если не желает обивать чужие пороги.
Учитель стоял, опираясь на мотыгу. Он смотрел на отца с таким выражением, будто тот был далеко-далеко, а сам он будто не слушал, а лишь прислушивался. Потом он тихонько сказал:
– С вашего позволения, сосед, нас слушает ваш сын.
Отец с безразличным видом махнул рукой и обернулся. Я прислушивался, вероятно, именно потому, что сказал себе, что не хочу подслушивать.
– Жизнь вас чем-то обидела, – еще тише сказал учитель. – С тех пор вы никому не верите. Иногда даже себе, позвольте вам заметить.
Отец хрипло рассмеялся.
– Вы, конечно, человек ученый и можете все узнать, что и как. Однако опыта у вас нет, такого, какой есть у меня. Послушайте, что я вам скажу: все вокруг, весь мир только ждет случая, чтобы вас облапошить. Все так рассчитано, чтобы отнять у вас или дом или сад. Если не сразу, так понемногу: сегодня деревце, завтра скотинку… Я это не выдумал, поверьте! Это я узнал. И, как полагается, дорого заплатил за науку. Вы, может быть, думаете, что не заплатил?
– Папа, девять часов, – послышался из окна голос Марии.
– Извините, мне пора, – сказал учитель.
– Ничего, ничего, – забормотал отец.
Он размышлял о том, как странно, должно быть, устроена голова у такого вот учителя, который всю жизнь только и делал, что корпел над книгами. Наверно, все, что он видит, кажется ему далеким, каким-то отодвинутым, нереальным. Потому он и не может понять человека, который опирается на свой горький опыт и не ссылается ни на книги, ни на науку, который твердо знает только то, что пережил сам, а остальное его не касается.
У дверей дома он на мгновение задержался, забыв, очевидно, о сыне, как уже успел забыть об учителе. Он всматривался в медную табличку, на которой вычурными наклонными буквами было выведено: «Петер Кайфеж, железнодор. кондуктор на пенсии». И второй раз за это утро ему показалось, что он не у себя дома. Имя и профессия человека на табличке показались ему странно чужими. Словно ненастоящими. Он поглядел кругом, и дом показался ему не таким, как обычно. Будто и не его дом. Точно вот он сейчас войдет к кому-то из соседей. Сердце сильно застучало. Обозлившись на себя, он топнул и с силой толкнул дверь.
Войдя в кухню, он остановился в удивлении. У окна сидел незнакомый мужчина с черной подстриженной бородкой, в шляпе и зеленоватом мундире, с револьвером на ремне. Рядом с ним сидела Филомена и хохотала во все горло. Мать стояла у плиты. Пахло жареным кофе. Отец побледнел и с беспокойством подумал о том, как он мог не заметить чужого человека, входящего в его дом. Потом припомнил, что ненадолго уходил за дом, к кроликам. Но все же почему этот тип торчит здесь и почему это Филомена так гогочет? Он уже открыл рот, чтобы что-нибудь сказать по этому поводу, но тут вспомнил, что незнакомец – офицер итальянской армии – армии, которая победила. Ему стало холодно. Но почему все-таки Филомена хохочет как идиотка?
Он постоял еще с минуту. Филомена обожгла его смеющимися глазами. Он повернулся и вышел, ничего не сказав. Недаром ему все утро казалось, что должно случиться что-то нехорошее. Но Филомена так беззаботно смеялась…
– Ах, что Филомена! – бормотал он. – Филомена просто дуреха.
Я понял, что он не в духе. Я хотел было что-нибудь ему сказать, но в это время показалась рота сардинских гренадеров. Они шли нестроевым шагом, «вольно». Офицер, который их вел, шел по тротуару, он курил и с самоуверенным видом поглядывал на окна. Солдаты, смеясь, переговаривались между собой.
Отец все стоял перед домом не в силах оторвать от них глаз. Впервые он видел столько итальянцев сразу. Так вот они, победители, Их мундиры крапивного цвета показались ему недостаточно парадными для победителей. Наверно, подумал он, у них не хватает шерсти. Например, такой, какая есть у него – настоящий ангорский пух, мягкий, белый, как первый снег.
Когда они прошли, он обернулся ко мне:
– Видел их, а?
– Видел, – сквозь зубы ответил я, не двигаясь и не глядя на него.
Да, Сверчок, очевидно, прав. Этот мир надо разрушить.
Наступило время концертов, но, несмотря на это, учитель Тртник чувствовал себя совершенно потерянным. Жизнь, казалось, утратила смысл. Сколько он ни искал его в себе или вокруг себя, не мог найти. Словно полностью исчез всякий смысл из его собственной жизни и из жизни его народа. Люди, на которых он надеялся, притаились. Принципы, которых он придерживался, отменены. Исторические истины, которые он проповедовал уже много лет, стали вдруг бессильны что-либо изменить. Ласточки летят высоко и вечером и утром. Это предвещает хорошую погоду. Он смотрит на них с грустью. Губы вздрагивают от смутной тревоги. Он не знает, что делать, за что взяться в это безвременье. Ласковый щебет ласточек навевает странную печаль. Так хочется верить, что эта жизнь все же имеет смысл, несмотря ни на что. Всегда он верил, что она нужна, осмысленна, в какой-то мере даже полезна, что его усилия будут оплачены сторицей.
«Битва при Саламине, товарищ мой?»
Разве не учил он молодежь любить родину и все, что с ней связано? Боже мой, да с ней было связано все, что не имело к ней ни малейшего отношения. Чего только сюда не притянули! Все это притянутое – клерикальное, королевское, националистическое, шовинистическое – ненастоящее, отвратительное. Тртник получил образование еще во времена Австро-Венгрии. 1918 год пробудил в нем национальные чувства, но вскоре он уже начал опасаться, сможет ли внушить молодежи, что, в сущности, он думает обо всем этом. Сумеют ли они отличить главное от наносного, правду от подделки, вечное от преходящего? Сегодняшняя жизнь не давала ему ответа на эти вопросы.
Ласточки летают высоко. Точно нет на свете ничего, кроме мошек, и иных надежд, кроме надежды на хорошую погоду. В хорошую погоду учитель иногда отправлялся в сад Тиволи. Он брал с собой орешков для белок и зерен для птиц. Но и это становилось все более бессмысленным. Все меньше стариков приходит теперь в Тиволи кормить животных.
Учитель Тртник направляется в Тиволи, как обычно, через весь город. По пути его мучает любопытство и страх. Он затыкает уши и ускоряет шаги при виде барабанщиков. Барабанят, барабанят, точно на похоронах генерала, грохочут так, что не поймешь, хотят ли они запугать людей или скрыть свой собственный страх. Учителя преследует мысль, что ни к чему так барабанить, если некого убивать. А блеск? Зачем столько блеска, как не затем, чтобы прикрыть убожество? Он видит: люди их сторонятся, особенно когда они собираются перед Звездой[9], чтобы спускать или поднимать трехцветный флаг империи. Там же он видел, как с людей сбивали головные уборы. Как бешеные, кидались они на тех, кто не останавливался и не снимал шляпу, когда трубач играл подъем флага.
Во второй половине дня и по вечерам они устраивают концерты в Тиволи перед Народным домом или у памятника Прешерну. Музыканты стараются – они хотят заработать хоть немного уважения, которого им так недостает. И все-таки над улицами висит туча ненависти, недоверия и презрения. Кажется, вот-вот произойдет что-то важное. Это чувство не покидает его ни утром, когда он выходит из дому, ни вечером, когда возвращается домой. Он может спокойно смотреть на улицу только из окна. Все равно, праздник или будни, полна ли она куда-то спешащих людей или пуста. И не помогают ни концерты, ни пение Джильи – «Mamma, son tanto felice…», ни солнце, что и этой весной как ни в чем не бывало день за днем обходит люблянское небо. Будто не знает, что крестьян из Верхней Крайны тысячами угоняют на чужбину.
И Тртник с тоской думает о своих годах. Все чаще его посещает острое чувство беспомощности. Временами на него нападает жуткое состояние, какое может быть только у человека, понявшего, что все его усилия тщетны, а то, что он делает, никому не нужно. Ему, вероятно, только и осталось – в один прекрасный день тайком от всех выплакаться на могиле того, что когда-то было его родиной. А потом однажды, в то самое утро, когда немцы вторглись в Россию, он столкнулся в прихожей с поручиком Пишителло, живущим наверху, у Поклукаровой Анны, и не ответил на его приторное «Buon giorno»[10]. И чем дальше, тем больше он чувствует, как необходим ему друг. Ему нужен человек, с которым он мог бы поговорить откровенно. Может, тогда ему стало бы легче. Нельзя сказать, чтобы последние события не затронули и Марию, но Мария все-таки ребенок. Ну как вы думаете, может ли дитя размышлять о судьбе народа, маленького словенского народа? Она ведь еще не успела по-настоящему ни узнать, ни понять его.
А он все время об этом думает. Он так и знал, что отшельническая жизнь до добра не доведет. Не будь он на пенсии, он каждый день видел бы людей. Он бы узнавал в учительской, о чем втихомолку размышляют коллеги. Он знал бы, о чем думают гимназисты, эти лягушата. Они-то всегда все знали, кроме, разумеется, того, о чем он их спрашивал на уроках. А сейчас он заперт в своем обнесенном забором доме, как в могиле. И Мария тоже. А сосед у него – Кайфеж, боже мой, этот трагический экземпляр, целиком погруженный в себя, в свой крохотный мирок, отгороженный от всех ветров. Учителю иногда приходило в голову, что, в сущности, сейчас они с Кайфежем в чем-то очень похожи.
Отпирая калитку, он заметил в почтовом ящике какие-то листки, свернутые трубочкой. Он достал их и хотел уже сунуть в карман, когда заметил, что текст отпечатан на стеклографе. Хотя в саду уже темнело, название он разобрал. Оно ничего ему не говорило, но интерес к листкам от этого не уменьшился. Не поздоровавшись с Марией, которая готовила ужин на кухне, Тртник прошел к себе в кабинет. Бросился в кресло. Первое, что он прочел, было страшно: «Август Жигон. От руки злодеев-оккупантов погиб видный деятель словенской культуры, исследователь творчества Прешерна Август Жигон. Карабинеры убили его выстрелом в спину в то время, когда он возвращался домой». Тртник опустил руку с листком, другой включил лампу. Стало быть, так. Убивают людей прямо на улице. Выстрелом в спину. Невзирая на возраст, несмотря ни на что. Он почувствовал, как тревожно застучало сердце. Снова взялся за листки, но не мог ничего прочесть. Он встал и трясущимися руками задернул занавеси. Зажег свет и остановился посреди комнаты.
– Мария, неужели в самом деле я так состарился?
Он прислушался к звуку собственного голоса и сел. Снова взял листки и просмотрел заголовки: «Поход Освободительного фронта», «Единый фронт народов», «Сопротивление словенского народа». Он попытался что-либо прочесть но, услышав шаги Марии, замер; спрятав листки за спину, он вопросительно глядел на нее. Мария заметила его тревожное движение и посмотрела на Тртника с любопытством.
– А, читаешь «Порочевальца»?
– «Порочевальца»?
– Ну да. Конечно же, это у тебя «Порочевалец».
– А ты знаешь про «Порочевальца»?
– Знаю.
– Почему же ты мне об этом ничего не сказала?
– Я не хотела тебя беспокоить. А почему ты хотел его от меня спрятать?
Мария рассмеялась. Так-так. Он ходит гулять в Тиволи. Кормит белочек. Потом возвращается. Бродит по саду. Дни и ночи думает о том, что надо что-то делать. Но не может додуматься что.
– Мы с тобой всегда были друзьями, так почему же теперь…
Он посмотрел на нее с отчаянием и побледнел. Отодвинул ее от себя, смерил взглядом с головы до ног. Точно видел впервые. И в самом деле, он видел ее впервые – впервые так смотрел на нее. В голубом переднике, в домашних туфлях – такая, какой бывала каждый день, когда возилась на кухне. И только теперь он действительно понял, сколько воды утекло. Как же устарели его мечты, представления, убеждения! Глаза ее уже не были голубыми, как прежде. Синий, зрелый взгляд был смело устремлен навстречу жизни. Как может одна мысль перевернуть все наши представления! Он невольно обернулся к портрету ее покойной матери. Смотрел и все не мог отвести глаз.
– О барышня, – выдохнул он, – когда вы успели так вырасти? По-моему, еще вчера вы были десятилетней девчуркой, с которой мы вместе читали Андерсена.
– Ты думал, что я всегда буду маленькой?
– Ну ладно, иди. А то ужин подгорит.
– Хочешь, я тебе принесу еще одну такую газету?
– Еще одну? – Он смотрел на нее, как учитель на ученицу. – Ну-ну!
Она выбежала из комнаты и вернулась с двумя газетами. Он начал читать: «Подлинная свобода не может быть дарована…» Прочитав статью, выпустил из рук листки. Да, он состарился, а Мария выросла. Он встал, разыскал на книжной полке книгу Жигона о Прешерне, перелистал и прочел последние строчки: «Прощай, юность. Прошедшая в работе, растраченная на знания. Но ни море, ни бурные вихри не испугают капитана!» Он снял очки. Было непонятно, то ли они запотели от слез, то ли погода была виновата. Он откинул голову и попытался осмыслить, что же, собственно, произошло? В один прекрасный день они вот так же подстрелят и его. Ни за что. И никого это не обеспокоит. Если бы кто-нибудь знал, что у тебя в голове! Впрочем, как раз за это могут подстрелить – иметь мысли запрещено под страхом смертной казни. За одно это, а ведь все эти месяцы он раздумывал, что предпринять. Теперь он сидит неподвижный, точно окаменевший, думает и думает, сам уже не зная о чем. И только чувствует: что-то должно произойти. И он рад, что оно произойдет, это что-то, пусть, лишь бы что-то совершилось, лишь бы не было время таким мертвым, таким безнадежным и постыдным!







