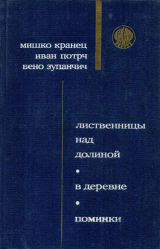
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
В один прекрасный день кто-то догадался исписать все наши ворота большими красными буквами. Сначала отец не мог разобрать, что там написано. Он прошел вдоль ворот два раза, пока не прочел: «Бор-дель». Он покраснел от гнева. До чего же злы люди. Нет для них большего удовольствия, чем облить грязью своего ближнего. На тротуаре стоял незнакомый мальчишка лет десяти. Лохматый, сопливый и грязный. Очнувшись от изумления, отец заметил, что мальчишка смотрит на него с улыбкой.
– Марш отсюда! – напустился на него отец.
– Ха, – ответил мальчишка, – а что, нельзя стоять на улице?
– Убирайся вон! – заорал отец. Он хотел схватить его за космы, но мальчишка со смехом отступил на шаг. – Чего рот разинул?
– Читаю, – ответил мальчишка. – Что у вас там в доме?
– Убирайся отсюда! – завопил отец.
– Ну нет, – последовал ответ. – С улицы ты меня не прогонишь. Она не твоя. Ты мне лучше скажи, что у тебя в доме, голые девки, да?
Отец вне себя от гнева повернулся и ушел. И как нарочно, светит солнце. Шелестит листва на деревьях; дует ветерок то с гор, то с болот. Птицы собираются в стаи и щебечут, щебечут, будто назло людям, которые стараются молчать. Отец чувствует, как он постарел; его уже не волнует аромат земли, который так много нашептывает молодым. Привязанность к своим владениям привела его совсем не к тому, чего он ожидал. Ему казалось, что он все больше и больше к ним привязывается. Но теперь его порой охватывало безразличие – ему вдруг начинало казаться, что он уже не имеет права поливать или пропалывать грядки. Раньше он жил днем, а теперь гораздо лучше чувствовал себя по ночам. Он стал часто просыпаться, выходил на балкон, сидел и думал. Ночью весь мир выглядит добрее, спокойнее. Больше похож на тот, прежний. Тогда человеку легче все обдумать, свести счеты с самим собой, с окружающими. В него словно входит частичка теплого ночного покоя, который приносит хороший сон и смягчает сердце.
Однажды в августе он проснулся вот так, среди ночи, и вышел на балкон – дверь вела прямо из его комнаты. Сюда же выходило окно соседней комнаты, где спала Филомена. Не зажигая света, отец присел на порог и взглянул на часы. Уже половина первого, а меня еще нет. С балкона хорошо видна улица – ее освещает один-единственный синий фонарь, висящий над перекрестком в пятидесяти шагах от нашего дома. Теплая ясная ночь, луны не видно, и от этого тьма кажется еще гуще. По мостовой, переговариваясь вполголоса, прохаживаются двое патрульных. Едва успели они завернуть за угол, как раздались один за другим два выстрела. И снова все тихо. Затем отец замечает две темные фигуры. Они ему кажутся похожими на гимназистов. Они замирают, прижавшись к домам, затем останавливаются у нашего забора. Они крадутся осторожно, как воры, точно боятся собственных теней. Опять пачкают заборы, паршивцы, думает отец. Завтра снова придется соскребать. Затем до его слуха доносится еле слышный свист. Фигуры исчезли, словно сквозь землю провалились. По мостовой, громко топая, проходит патруль – трое с винтовками наперевес. Мутно поблескивают каски в свете синего фонаря. Они идут прямо по середине мостовой, то и дело оглядываются. Отец затаил дыхание и еще раз подумал о том, где это меня до сих пор носит. Снова все стихает. Над крышами показывается обрюзгшая луна. Она заливает дома и сады неярким холодным светом. Звезды как будто разбились на кусочки. Синий фонарь над перекрестком слегка покачивается. Что-то звякнуло в комнате Филомены – точно задели горлышком графина о рюмку. Отец прислушался и оглянулся. Деревянная штора на окне спущена, там, где отломился кусочек планки, в щелке виден красноватый свет. Если эти болваны заметят свет, они станут стрелять. В это время до отца донесся хрипловатый ласковый мужской голос. Затаив дыхание он встал и приложил к щелке глаз. Через несколько мгновений он как нельзя лучше различил все. На ночном столике у Филомены горит лампочка, покрытая красным платком. Рядом стоит обернутая в солому бутылка водки. Филомена, голая, лежит на кровати, закинув руки за голову. У кровати стоит на коленях Карло, тоже голый. И даже спина у него черная и волосатая. Отец почувствовал, что вот-вот упадет. Он глухо застонал и сполз на порог балкона.
Вернувшись домой, я нашел его там, уложил в постель и смочил ему лоб и затылок холодной водой.
– Что случилось? – шепотом спросил я, когда он наконец очнулся и стал потерянно озираться.
– Филомена… – пробормотал он и устало прикрыл глаза.
– Что Филомена? – спросил я, нетерпеливо тряся его за плечо.
Отец открыл глаза, посмотрел на меня и снова зажмурился.
– Филомена… Она спит с этим проклятым итальянцем, – прошептал он, не открывая глаз, и глубоко вздохнул. Наверно, ему было стыдно смотреть на меня.
– Ах, вот что, – сказал я разочарованно. – Значит, ничего нового.
Отец встрепенулся и приподнялся, опираясь на локти:
– Ты говоришь, ничего нового?
– Ничего нового, – небрежно бросил я. – Ты разве не знал? Не читал, что написано на заборе? Неужели ты не слышал, как скрипит кровать?
Отец долго, не отрываясь, смотрит на меня. Смотрит, как на незнакомого. Быть может, ему показалось, что я не такой, каким был совсем недавно. Собственно говоря, он никогда особенно мной не интересовался. Он уже давно решил про себя, что и я пошел не в него. Он никогда не спрашивал меня, хожу ли я в школу, как у меня дела, где я болтаюсь, когда меня нет дома. И сейчас, когда я лежу в постели, скрестив руки под головой, он все еще пристально смотрит на меня.
– Погасить свет? – спрашиваю я.
– Это ты писал на заборе?
– Я? С какой стати я буду этим заниматься?
– Скажи-ка мне, где ты болтаешься после полицейского часа?
– Я был в городе. У товарища. Мы засиделись за картами.
– Врешь! – крикнул он.
– Ну пусть вру, – равнодушно согласился я.
– Вы все врете, – горестно застонал он. И повторил: – Все врете, все! Все вы пошли в мать.
– Так погасить свет или оставить?
– Погаси!
На Марии светлое шелковое платье, все в голубых цветах.
– Я очень торопилась, боялась опоздать. Надо было еще помыть посуду и убрать комнаты.
Голос у нее как серебряный звон родниковой воды, текущей по каменистому руслу. Но это не здесь, а где-то в другом месте, кто знает где. Там, где меня ничто не мучает и не угнетает.
– Ты почему такой мрачный?
– А с чего мне веселиться?
– У тебя неприятности?
Да. Да. Да. Она идет совсем рядом. Я чувствую легкие движения ее гибкого тела под шелком. Прислушиваясь к шелесту ее платья, вспомнил какой-то отрывок из «Всеобщего закона» Ван дер Вельде и подумал с ожесточением: «Все это чепуха». Ее темные волосы блестят. Из-под них выглядывает маленькое круглое ухо. Ее шеи как будто не касались ни солнце, ни ветер. Разве из-за того, что произошло у меня с Анной, я стал опытнее Сверчка? Почему мне так трудно выразить мою страстную тоску по Марии? Вся моя решимость разлетелась от одного ее неожиданно произнесенного слова. Я беру ее за руку. Чувствую, как она слегка прижалась ко мне. Меня бросило в жар, потом в холод. С отчаянием я подумал, что она и не подозревает, что со мной творится. Я выпустил ее руку и, совсем смешавшись, присел и притворился, что завязываю ботинок. Что мне говорить? Что делать? Смятение обдает меня то горячими, то ледяными волнами, бьющимися о твердый порог моих мыслей.
– Какой ты странный!
– Я сам себе в тягость.
– Как ты много говоришь.
Запруда на Шпице. Огороженный пляж гребного клуба. Грязноватый Малый бассейн. Лужайка над Любляницей чуть повыше пляжа. Ветви деревьев склоняются к самой воде. Сквозь них видны ивы, растущие на том берегу. Время от времени проходит одинокая лодка, оставляя за собой след. Вода спокойная, темная, но почему-то совсем непрозрачная; на берегах – густые кусты, дно тоже все заросло. Может быть, виною тому тайны, которые мы, сами того не ведая, носим в себе? Мария спряталась в кустах. Переоделась и идет, стараясь ступать на цыпочки. Ей колко идти по стерне. Я разделся, сидя у воды на корточках, и сложил одежду на ботинки. Купальный костюм Марии, как и ее платье, весь в голубых цветах.
– Ты уже купалась в этом году?
– Да, один раз, с папой.
– Ты хорошо загорела.
– А ты?
– Я вообще забыл, что можно купаться.
– Правда? А почему?
Я пожимаю плечами. Смотрю на нее. Целый год я не видел ее в купальном костюме. Она приподняла волосы на затылке и связала их в густой темный узел. Блестит нежная кожа, обычно прикрытая волосами. Когда она нагибается, я вижу ее грудь, две маленькие робкие голубки, затаившиеся под моим жадным взглядом. Я ложусь на спину и закрываю глаза. Сквозь веки я чувствую солнце. Оно тает на раскаленных веках и, как воск, разливается по лицу. Когда я через минуту оборачиваюсь к Марии, я вижу ее лицо в синеватой тени. Так оно кажется еще нежнее. Над нами быстро пролетают две дикие утки. Синие глаза Марии еще темнее, чем обычно. Я смотрю прямо на солнце, и тогда в глазах у меня начинает кружиться несметное количество оранжевых солнц. Очень приятно! Солнце не светит одинаково и двух минут подряд. Люди приспосабливаются к нему, судят о нем в зависимости от своего настроения и часто бывают к нему несправедливы. Время от времени теплый ветерок проводит по моей щеке своей мягкой ладонью. Пахнет травой. Вот сейчас я спокоен.
Мария с улыбкой наблюдает за мной.
– Ты явно пришел в хорошее настроение.
– Еще бы, – отвечаю я, не открывая глаз. – Ты на меня действуешь успокаивающе. Рядом с тобой я как ребенок. Беспомощный. Тихий. Хороший. Вот так бы всегда и лежал.
Я жмурюсь и чувствую, что она рядом. Совсем близко. Мне хочется ей сказать, что я ощущаю ее присутствие с закрытыми глазами. Я чувствовал бы ее, даже если бы ослеп. Что-то шевельнулось бы во мне и подсказало, что она здесь. Если бы она приближалась ко мне, я бы знал, сколько шагов осталось до нее. Я бы дотронулся до нее рукой и сразу понял, какое у нее настроение, весела она или чем-то расстроена. Я коснулся бы ее губами и угадал, обожгло ее солнце или ветер. И мне кажется, я бы не смог ошибиться.
На реке послышался плеск весел. Мелкие брызги долетели до нас. Мария вздрогнула. Я открыл глаза – мир вокруг, чистый, зеленый, спокойный, залит солнцем. Я пригладил волосы и засмеялся.
– Я говорил глупости? Нет? Значит, я только думал. Довольно грустить, Мария! Пошли купаться!
Я встаю, подхожу к воде и, не оглядываясь, ныряю. Мария входит в реку на том самом месте, где только что нырнул я. Я выныриваю у противоположного берега. Отфыркиваюсь, мокрые волосы прилипли к лицу. Мария зовет меня:
– Нико! Не смей оставлять меня одну!
В ее голосе звучит неподдельный, трогательный испуг. В одну секунду я оказываюсь рядом с ней. Мы плаваем взапуски, брызгаемся. Мария весело визжит, я хлопаю ладонью по воде, и капельки летят ей прямо в глаза. Она заслоняется рукой и радостно улыбается маленьким радугам. Они мгновенно возникают и пропадают. Мне жаль Марию, я позволяю ей побрызгать в меня водой и делаю вид, что очень боюсь этого. И эта жертва мне страшно приятна.
Мы выбегаем на берег, покрытые гусиной кожей. Я кладу голову ей на грудь и слушаю, как бьется ее сердце. Я еще никогда так не делал. Жду, что скажет Мария. Жду, что она отодвинется. Жду, пока у меня все поплывет перед глазами. Сердце ее бьется, как будто тикают маленькие часики. Только времени больше нет. Оно испарилось, оставило нас вдвоем.
Биение ее сердца вроде бы мне знакомо. Каждый толчок о чем-то говорит. Но я не понимаю о чем и начинаю прислушиваться всем телом. Она рассказывает маленькую повесть о своих снах наяву. Я боюсь открыть глаза, чтобы не спугнуть их. Отец везет ее на велосипеде на Врхнику. Усталые, они сидят на траве. Мария хочет есть, отец разрезает булочки и намазывает на них чуть-чуть масла. Из-под скал текут струйки воды. Вода журчит, поет, стекая в реку. Мария поела, теперь она хочет пить. Она хочет выпить всю Любляницу. Они находят площадку у омута. Мария ложится на живот, а отец держит ее за ноги. Ух, какая вода! Холодная, чистая, сверкающая! Даже серебро не бывает таким. Мария пьет и смотрит на реку. И вдруг чувствует, что она уплывает, что ее куда-то уносит. Затаив дыхание она уже не пьет, только смотрит на воду, а сердце колотится так, что слышно. Неужели и вправду может вот так завертеть человека? И когда ей показалось, что вот-вот ее совсем закрутит, она опустила лицо в воду. И чуда как не бывало. Весь день она думала об этом. Она была еще маленькая.
Она думала о том, как так бывает. Неужели правда все, что в сказках? А если правда, то почему говорят, что это сказки? Она рассказала об этом отцу. Отец смеялся и называл ее сумасбродкой и синичкой-вертишейкой. Вечером, когда они возвращались домой, ей хотелось, чтобы чудо повторилось. Казалось, они с отцом стояли на месте, а все неслось им навстречу: дорога, дома, деревья, небо. Все летело мимо, не касаясь их… «И думаешь, мне повезло? Ничего подобного…»
Он подошел совсем неслышно:
– Привет!
Мария встрепенулась и с улыбкой ответила:
– Привет!
– О, – произнес я, не открывая глаз: по голосу я сказал бы, что это Сверчок.
– Так вы знакомы?
– Еще бы, – заметил Сверчок, – мы уже год, как учимся в одном классе.
– Вот как! – Мария рассмеялась.
Я приподнялся на локтях и удивленно взглянул на нее.
– Что слышно, Сверчок?
– Ах, – вздохнул он, – почти ничего. Марьяна убили. Вы уже знаете?
– Читали в последнем номере «Порочевальца», – ответил я.
– Он был чуть ли не один. Если платить по принципу «один за одного», битва проиграна. Этих зеленых тварей больше, чем травы.
– Не в этом дело, – сказала Мария.
Сверчок не ответил. Он нервно обрывал траву вокруг себя.
– Ты какой-то взмыленный, – заметил я. – Что с тобой?
– Да, – сознался он, – мне как-то не по себе. Я слишком много философствую. Мне теперь даже звезды причиняют боль. Сейчас, осенью. В один прекрасный день я спросил себя: быть может, люди тоже планеты, вращающиеся вокруг Солнца? Движутся, кружатся, приближаются и отдаляются. Иногда встречаются, но не могут достать до Солнца, хотя оно их к себе притягивает. Таков закон Вселенной. И если так, то… тогда и я не более как одна из планет и мне тоже не суждено коснуться солнца.
Я поднялся и стал с интересом прислушиваться.
– Нет, – продолжал он, глядя на свои пальцы, обрывавшие траву, – нет, сказал я себе, люди не должны быть как планеты. Люди – это миры, каждый для себя, а не планеты. Они сами творят свой путь, сами создают законы. Такой мир – это я, и ты, Нико, и ты, Мария, и мой отец. Каждый чем-то отличается от других. И несмотря на это, мне кажется, что я плаваю в пустоте, не зная, куда меня уносит. Да нет же, говорю я себе, я не должен допускать, чтобы меня уносило. Я сам свой мир, и, если встречаются два таких мира, это и в самом деле должно стать встречей двух миров. Какой будет эта встреча, решу я сам. Я легко влюбляюсь и начинаю ненавидеть, быстро впадаю в тоску и становлюсь мечтателем – это мое право, но я должен сознательно относиться к самому себе. И несмотря на это…
– Если можешь, не порти траву, – попросила Мария.
– Какой поток красноречия! – улыбнулся я. – Правда, немного вымученный. Откуда это ты в таком настроении?
– Я был на той стороне. Мне стало скучно. Я переплыл реку и наткнулся на вас.
– Так что же ты болтаешься здесь, – я не на шутку обозлился, – и мешаешь отдыхать честным людям?
– Мне было скучно, – ответил он, – и потом, мы с Марией договорились встретиться.
Мария покраснела.
– Сверчок, ты…
– Что поделаешь, – перебил он ее без тени улыбки, – договорились, это факт. Ты сказала, чтобы я пришел на Любляницу. И что ты меня познакомишь с одним парнем, которого хорошо бы связать с…
– Нахал, – воскликнула она сердито, – ух, какой ты противный!
– И я пришел, подчиняясь дисциплине, – продолжал Сверчок с отсутствующим видом, – чтобы найти тут этого старого гада из седьмого класса. «Ну-ну, – сказал я себе, – прекрасно! Тем лучше, по крайней мере свяжу этих двоих». Но к сожалению, я забыл прихватить епитрахиль.
Я вытаращил на него глаза, ничего не понимая, с трудом сдерживая смех. Он смотрел на воду, продолжая терзать траву. Лицо его сейчас казалось еще более помятым, чем обычно.
– Да, – сказал я, – в самом деле жаль. Только ты не совсем прав. Мария ведь меня не любит.
– Помолчи, – сказала Мария и опять загадочно улыбнулась.
– Пошли в воду?
– Пусть так, – мрачно согласился Сверчок. – Пошли в воду!
И мы все трое бросились в реку. Мы плескались, хлопали по воде руками, облака брызг летели нам в глаза. И на четверть часа с этого места разбежались все рыбы и не было здесь никакой войны. Когда мы, окоченевшие, выбрались на берег, Сверчок стал прощаться.
– Аддио. Смотрите не ссорьтесь из-за меня.
Мы улеглись рядом на песок лицом вниз, опустив головы на скрещенные руки. Солнце все еще припекает, хотя день уже клонится к вечеру. Мария выпростала одну руку и положила ее мне на затылок.
– Ты сердишься?
Я тоже протянул руку и погладил ее по волосам.
– За что?
– Я не сказала тебе, что собираюсь познакомить тебя со Сверчком.
– Нет. За это я не сержусь. Ты ведь не умеешь лгать.
– Это правда. Разве только чуть-чуть. Но ты сам виноват. Ты мог бы мне довериться.
– А что значит это твое «чуть-чуть»?
– Что? Да вот как сейчас. Иногда ложь заключается в том, что человек о чем-то умалчивает.
– Это верно. В таком случае я страшный лгун. Я до сих пор не рассказал тебе то, в чем давно должен был сознаться.
– А в чем? О чем ты умолчал?
Я все еще чувствую ее маленькую ладонь на своем затылке. Если я скажу, она уберет руку, подумал я с ужасом.
– Я был у Анны.
– Ну и что ты там делал?
– Я с ней спал.
Она не ответила. Я только ощутил, как птичка на моем затылке затрепетала и улетела. Я снова почувствовал солнце. Невыносимо горячее по сравнению с легкой прохладой ее ладони.
– Это правда. Один-единственный раз. С тех пор прошло уже полгода. Вот что я должен был тебе сказать.
Она молчит. Я не решаюсь поднять голову, не решаюсь взглянуть на нее.
– Ты поэтому был такой странный последнее время? – Голос ее звучит ровно, но из него как бы исчезли все краски.
– И поэтому тоже.
– А почему ты к ней пошел?
– Откуда я знаю! Может быть, из-за тебя.
Мы долго молчали. С сумерками стали одеваться. Надо ей что-нибудь сказать. Но что?
– Откуда у тебя этот купальный костюм? В прошлом году у тебя был другой.
– Папа подарил ко дню рождения.
– А когда у тебя день рождения?
Она покраснела.
– Сегодня.
У нее сегодня день рождения! Как нарочно. Тем временем она уже оделась, причесалась и пошла вдоль берега. Я медленно плелся за ней. Блеск воды утопает в мягком сумраке. На плотине шумит вода. Ивы у пляжа издали похожи на темные, печальные фигуры над могилами чего-то давно минувшего. Мы возвращаемся по Краковской дамбе, тем же путем. Мария смотрит прямо перед собой. Лицо у нее спокойное, застывшее. Мы идем под густыми каштанами, и я внезапно ощущаю под ногами первые листья, опавшие с деревьев. Осень, подумал я, осень в Любляне никогда не опаздывает.
Туманы по утрам и ясные дни. Туман и солнце постепенно вбирают в себя зелень парков и лесов. Время от времени идет дождь. Дождь прибивает пыль и смывает мусор в канализацию. Он моросит тихо, размеренно. Когда он идет чуть сильнее, стекла витрин отражают блеск солнца на краях облаков. Капельки, похожие на слезы ребенка, стекают вниз.
На Бреге, под каштанами, гимназический базар. Крики. Споры. Назойливые ребята-перекупщики берут книги за бесценок и продают по хорошей цене, чтобы заработать себе на учебники. Парни мимоходом поглядывают на девушек, подмигивают и шутят, гораздо смелее, чем наедине. Девушки делают вид, что не замечают ни взглядов, ни озорных слов. Они прогуливаются под руку и перешептываются. Пестрая ярмарка юности, которой еще не приходилось задумываться о будущем.
– Латынь отдаю даром!
– Меняю литургию на естествознание!
– Гигиену на физику!
– Продаю немецкий для третьего класса!
Гимназисты-старшеклассники стоят на берегу Любляницы и, облокотившись о деревянные перила, с рассеянным видом роняют в воду окурки. Иногда пройдут чьи-нибудь родители. Сын, наверно, где-то на каникулах. А может, болен. Или не вернулся из добровольческого легиона, куда ушел весной без благословения родителей. Возможно, и погиб в Загребе от кинжала усташа. А быть может, старики просто боятся, как бы сын не отдал книги слишком дешево: каждый динар на счету. Они сконфужены, им кажется, что они пришли зря. Они ведь не умеют продавать. И расхваливать свой товар тоже не умеют. Растерянно смотрят они на галдящую ярмарку. Время от времени неподалеку проходят два карабинера. Посмотрят, перекинутся парой слов, повернутся на каблуках и уйдут. Словно их и не было.
Однажды, уже к вечеру, трое сильных парней поднимают на плечи четвертого – кудрявого, с редкими зубами. Воздев руки, он обращается ко всем:
– Ребята! Товарищи! Слушайте!
Кое-кто прислушивается, ожидая озорной проделки. Остальные продолжают проталкиваться, не обращая на него внимания. Он опускает руки на головы держащих его гимназистов.
– Товарищи! Немцы подожгли Рашицу! Рашица горит! Рашица у Шмарной горы. Предлагаю всем покинуть книжный базар!
На другом конце ярмарки раздается чей-то пискливый голос:
– Арифметика, арифметика для четвертого!
– Товарищи, Рашица горит!
Мгновение тишины. Потом – взрыв голосов. Толпа молодежи бурлит, шумит, оратора уже не слышно. Затем начинают расходиться, группами – кто на Град, кто к товарищам:
– Рашица горит!
К небу поднимается облако серого дыма. В нем сверкают мутные языки пламени. Ветер тащит дым к Шмарной горе. У меня сжимается сердце: дым, дым, как тогда, когда горел бензиновый склад у Святого Вида. Дым клубится на ветру, словно предупреждает. Как огромное колеблющееся чудовищное дерево, он бросает горестную тень на Люблянское поле. И до самой ночи этот дым будет скрывать печальную судьбу жителей села Рашицы.
Вскоре после этого случая открылась школа. Я не уверен, что нас надо было еще чему-нибудь учить. Мне кажется, в такое время учеба едва ли имеет смысл. Грациоли убежден, что лучше запереть нас в школы, чем позволить слоняться по улицам. В противном случае он закрыл бы все учебные заведения до единого. Учителя молчат. Они неохотно заговаривают на щекотливые темы. В классах все по-другому. Каждый рано или поздно определяется. Если он не определяется сам, ему помогают. В коридорах вывесили плакаты. На каждом – молодчик с поднятой рукой. И надпись: «Saluto romano»[14]. Через несколько дней плакаты исчезли. Никто не видел, как и когда. Вскоре их снова наклеили, на этот раз высоко, почти под самым потолком. Тогда Демосфен притащил шприц и с его помощью обрызгал плакаты и стены, конечно, чернилами. Вонючими, неизвестно какого цвета школьными чернилами. Разумеется, очень скоро всем стало известно, кто это сделал, – всем, кроме Бледной Смерти. Конспирация, без которой немыслима подпольная организация, всегда в тягость молодежи. Молодость доверчива по самой своей природе. Она не верит до конца в порок, не знает законов классовой борьбы. Она верит, что в каждом должен гореть огонек чистого патриотизма. Жизнь еще не научила ее рассудительности, не отравила осторожностью, а кто знает, где граница между осторожностью и трусостью?
Ночи стоят тихие, теплые. Слова любви как созревающий виноград. К утру ложится густой туман, он напоминает об осени, о зиме. Из тумана выступают чужие, какие-то карикатурные силуэты карабинеров, полицейских, альпийских стрелков, чернорубашечников. На их крапивного цвета мундирах лежит легкая паутинка росы, на лицах – нескрываемый страх.
Комитет собрался в отеле. Новая власть заседала в зале, обычном, но отводимом для избранных гостей. На столе стояла двухлитровая бутыль с вином. Официантка время от времени заглядывала в дверь, но не входила. Я сосчитал присутствующих – пять человек. Только один из них был уже в солидном возрасте – Йосип, носильщик № 77, бывший сержант запаса, он знал толк в вине и в свое время воевал в Карпатах. Йосип носил рыжие подстриженные усы и картавил.
Вторым был Сверчок, третьим – механик Петер, секретарь местной организации. Его прозвали Мефистофелем за черные глаза. Четвертым – Я. Так мы его звали за то, что любую фразу он начинал со слов: «Я считаю». Выражение лица у него было как у патера, он носил очки с толстыми стеклами в черной оправе. Сам себе он придумал устрашающую кличку «Тигр». Представительница женщин, Кассиопея, отсутствовала по уважительной причине. Пятым был я. Я, правда, не был членом комитета. Меня вызвали на заседание в качестве представителя саботажной группы, в которую входили еще Тихоход и Леопард.
Сначала Тигр сделал доклад о политическом положении. Он был кратким: на русском фронте за отчетный период ничего нового не произошло, а союзники его мало интересовали. У нас на родине развернулась активная подрывная деятельность, группы партизан собираются в отряды. Он признался, что по этому вопросу ему известно не больше, чем сообщается в последнем номере «Порочевальца». И вообще, было бы лучше, если бы «Порочевалец» выходил два раза в неделю.
Мефистофель был неразговорчивый человек лет тридцати. Черные глаза его неизменно светились грустью. Его жена и ребенок остались в Гореньской, на немецкой территории. Сам он, опасаясь гестаповцев, перебрался в Любляну. Тоска по семье терзала его постоянно. Он сообщил, как обстоит дело с добровольными пожертвованиями населения. Цифры говорили о том, что собрано немало, хотя возможности нашего участка были весьма скромными – у нас не было ни одного финансового «кита», как выразился Йосип. Тигр одобрил сообщение, мы все присоединились к нему, и оно было принято без возражений. Затем Тигр доложил о распространении «Порочевальца» и о двух запланированных операциях. Я заметил, что неправильно писать «Совецкий Союз», как я видел на стенах некоторых домов; мне это показалось очень смешным. Затем шла речь о нескольких новых доверенных лицах и, наконец, о фонде одежды, которую собрали для партизан женские группы.
В заключение Тигр остановился на особом вопросе, который надо было обсудить детально и всем вместе. На нашем участке поселились несколько итальянских офицеров и унтер-офицеров. Это плохо по многим причинам:
1) Это дает им возможность держать под наблюдением дома, где они живут.
2) Они могут привлечь на свою сторону легковерных людей – такие тоже встречаются, особенно среди женщин (при этом Йосип со значительным видом подмигнул неизвестно кому, а Тигр изумленно на него посмотрел).
3) Кроме всего прочего, они могут легко выведать у женщины необходимые им сведения.
4) Из окон они могут по ночам беспрепятственно наблюдать за тем, что делается на улице: теперь уже не выйдешь спокойно на операцию.
Если от часовых и патрулей ускользнуть нетрудно, то от выстрела в спину из окна тебя ничто не спасет. О том же, как позорят нас всех упомянутые женщины, лишенные чувства национальной гордости, нечего и говорить.
Вслед за Мефистофелем снова взял слово Тигр. Он сказал, что следует остричь несколько экземпляров девиц, чье недозволенное поведение не вызывает сомнений, и тем самым предостеречь всех, кто вздумает забыться. Если же будет установлено, что такие женщины занимаются еще и предательством, шпионят, собирают сведения или что-нибудь в этом роде, то по предложению местных комитетов дело возьмут в свои руки высшие революционные инстанции. Имеется решение на этот счет Словенского народно-освободительного комитета «О защите словенского народа и его движении за освобождение и объединение», опубликованное в девятнадцатом номере «Словенского порочевальца». Мефистофель добавил, что на нашем участке есть два таких явных случая: Анна Поклукарова в доме № 17 и Филомена Кайфежева в доме № 19.
Никто не смотрел на меня. Но я почувствовал, как вся кровь прилила к моему лицу, и опустил глаза.
– Что касается Поклукаровой, – сказал задумчиво Сверчок, – дело неясно. Неизвестно, кто он ей – только квартирант или еще и любовник. Это мы рано или поздно выясним. А Кайфежева… Нико, ты не мог бы с ней поговорить?
– Нет, – поспешил ответить я.
– Товарищи, – вмешался Йосип, – дело дьявольски щекотливое. Разговаривать с этими девицами не имеет смысла. Разве можно в чем-нибудь убедить такой элемент, если у нее своего ума нет?
– А как ты считаешь? – спросил Тигра Сверчок.
– Мы должны быть осторожны, – сказал Мефистофель, – чтобы никого не обидеть зря. Новая власть должна обдумывать каждый свой шаг.
– Я говорил с ее отцом, – сказал Йосип. – Его это ужасно потрясло. Не столько с национальной точки зрения, сколько с моральной. Но сделать он ничего не может, да и не хочет.
– Если позволите, – подал голос я, – я объясню, как обстоит дело.
С той минуты, когда я впервые взял в руки красный мел, смесь сурика и парафина и начертил символ революции на серой стене нашей церкви, я жил в постоянном напряжении. Оно оставляло меня только в часы полного одиночества или безмолвных бесед с самим собой. Затем это напряжение перешло в восторг, от которого глаза мои каждую минуту готовы были наполниться слезами. И я радостно предавался ему, как предаются любви. Быть может, это было одно, единое чувство. Порой я старался сопротивляться ему, желая хоть на секунду от него освободиться. Мне хотелось трезво и беспристрастно осмотреться. Я чувствовал, что восторг этот служит источником гордости и уверенности в себе, какой я раньше не знал, и в то же время я боялся, что он застилает мне глаза.
Я боялся своей собственной поспешности, опасаясь сделать что-нибудь такое, о чем мне потом придется пожалеть. Как просто все было, когда я впервые участвовал в операции. Оккупанты. Предатели из своих. Национальная и социальная революция. Борьба не на жизнь, а на смерть. Мое участие во всем – скромная доля единицы, необходимая революции, а еще больше мне самому. Тогда я ни на секунду не задумывался ни об отце, ни о матери, ни о ком-либо другом. С тех пор прошло несколько месяцев, и вот я ощутил, что надо мной нависло что-то мучительное – трудно определить, что именно. Меня словно все время рассекал нож необходимости. Я часто мечтал о том, как разнести в клочки этот наш мирок, проклятый и ненавистный мне мир Кайфежей, – разнести, как плохо связанный плот. Но когда я почувствовал, что беда стоит у порога, я содрогнулся. Что же мне делать? Попытаться защитить этот мир? Или оборвать последние нити, связывающие меня с ним? Пусть летит к дьяволу, думал я, сознавая в то же время, что это легче сказать, чем сделать. Сейчас, говорил я себе, такое время, когда надо быть неумолимым, решительным, самоотверженным. А если я начинал думать о ком-то в отдельности, это казалось мне невозможным. Вот сейчас мне надо что-то сказать о Филомене. Завтра, быть может, мне придется говорить об отце, послезавтра – об Антоне. Каждого война поставит на роковой перекресток.







