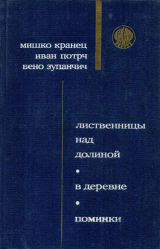
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Мария! – позвал он. – Где ты, Мария?
Анна опустила ковер, перегнулась через подоконник.
– Господин учитель, она пошла в город. Не волнуйтесь, она девочка разумная. Вы, вероятно, забыли.
– Забыл? – переспросил старик.
Он погрозил ей кулаком и кинулся в дом. «С ума сошел», – подумала она и, оставив ковер висеть на подоконнике, сбежала вниз. Дверь была не заперта. Учитель стоял в передней у вешалки и трясущимися руками пытался завязать галстук.
– Да не волнуйтесь же вы, господин учитель, – заговорила она вкрадчиво. – Успокойтесь. Она вот-вот вернется. Наверное, пошла в магазин.
Учитель даже не обернулся. Он кое-как затянул галстук и надел шляпу.
– Если хотите, я ее поищу, – предложила Анна, напуганная его видом.
– Прочь, прочь, – нетерпеливо прошипел учитель. – Прочь, я пойду сам. Я пойду сам, господи… Как вы можете!
– А ну, не кричите, – вдруг решительно заявила Анна и встала в дверях. Стоя спиной к двери, она вынула из замочной скважины ключ и зажала его в кулаке. – Никуда вы не пойдете… вы подвергнете опасности себя, ее и еще кое-кого. Успокойтесь, ради всего святого.
С умиротворяющим жестом руки она приблизилась к нему.
– Нет-нет, господин учитель, умоляю вас, она скоро придет, через четверть часа она вернется.
Она обняла его за плечи и, не переставая говорить, стала подталкивать к кухонной двери. Она шутила и дружески похлопывала его по спине. По дороге незаметно сняла у него с головы шляпу и бросила ее на вешалку. Шляпа сначала зацепилась, но потом упала и покатилась по полу. Анна открыла дверь в кухню и со смехом придвинула ему стул. Взяла стул и себе, сдернула с головы платок, сверкнув зубами в улыбке, поправила свои черные волосы.
– Видите, вот вы и успокоились. Господин учитель, не надо ничего бояться… сейчас война – до чего же мы дойдем, если будем всего бояться. Когда я была маленькая, я страшно боялась летучих мышей… И это глупый страх… Боишься чего-то, а почему – сам не знаешь. Хотите чаю?
Он покачал головой и смотрел на нее как на что-то давнее и забытое. Она заглянула ему в глаза и испугалась. И тут она положила руку ему на колено с той непосредственностью, которая порой опаснее самой женской красоты.
– Ну подумайте, не может же она все время сидеть с вами. Что она вам будет готовить? Ей надо в магазин, в молочную, на рынок… ведь с карточками так тяжело… никогда не получишь то, что нужно…
– Какие карточки? – пробормотал учитель.
– Продовольственные карточки. Все ведь продают по карточкам, начиная от хлеба и кончая мясом.
– Я этого не знал. – Он удивленно заморгал.
– Поэтому я вам и рассказываю, чтобы вы знали… За каждой ерундой надо идти отдельно, причем в определенное время. Голову потеряешь и ноги собьешь. Хочешь прожить день – половину его тратишь на беготню. Мой шеф, адвокат, у которого я работаю, отпускает меня с утра, если мне надо за чем-нибудь сбегать. Я ем два раза в день – после работы и совсем чуть-чуть вечером. Да не бойтесь вы, ничего ведь не случилось!
Голубь на окошке все так же нежно ухаживал за голубкой. Анна взглянула на них с завистью. Закусила губу. В глазах учителя сверкнула ненависть.
– Ваши красивые глаза лгут, – сухо сказал он.
Изумленная, она поднялась со стула.
– Сидите. Сейчас я вам приготовлю чай.
Она вышла, заперла дверь и задумчиво пошла к себе в кухню.
Мальчишки перед домом все еще гоняли грохочущую жестянку. Вдруг младший отшвырнул ее и остановился пораженный. На подоконнике кухни Тртника стоял мужчина.
– Ой! – завопил мальчик, подбегая к дому. Старший кинулся за ним. Они остановились под окном и смотрели на старика, который дрожащими руками ощупывал стену, где бы спуститься из окна.
– Смотри, учитель-то спятил!
– Убьешься, – сказал старший, курносый, с пепельными волосами.
– Ну и пусть! – Младший хохотал. Но старший поднял палку и подскочил под самое окно.
– Убьешься! – закричал он Тртнику. – Только попробуй сунуться, я тебя изобью, как собаку!
– Да оставь ты его, психа!
– Смотри получишь, – твердил мальчишка, отталкивая младшего. Старик смотрел на них потерянным взглядом и беззвучно шевелил губами.
– Лезь назад сейчас же! – кричал старший мальчишка, красный от волнения. – Назад, тебе говорю, слышишь? Только спрыгни, я тебя стукну, понял?
Младший хрипло захохотал, моргая хитрыми зеленоватыми глазами.
– Да он бешеный, этот учитель. Я его знаю.
– Получишь, попробуй только, – грозил старший, не переставая размахивать палкой. Он доставал ею почти до подоконника. В это время младший увидел в калитке моего отца.
– Дядя, – закричал он, – там учитель хочет выскочить в окошко.
Отец быстро пошел к дому.
– Отойди, сопляк. – Он оттолкнул мальчика и посмотрел наверх. – Господин учитель, в чем дело? Пожар, что ли?
Учитель, все еще держась за зеленые ставни, выпучил глаза и попятился, но оступился и навзничь упал в кухню. Отец с поднятыми руками бросился в дом. Мальчишки последовали за ним. У двери они остановились. Младший нажал кнопку звонка и при этом ловко подсунул под нее дощечку. Звонок зазвенел непрерывно, тоненько, дребезжаще, словно жалуясь. Старший парнишка мимоходом открыл почтовый ящик и запихнул туда жестянку. Анна выглянула из окна. Не увидев никого внизу, она сбежала по лестнице и у двери столкнулась с отцом.
– В окно хотел выскочить, – сухо сообщил отец.
– Ох, – вздохнула она, – чуть не удрал полуодетый, я его заперла. Он немного не в себе, знаете, я уже давно замечаю.
– Скорей, скорей, – торопил отец, толкая дверь. Когда они вошли, Тртник пытался подняться с полу. Они помогли ему, усадили на стул. Отец взял его за руку:
– Ничего страшного, учитель, успокойтесь…
– Я принесу чай, – сказала Анна. Проходя мимо двери, она заглушила звонок.
– Нельзя через окно, господин учитель, – внушал отец.
Учитель смотрел в пол, ему было стыдно. Он ощупывал ногу, которой ударился о стул.
– Где Мария?
– Сейчас придет, – ответил, поколебавшись, отец, – Сейчас придет, не волнуйтесь!
Анна принесла чай и поставила на стол.
– Вот, выпейте горячего, – сказала она, доставая из ящика ложку.
– Где Мария? – снова спросил учитель, отворачиваясь от чая.
– Она пошла в магазин, – ответила Анна, взглянув на отца. – Вот и господин Кайфеж подтвердит…
Отец прислонился к посудному шкафу и сказал:
– Идите, госпожа, один я его скорее успокою.
Анна пожала плечами и вышла. Проходя мимо двери, она вставила ключ изнутри. «Ну и дура же я, – сказала она про себя. У нее хлынули слезы. – Никому-то я ненужна. Да еще этот старый идиот…» Она вытерла рукавом слезы и опять занялась ковром.
Голуби тем временем перелетели от Тртника на ее окно и продолжали целоваться.
– Кш-ш! – сердито прогнала она их. Они вспорхнули и уселись на конек крыши на другой стороне улицы.
При мысли о погибших начинает казаться, что из всего, что суждено человеку, нас пощадила одна только смерть. При мысли о Сверчке я испытываю чувство вины. Один должен был погибнуть, но кто? Почему непременно он, а не я? Никогда нам до конца не понять, что, собственно, с нами происходит. Вспоминая о пережитой опасности, кажется, что тогда ты ее и не чувствовал, но теперь даже при мысли о ней становится страшно. Возможно, это легкомыслие, а мы принимаем его за мужество, или нужда, или необходимость, которую мы называем отвагой. Точно так же мы часто путаем страх с ужасом перед необходимостью принять решение, касающееся чужой жизни, незнакомой нам, живой человеческой жизни, которую почему-то вверили нам. Может быть, потому что другие стали нашими судьями и палачами. Порой, когда я остаюсь один, я пою. Мне самому смешно, но это так. Быть может, я просто пытаюсь избавиться от мысли о себе и о других. Теперь я понял, почему говорят, что солдат не должен рассуждать. Я столкнулся с порядочным человеком, и он обругал меня убийцей. Ну что ж, взвалим этот трусливый упрек на свои плечи. Время поможет отличить правду от лжи. Но не это тяжело. Тяжка память. Люди краснеют перед своей совестью даже при мысли о том, как они в детстве мучили животных. Ты думаешь, я смогу забыть полицейского, в убийстве которого я участвовал? Вряд ли. Ты знаешь, что это оккупант, не более. Рассудок диктует, как надо действовать, ибо некогда вымерять справедливость на граммы – ведь речь идет о большой справедливости. Это не наша вина. Остается только груз, который не должен отягощать человеческую память. Впрочем, не знаю, зачем я тебе все это рассказываю…
Анна сидела на стуле, сложив руки на коленях. Черные глаза ее были печальны. Кажется, впервые я видел ее такой. Она слушала, не глядя на меня. Мысли каждого текли по своему руслу, но это нам не мешало.
– Никто меня не любит, – сказала она, помолчав. – Я одна. Никогда еще я не была так одинока. Не с кем слова сказать. Что делать? Даже работы, собственно, нет. В канцелярии дел почти нет. Люди перестали судиться. Читать книги, как раньше, теперь кажется мне идиотством. Ненавижу книги. Я хочу жить. Но все, что я делаю, оказывается ни к чему, все, что я говорю, некстати, все, что я думаю, глупо. Тртник помешался, но он хоть помешался от страха за дочь. А я уже и за себя не боюсь. За кого мне бояться? И все кругом такая бессмыслица. Купить, что ли, собаку, за ней ухаживать? Я жалею, что у меня нет ребенка. Вы, мужчины, так осторожны. Тот, последний, тоже не забылся. Мне скучно. И это страшно. Голубям лучше – пока их не перестреляют, как перестреляли белок.
– Одного из наших ребят мы прозвали Люлеком, – говорил я. – Краснощекий парень с глазами любопытной девчонки. Хотя он знал, зачем на свете существуют женщины. Временами он обижался, ему казалось, что мы говорили с ним не так, как между собой. А теперь он уже давно сидит в тюрьме. И мы ничего о нем не знаем. В один прекрасный день и его отвезут в песчаный карьер. Он пошел с нами, не знаю почему, но пошел. Он хотел подстрелить генерала. Генералов, генералов надо перестрелять, – говорил он. Кого будет проклинать его отец, если Люлека убьют? Не проклянет ли он и нас, как ты думаешь?
– Нет, – отвечала она, – голубям все равно лучше, они ведь не знают, что их подстрелят. Мы тоже не знаем, когда нас подстрелят, но осуждены все время думать об этом. Голубям это не нужно. Еда у нас по карточкам, так что и об этом нам не надо заботиться. Идешь, тебе отрывают кусок мятой бумаги и выдают сколько положено хлеба. Господи, до чего мы дошли! Когда-то я думала, что мне плохо с Поклукаром, потому что он намного старше меня. Это казалось мне несправедливым, хотя я сама так захотела. Благодаря ему я могла делать все, что взбредет в голову. Иногда мне снится, что он не умер, и мне делается стыдно. Не знаю почему, но мне делается стыдно перед ним и перед самой собой. Он знал, как надо себя вести, а я не знаю. В детстве я представляла себе жизнь, как улицу по воскресеньям: идут люди на прогулку или в ресторан – мужчины и женщины, парни и девушки, дети и старики. Для каждого хватает солнца и цветов. Не могу поверить, что все так изменилось. Я не боюсь, это что-то другое. Не знаю…
– Леопарду нельзя идти домой, – говорил я. – Отец и мать его прокляли. Когда он однажды зашел навестить их, они потащили его поближе к окну посмотреть, нет ли у него на руках следов пролитой им крови. С тех пор он с ними не виделся. Хороший парень, прекрасный чертежник. Смелый, временами даже больше, чем нужно. Как ты думаешь, не будет смешно, если он сейчас женится?
– Иногда мне кажется, – сказала она, не двигаясь и не обратив внимания на сказанное о Леопарде, – что все это неправда. Я радуюсь про себя и думаю: а что вообще правда? И даже в мечтах мне начинает казаться, что все потеряно. Молодость пролетела незаметно. А сейчас? Пойти в активистки? В сестры милосердия? Уцепиться за тоненькую нитку надежды, что когда-нибудь будет лучше?
Я взглянул на часы и встал.
– Я пойду. Марии все нет.
– Вот-вот придет. Не останется же она в больнице!
– Я зайду попозже. Ну пока, Анна!
Она пожала плечами. Привычным движением, с отсутствующим видом поправила платье на коленях и ответила:
– Пока.
– Если будешь грустить – состаришься. – Я попытался улыбнуться. – Приходи к нам санитаркой.
– Ты куда это – домой? Туда, к ним?
– Ну да, домой.
– Ни за что не ходи! – Она смотрела на меня с испугом.
– Ты что, боишься за меня?
– Боюсь, – сказала она, глубоко дыша. – Я никому не желаю плохого. Не ходи, ради бога, будь умницей!
– Уехать, даже не попрощавшись с ними?
– Иди!
Она проводила меня до двери. Я молча подал ей руку. Ей хотелось меня отговорить, но у меня, видно, было такое лицо, что она не смела ничего сказать. В квартире Тртника было тихо и темно. Сначала я хотел бросить в ящик записку, но передумал. На обратном пути я подожду Марию в саду. Выйдя в сад, я оглянулся на окна Анны – она погасила свет в кухне и отдернула занавеску. Зачем она следит за мной? Ей сейчас тяжело, подумал я, но такие моменты бывают у каждого. Она скоро оправится. Я прошел в угол сада, достал из тайника револьвер и ручную гранату, припрятанные еще со времени капитуляции Югославии. Положил их в карман и оглянулся на родной дом. Так, наверно, в давние времена смотрели осаждающие на крепость, которую им предстояло штурмовать.
Родное гнездо опутывает нас тысячью нитей, никогда неведомых нам самим. Остановившись у двери дома, я почувствовал, как у меня прыгает сердце. Я втянул ноздрями знакомый запах из кухни. На ужин варили макароны.
В передней было, как всегда, темно, кухонная дверь чуть прикрыта. Через щель в коридор падал луч света. Я прислушался и услышал голос матери:
– Макароны никуда не годятся. Когда-то у нас были белые…
Подгнившая доска скрипнула под моей ногой. Дверь открылась, и в коридор выглянула Филомена.
– Кто там?
– Почему ты не запираешь дверь? – спросил отец.
Я шагнул вперед. Филомена стремительно отступила.
– Это я, – сказал я, ступая в полосу света.
Филомена отошла к столу у окна, где они с Антоном перебирали фасоль. Отец сидел у плиты и читал газету. Он снял очки и смотрел на меня тупо, без удивления. Мать стояла рядом и мешала макароны в кастрюльке. На полотенце, висевшем на стене за ее спиной, были все те же выгоревшие красные буквы: «Муж охотно бывает дома, если жена хорошая хозяйка». Антон только взглянул на меня и продолжал перебирать фасоль. Я прикрыл за собой дверь и сел на ближайший стул.
– Ты еще жив? – хрипло спросил отец. – Мы думали, ты уже пал жертвой своего легкомыслия.
– Крапиву мороз не берет, – быстро, не оборачиваясь, сказал Антон.
– Наверно, ты принес нам денег, – сказала мать. – Пора бы уже тебе нам помогать. Мы тебя учили, чтобы ты нас в старости…
Филомена прыгающими пальцами перебирала фасоль, не сводя с меня глаз.
– Учили, – прервала она мать. – Наверно, это в школе его научили убивать…
– Мелкую – в сторону, слышишь?! – заорал на нее Антон.
Мать смотрела в кастрюлю, а я то переводил взгляд с одного на другого, то смотрел на всех вместе. И вдруг мне показалось, что я что-то перепутал. Да я же здесь не дома, сказал я про себя. Это какое-то нелепое недоразумение. Я никогда тут не был дома. Мать была в черном переднике, в котором она выглядела непривычно – полнее, чем на самом деле. Я с удивлением подумал, что не чувствую к ней ни любви, ни ненависти. Ничего… Но к отцу все же…
– Зачем ты пришел? – спросил он. – Ты что, не знаешь, что можешь нас погубить?
– Прежде всего себя, – заметил Антон.
– Я пришел попрощаться с вами, – с трудом выдавил я из себя. – Не ссориться.
– Хотел бы я посмотреть, – повернулся ко мне Антон, – как ты выйдешь из города?
– Не беспокойся.
– Ну иди, – сказал отец. – Забудь про нас, как будто нас нет. Так будет лучше для тебя и для нас.
– Но мы тебя не забудем, – сказала ядовито Филомена. Она сидела бледная, взвинченная, и я боялся, как бы она не начала кричать.
– Верно, – ответил я. – Мы друг другу ничего не должны.
– Не должны? А за Карло? Зверюга!
– Да, – сказал я спокойно, – Карло, разумеется, был ангел. Мы и послали его к ангелам, как ему положено.
– Тише, – остановил нас отец. – Ну иди. Не вноси ненависти в наш дом. Нам ее и так хватает.
Мать уперлась обеими руками в плиту и сдавленно сказала:
– Уходи же. Тебе лучше уйти.
– Такой паренек, – хихикнул Антон. – Будет солдат хоть куда. В первый же день наложишь в штаны. А стрелять можно и в спину, сзади, и из-за угла… Ну-ну… увидишь сам…
– Ты-то вот действительно обделался в первый же день, – возразил я. – Не успело еще начаться, а ты уже был дома за печкой.
Он вспыхнул:
– Сопляк, ты мне еще проповеди будешь читать!
– А что? Сопляки вроде меня вынуждены были взяться за оружие, когда такие мужчины, как ты, наложили в штаны.
Он стукнул по столу и встал, весь побагровев:
– Ты!.. Желторотый!
Отец вскочил, растопырив трясущиеся пальцы:
– Ради всего святого… тихо… Он услышит… Там наверху… Марти…
Я поднялся, держа правую руку в кармане.
– Пусть слышит, – сказал я, – какое мне дело! Этот трусливый болван, этот дезертир – он еще будет меня обзывать… Я хотел просто попрощаться с вами…
От волнения я не мог говорить. Повернувшись, я вышел в коридор. Филомена едва слышно вскрикнула. Я захлопнул за собой парадную дверь и, выйдя в сад, на секунду остановился, чтобы успокоиться. Я дрожал. Вдруг я услышал, как Антон бежит по коридору. Я отступил в тень и приготовил гранату. Дверь стремительно распахнулась, и на пороге показалась фигура Антона. В руках он держал какой-то продолговатый предмет – топор или полено. Он всматривался в темноту.
– Где ты? – зарычал он. – Сукин сын!
Сам не знаю как, я сорвал предохранитель с гранаты и швырнул ее. Она упала на ступеньку перед дверью. Антон отскочил за косяк, а я кинулся за дом. Раздался взрыв, наверху с треском распахнулось окно. Слышно было, как на балкон посыпались стекла. Я остановился и приложил руку к губам, только теперь поняв, что я натворил. Я вдруг почувствовал слабость. Еле-еле дополз до забора соседнего дома – идти к Тртникам мне не хотелось.
Кто-то кричал во весь голос. Я перелез через забор. Мне пришло в голову, что вряд ли это крик раненого. В окне у Анны метнулась тень. Не думая об опасности, я бросился на траву и заплакал. Я задыхался от стыда и от сознания, что не имел права этого делать. Послышался топот солдатских сапог, улицей проезжал грузовик. Солдаты, вопя, остановили его, а потом ринулись в сад. Из чердачного окна к ним взывал Витторио Марти.
Солдаты начали шарить по саду – к счастью, без фонаря. Несколько раз они подходили к самому забору. Мне и в голову не пришло отползти. Правда, я хотел приподняться и заглянуть через забор, но не смог. Вскоре из нашего дома послышались крики и шум, хриплый голос Витторио Марти. В окнах то зажигали, то гасили свет. Опершись на локти, я отполз от забора на такое расстояние, что за деревьями мне видна была улица. Прошла целая вечность, прежде чем гам в доме утих. Я видел, как их гнали к грузовику: впереди отец, за ним Филомена и мать, следом Антон.
Мне стало словно бы чуть легче. Я поднялся, прислонился к дереву и обнял его, как человека. Витторио Марти дошел с ними до калитки, запер ее и с револьвером в руке вернулся в дом. Зажглись фары грузовика. На мостовую лились белые снопы света. Слышно было, как в доме бушевал Марти – он гасил свет, запирал двери. Я кусал губы, вспоминая строгий взгляд Тигра сквозь стекла очков. Не разжимая рук, я опустился на землю и прижался к стволу дерева.
Так, сказал я про себя, мир Кайфежей повержен. Дом – пустой, темный, немой – был как укоряющее видение. Не помню, о чем я думал. Я вытирал слезы, они текли у меня по щекам, меня не оставляла мысль о завтрашнем дне. Как я вообще покажусь на глаза людям? И тут я услышал, как кто-то тихо зовет: «Нико! Нико!» Я притаился, прислушался. Анна и Мария. Они ходили вдоль забора и негромко кричали в темноту. Я подождал, пока они вернулись в дом. Чувствовал я себя опустошенным. Может быть, это был просто голод. Я прополз в сад Тртника и забрался в плетеное кресло. Я не думал ни о Марии, ни об Анне, ни о том, что они, вероятно, за меня беспокоятся. Мне не хотелось видеть дома на противоположной стороне улицы, глаза жгло от слез, я крепко зажмурился, стараясь заснуть. Не помню, когда ко мне пришел сон. Наверно, уже под утро, потому что где-то поблизости заплакал ребенок.
Комната была длинная, пустая, странная, неправдоподобная. На краю стола в фуражке, со стаканом вина в руке сидел Йосип, поглаживая свои желтые усы. Справа от него сидел Алеш, слева – Пепи. Далее по обеим сторонам сидели Тигр, Кассиопея, Мария, Тртник, Мефистофель, Звезда, Леопард, Люлек, Тихоход, Сверчок, Демосфен, знакомые, которых я не знал по именам, и еще какие-то совсем незнакомые мне люди. Нас было много, и все мы сидели как в школе, положив руки на стол перед собой. В темной комнате не было ни лампы, ни окна, только где-то в другом ее конце, далеко от нас была настежь открыта большая дверь. За ней зияла темной бездной неосвещенная полоса, потом шло обширное, залитое ярким белым светом пространство, похожее на площадку для танцев. Кругом царила тьма, но это не были ни сумерки, ни ночь. На границе между светом и тенью стоял странный фонарный столб – горбатый ствол каштана на двух подпорках, и провода от него шли не в стороны, а вверх и вниз.
Я смотрел на Йосипа, и он что-то говорил, поглаживая усы. Я не слышал его, но помню, что он выбирал слова без буквы «р» и что я его с трудом понимал. Сверчок задумчиво смотрел перед собой, и волосы у него были более кудрявые, чем обычно. Йосип говорил не спеша, с большими паузами после каждого слова. Казалось, он мучительно отрывает их от себя, и лицо его выражало страдание. Мне то чудилось, что идет дождь, то – что светит солнце, хотя я ничего не видел и не слышал, так как смотрел прямо на Йосипа. Слабый отсвет падал на его глаза, и они были совсем фиолетовые. Кассиопея держала руку на головке одного из своих детей – лохматые головенки всех четверых виднелись над столом. Еще через некоторое время я заметил, что недалеко от нее сидит Грега – кровоточащий рубец тянулся через все его лицо. Как будто кто-то хотел разрубить его пополам. Но ему, наверно, не было больно. Он, не отрываясь, смотрел на жену. Рядом с ним сидел Тигр, он протирал очки носовым платком. Снаружи, у дверей, не было видно ни души. Все так же ослепительно сияла лампа. Очевидно, происходило что-то решающее. Я всматривался в лица, пытаясь понять что.
Йосип говорил. Медленно, размеренно, монотонно, не спеша. Я тоже никуда не спешил, меня только мучило любопытство, но без тревоги, без нетерпения, как будто во мне что-то навсегда остановилось. Я пытался сосредоточиться и прислушаться к словам Йосипа. Я понял, он говорит что-то похожее на то, о чем говорил с отцом в тот вечер, когда они пели «Мы в Канне Галилейской…» Он говорил о себе, о других, о своих детях, о смерти, о поминках не по тем, кого больше нет в живых, а по тем, кто еще жив, но кого скоро уже не будет. Я пытался разобрать слова, но мог только догадываться об их содержании. Это были смутные слова прощания. Никто ни разу не вздохнул и не кашлянул, не скрипнул стулом. Хриплый голос Йосипа растворялся в полной тишине.
Мне все казалось, вот-вот он махнет рукой, ухмыльнется и вспомнит о стакане. Он говорил бесконечно, и слова его падали на меня непрерывно, как капли дождя в летнюю грозу, одна за другой, когда уже не знаешь, тепло тебе или холодно. Я взглянул на Марию, сидевшую напротив. Я никак не мог поймать ее взгляд. Рядом с ней сидел Тртник в очках, с потерянным видом он смотрел прямо перед собой. Йосип будто собирался в дальнюю дорогу и звал нас всех пойти за ним. Слова его звучали сухо, веско, спокойно, в них слышалось что-то обнадеживающее. Словно дедушка рассказывал внукам страшную сказку, в которой сам открывал что-то осмысленное, необходимое, величественное.
Неподвижность лиц ужасала меня. Казалось, все мы стыдимся друг друга, хотя стыдиться не стоит. Я чувствовал, как у меня к горлу подкатил комок. Подумал, сказать что-нибудь, засмеяться или крикнуть, но не мог выдавить из себя ни слова. Глаза Йосипа точно говорили нам, что нельзя тратить даром драгоценное время. Надо дослушать до конца и тихо разойтись. И в самом деле, через некоторое время он кончил говорить, встал, поднял стакан и осушил его разом.
Все молчали. Никто не трогался с места. Йосип опустил руки на плечи сыновей, затем сдвинул на затылок фуражку с металлической цифрой 77 и пошел к дверям. Все, как по команде, повернулись в его сторону. Он шел, грузный, старый, неспешным, но твердым шагом отставного солдата. Невыносимо долго он шел до двери. Обернулся к нам, улыбнулся, точно подбадривая, и поднял руки в знак приветствия. Затем надвинул на глаза фуражку, точно защищая их от ослепительного света, и перешагнул порог. И вмиг его поглотил мрак. Мы ждали, когда он выйдет на свет, но напрасно. Мы отвернулись от двери и посмотрели друг на друга. Не знаю, что было в наших глазах, – удивления, вероятно, не было.
Затем поднялся Пепи. Он шагал быстрее своего отца, казалось, он тревожился и спешил за ним. Не оглядываясь, он перешагнул порог и исчез. Вслед за ним встал Сверчок. Держа руки, как обычно, в карманах брюк, худенький и невысокий, он пошел к выходу. У двери он обернулся – кто знает, кого искали его черные глаза, – и канул в темноту, как в бездну. И что-то мне подсказало, не надо ждать, покажется ли он в ослепительном белом свете.
Демосфен прошел мимо нас, высокий, слегка ссутулившийся, с копной кудрявых каштановых волос, прошел стремительно, вызывающе. У самой двери он остановился, втянул голову в плечи и сгорбился. Наши взгляды, направленные на его странно согнутую спину, не в силах были ему помочь. Он постоял немного в нерешительности и, не взглянув на нас, перешагнул через порог. Я напряженно ждал, пока он покажется в белом круге света. И действительно, он показался – он полз, как ящерица, прижимая голову к земле, точно пригвожденный и ослепленный ярким лучом. Кто-то громко вздохнул. Мы обернулись. Мимо нас прошел Грега со своим страшным рубцом. Он отчаянно бросился в темноту, и уже через миг мы увидели, как он большими прыжками бежит через освещенную площадку. Вслед за ним пошел Люлек. У самой двери ему стало страшно, и он вытянул перед собой руки, как ребенок, обороняющийся от кошмаров. Он бесследно пропал в темноте. Леопард пошел медленно, задумчиво, будто заранее точно знал, что ему делать. Он прошел мимо нас бесшумно, с элегантностью воскресного визитера, и перешагнул порог. Затем мы увидели, как он так же спокойно переходит освещенную площадку.
Я следил за ними глазами, не поворачивая головы. У меня уже как будто не осталось ни одной мысли. Я пытался осмыслить виденное, но не мог. И только где-то брезжила мысль о жестоком законе, получившем власть над нашими жизнями с тех пор, как мы вошли в эту комнату без четвертой стены. Люди вставали и уходили один за другим, каждый по-своему, со злостью и со страхом, смело или колеблясь, у кого как получалось, и большинство из них мы больше уже не видели. Стремительно встал Алеш и прошел мимо нас в дождевике, в шляпе, надвинутой на глаза, будто отправился на одну из своих ночных прогулок. Потом встала Кассиопея – она шла неуверенно. В дверях остановилась, оглянулась на детей – они, все четверо, смотрели на нее большими глазами. Подняла руки, точно собираясь закричать, но затем повернулась и решительно ступила в черную пропасть. Я отвел взгляд. Я не хотел ждать, увижу ли я ее в свете слепящего фонаря. Дети, застыв на местах, не отрываясь, смотрели на дверь. В это время Тигр кончил протирать свои очки. Проходя мимо нас, он заглядывал нам в лица, словно ища на что-то ответ. У двери он оперся о косяк, точно стоял в засаде, пытаясь узнать, что его ожидает. Затем оторвался от косяка и, как вор, скользнул в темноту. Вскоре мы увидели, как он, не оглядываясь, идет по светлой площадке. За ним, как по команде, поднялся Мефистофель, словно солдат – прямой, невозмутимый, решительный. Он бесследно утонул в темноте. Тихоход прошел, как человек, с детства привыкший к верховой езде, раскачиваясь на своих чуть кривых ногах. Можно было подумать, что он выходит из конюшни, где только что привязал своего коня. Едва он сошел с порога, как мы увидели его снова в снопе белого света. В его фигуре и походке было, как всегда, что-то отчаянно смешное. Звезда удивленно посмотрела на него и встала прежде, чем он переступил порог. Она торопливо прошла мимо нас мелкими девичьими шажками, встряхивая длинными черными волосами. Прямо с порога она впорхнула в темноту, как в комнату со скользким полом. Больше ее не было видно. Поднялся Тртник, он снял очки и убрал их в нагрудный карман пиджака. Он шел по комнате как слепой. Добрел до выхода и почти упал в темноту. Я закрыл глаза, но это не помогало. Я видел сквозь веки и знал, что этого видения не избежать ни глазам, ни сердцу.
На минуту все успокоилось. Мы смотрели друг на друга с укором и с тревогой. Среди напряженного ожидания поднялся незнакомый бородатый широкоплечий старик, похожий на пророка Моисея, и исчез в провале двери так, будто со дня рождения только этого и ждал. За ним пробежал невысокий мальчик лет четырнадцати, не больше. Он, казалось, хотел догнать старика.
И тогда очередь дошла до меня. Как знамение, как судьба, мною самим избранная, как веление, которому нельзя не подчиниться уже потому, что ты сам хочешь ему подчиниться. Я встал, посмотрел на Марию – теперь я увидел, что она смотрит на меня, – и направился к выходу. У двери я на секунду задержался и оглянулся. Теперь я мог сосчитать, сколько нас осталось. Если останется половина, подумал вдруг я с непривычной ясностью, этого будет достаточно, и даже если еще половина погибнет, все-таки нас будет не так уж мало. Я стремительно повернулся и зажмурился. Свет ослепил меня. Ничего не видя, я перешагнул порог и стал падать.
Я падал бесконечно долго, и все время во мне жила мысль, что я падаю и буду падать еще долго, но все же этому падению придет конец.
Я пришел в себя в тесном помещении, вид которого меня ошеломил. На грязной стене лежала тень оконного переплета. В дверях стоял солдат с пустым ведром в руках. Я почувствовал озноб. Я лежал на провонявшей потом подстилке не в силах пошевельнуться. Солдат с ведром вышел и закрыл дверь. Я слышал, как он дважды повернул ключ. Должно быть, было утро, потому что свет проникал в камеру почти горизонтальными лучами. Я посмотрел наверх и увидел, что рядом со мной сидит кто-то и смотрит на меня незнакомыми светлыми глазами. Я внимательно рассматривал незнакомца, но не мог угадать его возраста. Он выглядел молодым и в то же время старым – был он грязный, лохматый и небритый. Я перевел глаза на стену и заметил, что вся она исписана карандашом, мелом, краской, исцарапана гвоздями и вилками. Я снова взглянул на незнакомца. Он улыбнулся мне и сказал:







