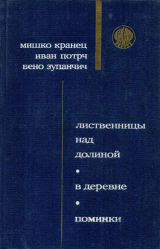
Текст книги "Поминки"
Автор книги: Бено Зупанчич
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Анна улыбнулась. Ей, очевидно, было приятно, что мне нужна именно ее помощь. В этом было что-то материнское. Да ведь у нее вполне могли бы быть дети, подумал я. Ей надо иметь детей. Она легко поднялась, стала наливать кофе.
– Пей, я рада, что ты пришел.
Я смотрел на нее строго, испытующе.
– Анна, – спросил я, – правда, что ты живешь с этим итальянцем?
Она замерла. Поставила на стол кофейник и немного погодя ответила:
– Что, и ты тоже так думаешь? Нет, Нико, неправда, это сплетни. Если бы ты его видел, ты бы не стал спрашивать. Я его пустила на квартиру сразу, как они пришли. У меня и в мыслях не было, что такое могут подумать.
Я смотрел в сторону. Мы молча прихлебывали кофе. Анна взглянула мне прямо в лицо. Возникло такое чувство, что мы сравняли старые счеты и снова стали друзьями. Я верю ей, сказал я себе, хотя у меня достаточно причин ей не верить. Ее черные глаза были блестящими и чистыми. Нет, эта женщина не станет себя продавать. Я должен или поверить ей, или немедленно уйти. Уходить мне некуда.
– А как же школа? – спросила она.
– Никак. Я рад, что от нее отделался. Давно пора. И из дому тоже вырвался. Если останусь жив, сдам на аттестат – и готово. А сейчас все равно – что я с ним буду делать?
– А если тебя будут искать?
– Скроюсь. Весной вообще уйду из города.
Она улыбнулась.
– А я… я бы тоже… ушла из города.
Она пригладила свои черные волосы, налила мне еще кофе и заговорила о другом. Смотри-ка, подумал я, вроде знаешь человека, а на самом деле не знаешь. Спал с ней, а не узнал ее. Я ведь никогда ни о чем ее не спрашивал. Мне стало стыдно. Она отдалась мне, как умная, зрелая женщина, которая хочет одарить юношу всем, что у нее есть, сознавая, что потом я ее забуду.
– Конечно, – сказала она, – это была не любовь. Меня потянуло к молодому мужчине. Ты меня пожалел, и поэтому я была так жестока. Молчи, я знаю, я тебе не нравлюсь. Тебе было со мной противно. Я уже слишком стара для тебя. Я просто поддалась увлечению.
Она встала, шагнула в сторону, точно собираясь что-то сделать, и вдруг спросила:
– У тебя есть оружие?
– Нет, – сказал я.
– Давай посмотрим, может у Пишителло что-нибудь найдется.
Мы вышли в коридор и прошли в угловую комнату. Комната имела явно нежилой вид. Как раз под этой комнатой была спальня Марии. На столе засверкал искорками тонкий слой пыли. Анна открыла шкаф, где висела форма поручика; там был ремень с кобурой. Кобура была пуста. Анна выдвинула ящик стола, заглянула в чемодан, стоявший у стены, – нигде ничего.
– Все увез, – сказала она. Она сунула руку в корзинку для дров, стоявшую у печки, и достала смятый листок почтовой бумаги. – Взгляни-ка!
Не дотрагиваясь до листка, я прочел: «Carissima Giulietta».
– И это он пишет каждый вечер. Идиот. Тоже мне солдат!
Я удивленно посмотрел на нее. А она уже засучила рукава и заявила:
– Лучше всего тебе переночевать здесь. Я сменю простыни. Он ведь до середины января не приедет.
– Верно, – согласился я.
Она взяла тряпку и принялась стирать пыль, накопившуюся за неделю на столе, на стульях, на картинах. Я смотрел, как она легко движется. Когда она склонилась над столом, обозначилась ее крепкая грудь. Я вспомнил, что тогда мы были именно в этой комнате. Казалось, теперь все покрылось тонким слоем пыли.
Через несколько минут я сказал:
– Я сразу лягу. Я очень устал. Ты мне не дашь почитать что-нибудь из книг Поклукара?
– Почему бы и нет? – Взгляд ее был ясным и открытым. Я почувствовал в нем упрек и искру воспоминаний.
Она принесла мне «Лунные пейзажи» – книгу, которой я еще не видел. Анна ее, оказывается, тоже не читала. Она больше всего любит романы Жюль Верна и никогда не видела моря.
– А я тем более, – сказал я, – я тоже никогда не видел моря. Кто знает, увижу ли я его вообще.
Я открыл первую страницу книги и прочел:
«…Ребристая песчаная почва, раскачивающиеся деревья с тонкими стволами и пышными кронами, всегда волнующиеся, и бледно-розовые, темные пятна в пучках травы, подобные кустам жасмина, солнечные блики в блестящих и переливающихся полосах – как шкура тигра сквозь прозрачные синие тени, напоминающие шелк…»
Новая ночь темнее прошлой, новый день кажется бесконечным. В памяти встают давно забытые картины. Их прогоняешь, а они лишь на секунду взовьются, замутятся и опять встают перед внутренним взором живо, точно это было вчера. Картины безжалостно вырываются из давно прошедшего, они хотят, чтобы он видел их, навязчивые, резкие, отталкивающие. Он со стоном прижимает руки к глазам. Картины на мгновение застывают и снова начинают свою жуткую пляску. Старые грехи поднимаются из глубин, чтобы отравить его старость и смутить покой, которого он всегда так жаждал.
Была молодость, горькая, нищенская, и теперь она возвращается, будто в самом деле у него была молодость. Были годы зрелости, трудные, тяжелые. И они возвращаются – будто и вправду была какая-то жизнь. Была любовь, преданная до самозабвения. Теперь и она возвращается, одетая в багряный плащ мести и ненависти. Были мы, дети, милые и нежные, как зайчата. Теперь мы чужие друг другу. Мы оторвались от вскормившей нас почвы, словно она ядовита. Была земля, святая, нетронутая. На ней он построил дом. Теперь земля устала, состарилась. Состарилась вместе с ним, который любил ее больше жены и детей. Скоро ему только и останется, что отправиться на кладбище. Были весны, лета, осени и зимы. Как цветы и плоды. Теперь для него нет лета. Только мрачные дни и тяжкие ночи. Может быть, для него уже нет завтрашнего дня. Весна без солнечных лучей, лето засушливое, осень бесплодная. Будто захирело все в застойности, перестало расти. Были и люди. В будни у них были шершавые, потрескавшиеся руки и озорные речи, по воскресеньям – белые рубахи и веселые глаза. Где они? Куда унесло их течением? Теперь это тени. Обособленные, притаившиеся, коварные. От них не услышишь искреннего слова. Все стали дипломатами, политиками, следователями, прокурорами. Куда ушли те времена, когда труд, несмотря ни на что, был радостью, а мысли – отдыхом? Неужели такова старость или это только ему положен такой удел? Уж не скопилось ли и вправду над ним все зло белого света?
Он бродит по комнате, вытянув руки вперед, как слепой. Остановится у окна – на улице дождь, серое небо нависло до самой земли. Остановится и зажмурится. Наверно, дождь будет идти непрерывно сорок дней и сорок ночей. Все кругом зальет грязной водой, которая однажды уже захлестнула этот грешный мир, и остались в живых только человек и бессловесные твари. На миг ему показалось, что он сидит на коньке крыши своего собственного дома и с ним его кролики, куры, собака, голуби – больше никого. Ну нет. Катарину и детей он с собой не возьмет. Его заливает волна черной злобы. Пусть тонут. Крыша сдвинулась. Она отделяется от стен, с которыми так долго была спаяна, и вот уже плывет по серым волнам. Все осталось позади, все потонуло во мраке. Только белые голуби вьются над ним. Они принесут ему оливковую ветвь – знак, что когда-нибудь кончится этот вселенский кошмар.
Шаркающие шаги по ступенькам. Он встрепенулся и сел. Прислушался. Ни за что на свете он не угадал бы, кто это идет.
– Я, я – послышалось у дверей, – старый комрад, это я, Йосип.
Удивленный, он встал и доплелся до двери. На пороге действительно стоял Йосип. С кепки его текло, под мышкой он держал бутылку из-под минеральной воды.
– Ну, старина, как живешь?
– Спасибо, как собака, – ответил он, пропуская Йосипа. – Садись!
Йосип поставил бутылку на столик в углу комнаты.
– Я кое-что прихватил, – сказал он, стараясь отдышаться. – Я сказал себе: это мы выпьем с Петером и черт побери все на свете. Он несчастен, ему это будет кстати.
Он смотрел на него с недоумением, в самом деле не понимая, что с Йосипом. Пьян, что ли? Достал с полки два стакана и придвинул стул.
– Погода, – продолжал Йосип, – собачья. Как будто потоп начался. Люди – как тени. И не с кем уже посидеть, выпить стаканчик водки. Время, черт его возьми. Война, сто чертей ей в глотку. Нас, кто остался из старой гвардии, за людей не считают. Тьфу!
Он притянул к себе бутылку и сердитым движением разлил по стаканам.
– Мадонна, – воскликнул он раздраженно, – я ведь уже давно почти никуда не хожу. Торчу дома и читаю «Словенца». Но ничего умного не вычитаешь. Сплошная ложь. Убили моего парня, старшего, ты уже знаешь, конечно. Да, да, а второй, Алеш, удрал от них и где-то скрывается. Сам не знаю где. Старуха давно уже наполовину ослепла и больше чем наполовину выжила из ума.
Он взялся за стакан и отвернулся к окну – как будто отхлебнуть. В глазах его блеснули слезы. Отцу они показались серыми.
– Выпей, старик, за помни души!
Отец пробурчал что-то себе под нос и выпил. Водка приятно обожгла горло.
– Хорошо в дождь, очень кстати, – вздохнул он. – Пожалуй, я кое-что упустил в своей жизни. Ни разу себе не позволил выпить стаканчик водки. Никогда не знал, что такое напиться пьяным. Не перебесился, как должен перебеситься человек в молодости, чтобы потом сохранить ясный разум. Я всегда стремился быть приличным. А сейчас, на старости лет, я мирюсь с пьянством в собственном доме. Катарина и Филомена всерьез взялись за это дело.
– А я, – сказал Йосип, – я это как-то подавил в себе, но не совсем. «Черт побери, – думал я, – почему бы мне не выпить? Раз я работаю, я имею право пить». Но я не был пьяницей. Я никогда не пил слишком много, хотя пил не мало. Сейчас я бы разбогател, если бы слить вместе все, что я выпил. Случалось и переспать с какой-нибудь трактирщицей. Ах, черт…
– Это верно, – добавил отец, – если бы я пил, все равно остался бы таким же бедняком, как сейчас.
– Это точно. – Йосип снова налил. – Пей, старина!
– В военное время мы родились, – сказал отец, – в военное время, судя по всему, и умрем.
– Да и жизнь прожили, как на войне.
И они выпили еще. Глаза у Йосипа стали мутные, выпуклые. Краем ладони он вытирал усы. Он уже совсем не мог выговаривать звук «р». Вместо «рыба» отцу слышалось «ыыба», вместо «Петер» – «Петее».
– Дочку твою обкорнали, как рекрута, – сказал Йосип и сочувственно посмотрел на отца. Взял его за руку. – Не принимай это близко к сердцу. Так надо.
– А, да что там, – пробормотал отец. Он смотрел куда-то в пустоту. И опять видел там Ноев ковчег. Затем произнес с отсутствующим видом: – Мир рушится.
– Холера его возьми. Такой, каков он есть.
– Все летит в бездну.
– В кровавую. Пей, Петер!
– Дети мои меня покинули.
– Моих детей перебьют.
– Жена моя меня давно предала.
– Моя выжила из ума.
– Землю мою топчет враг.
– Мою давно отобрали.
– В конце концов убьют и меня…
– О, пусть только попробуют. Я кое-что знаю о том, как воевать. Я в Карпатах…
– Люди совсем одурели.
– Да они никогда и не были особенно умными.
– Никого не осталось с головой на плечах.
– Я, – ответил решительно Йосип и приосанился. – Несмотря ни на что. Я в здравом рассудке. У меня горе, но я сохраняю здравый рассудок.
Усы его торчали вверх, он то и дело облизывал губы.
– Я в здравом уме, – повторил он, – и мои сыновья тоже. Или пусть будет такая жизнь, какая подобает человеку, или пусть все катится к черту. Вот как мы считаем.
– Я уже не могу быть в здравом уме, – вздохнул отец.
– Споем, – предложил Йосип, опять наполняя стаканы.
Он пригладил усы и закатил глаза. Потом загудел:
Ой, солдатский барабан…
У отца слезы выступили на глазах.
– Йосип, – простонал он, – пожалуйста, не надо, не надо, не пой! У меня сердце разрывается!
Йосип умолк. Вытер глаза, будто и у него текли слезы, и спросил:
– Может, другую? Повеселее. И запел:
Загудели горы, леса зашумели…
– Не надо! – Отец закрыл лицо руками и всхлипнул. – Не могу ее слушать, она такая грустная.
Йосип оборвал песню и рявкнул сердито:
– О господи, так что же тебе спеть, чтоб у тебя сердце не разрывалось?
– Что-нибудь веселое.
– Веселое… «Пошли парни на село…» Нет, она печальная, как сам черт. «Облака розовеют…» Нет, тоже грустная, как сто чертей. Вот эту: «Полюбишь ли меня…» Но она как назло грустная, словно тысяча чертей. Мадонна, почему они все такие печальные? Мы, Петер, грустный народ, оттого у нас только грустные песни. Как будто нас что-то все время гнетет. Ага, я вспомнил: «Мы в Канне галилейской…»
Он пригладил усы, постучал, как музыкант, ногой по полу и запел:
Мы в Канне галилейской
На свадьбе Моисея пили,
Мы – пим-пам-пум-па-пум – качались,
Мы – пим-пам-пум-па-пум – пели…
– Вот, – сказал отец, – это да. Но это ведь только припев.
– Да, – сказал Йосип и налил опять, – это точно. Песня без буквы «р». Ты заметил?
– Нет, – ответил отец, – ты ведь нормально выговариваешь «р».
– Да? – удивился Йосип. – Вот хорошо. А я и не знал, что ты такой… такой… чуткий.
Он взял руку отца и неловко погладил своей трясущейся ладонью.
– Ну что ты. – Отец сконфузился.
– Да-да, только ты несчастный. Жизнь тебя бьет. И меня тоже. Всех подряд бьет. Каждого по-своему.
– Не всех, – отец покачал головой.
– Не всех одинаково, это так, но бьет всех. Кого еще не била, будет бить. Время собачье, я тебе говорю, для всех.
– Спой еще, – попросил отец.
Йосип подкрутил усы, закатил глаза, так что остались видны одни белки, и хрипло запел.
Мы в Канне галилейской…
Отец стал потихоньку подпевать, но потом сказал:
– Не закатывай глаза. А то ты похож на мертвеца. Как будто тебя повесили или расстреляли.
– Я закатываю глаза? – удивился Йосип.
– Закатываешь. Просто нет сил на тебя смотреть. Гляди на меня!
Йосип провел рукой по усам и продолжал петь, глядя отцу прямо в глаза. Вдруг оборвал песню и пожаловался:
– Нет, так я не могу петь, мадонна, не пойму, в чем дело. Когда я гляжу на тебя, у меня болит голова. Мне надо смотреть хоть немного вверх.
Он снова запел и снова закатил глаза. Отца охватил озноб, как от холода. Выходя из себя, он закричал:
– Не надо, Йосип. Честное слово, будто покойник поет.
Йосип обиженно надулся и замолчал.
– У тебя, старый, нет слуха.
– Нет. Но глаза у меня есть. И видят они хорошо.
Йосип почесал за ухом и налил еще водки.
– Прикончим бутылку, а?
– Прикончим.
– Мы с тобой еще ничего, а?
– Угу.
– И я кое-что сделаю, прежде чем умереть.
– Не шуми!
Они утомились и притихли. На улице шел дождь. Серые шторы капель застилали все вокруг. Как будто уже темнело. Сад и дорога казались нарисованными на потрескавшемся холсте. В Трнове тоненько зазвонили колокола. Оба прислушались.
– Умер кто-то.
– Убили кого-то, – пробормотал Йосип. – Теперь почти никто не умирает своей смертью.
И опять они замолчали. Йосип неуклюже поднялся, начал искать дверь. Взялся было за балконную. Отец остановил его, нахлобучил ему на голову фуражку с жестяной цифрой 77. Уже стоя у входной двери, Йосип вдруг повернулся, развел руки, бросился на шею отцу и поцеловал его в щеку.
– Счастливо, старый. Не взыщи!
– Спасибо тебе, – сказал отец. – Смотри не упади.
– Не упаду, – отвечал Йосип уже в прихожей.
Он остановился в задумчивости. Постоял и не спеша пошел к двери. Опять обернулся.
– Эй, – зашептал он, глядя прямо в глаза отцу, – я что, в самом деле был похож на мертвеца, когда пел? Вправду будто покойник пел?
Отец растерянно заморгал глазами и не нашелся, что ответить.
– Нет, – наконец выдавил он из себя, – это я просто так сказал. Знаешь, так даже лучше слушать, музыкальнее.
– Спасибо, счастливо тебе, старик!
И он ушел. Отец встал у окна. Йосип брел по двору, приземистый, ссутулившийся, нескладный. Фердинанд, опустив хвост, бежал за ним. Отцу почудилось, что Йосип все еще поет. Он будто слышал «Мы в Канне галилейской…» и видел сероватые белки его глаз.
В это время на улице появился Карло. Отец узнал его по шляпе. У калитки Карло столкнулся с Йосипом. Отец невольно провел рукой по глазам. Его осенило предчувствие. Он вдруг отрезвел, будто и не пил Йосиповой водки. Он видел, как они стоят друг против друга. Фердинанд поднял хвост и угрожающе зарычал. Отец чувствовал: вот-вот что-то случится. Ему показалось, что он слышит крик. Йосип поднял руку, и Карло – он был гораздо меньше ростом – покатился по земле. Карло быстро поднялся и отскочил в сторону. Раздался глухой выстрел. Потом еще два. Фердинанд отбежал к дому и отчаянно завыл. Отец закрыл глаза, снова открыл и увидел Йосипа. Тот судорожно выпрямился, затем поднял обе руки вверх и навзничь грохнулся на землю. Карло, как кот, перескочил через него и кинулся к дому.
Застыв от ужаса, отец отшатнулся от окна и еле добрался до постели. Сел, прислонился к стене и, не мигая, уставился на бутылку, принесенную Йосипом. Она, как и прежде, таинственно светилась в полумраке комнаты.
В те дни чуть ли не ежедневно из состава комитетов и групп выбывали по нескольку человек. Их место тут же занимали другие, как будто подпольные революционные органы решили полностью обновить свой личный состав. Кроме того, непрерывно менялись границы районов и участков для того, чтобы сбить со следа провокаторов и сохранить конспирацию. Истории никогда не удастся в точности восстановить сложную картину тогдашней структуры партии и освободительного фронта, молодежных, студенческих и женских организаций, групп народной обороны, культурников и разведчиков, запутанную сеть складов, типографий, конспиративных квартир. Все это было в движении, как хорошо налаженный и смазанный машинным маслом станок, ни на мгновение не останавливающийся из-за мелких неполадок. Столь сильна была воля и страсть.
Как-то Сверчок решил навестить Тигра в его логове. Едва ли он был знаком с Тигром намного лучше, чем я. Он знал, чем занимается Тигр, знал его непреклонную решимость, которая, как ему казалось, была скорее рассудочной, чем присущей его характеру. Знал он, что Тигр на несколько лет старше нас, что война застала его на втором семестре юридического факультета. Знал он также, что Тигр много читает. Когда он слушал Тигра, ему всегда казалось, будто читают популярную брошюру на тему, о которой идет речь. Однако это не мешало Сверчку уважать Тигра, но именно поэтому он не считал, что хорошо его знает.
Он признавался себе, что в этом уважении была капля необъяснимой робости перед человеком, с которым ты вместе работаешь, споришь, встречаешься на собраниях и который все-таки остается для тебя чужим, не становится более понятным.
Вскоре Сверчок осознал, почему это так. Они были дети двух различных миров и говорили на разных, хотя и родственных языках. Тигр принадлежал к миру, так сказать, официальному, потому что жил почти исключительно революцией, все остальное, казалось, было ему недоступно. Он не умел говорить о знакомых, как говорят люди, когда они не на собрании. Невозможно было вовлечь его в беседу о девушках, о любви, а еще меньше того – о природе или о футболе, о кино или танцах. Он не понимал своеобразного языка гимназистов, который за годы совместной учебы превращался в настоящий жаргон.
В характере же Сверчка ощущалась восприимчивая натура его покойной матери, которую сам он едва помнил. Чувствовалась в нем определенность и добропорядочность мачехи и еще мягкая, не от мира сего задумчивая печаль отца. Поэтому он всегда удивлялся, встречая людей, которые были до конца преданы чему-нибудь одному и глухи ко всему остальному. Обладал он еще и качеством, которого был начисто лишен Тигр, – фантазией, бурной, почти безудержной, подлинной, развившейся под влиянием Священного писания, единственной книги, которую почитал его отец. Мне кажется, поэтому Сверчок так легко приспосабливался к людям и обстоятельствам, понимал их, что бы с ними ни происходило, и картины виденного им и знакомого ему менялись в его воображении до самой невероятной степени. Как-то раз, когда мы со стен Града смотрели на площадь Конгресса, Тигр сказал, указывая на казино:
– Там будет стоять словенский Дворец Советов.
Тигр бросил это мимоходом, а Сверчку он уже виделся – мощный, рвущийся в облака, настоящий великан, вознесшийся над этими приземистыми зданиями в стиле барокко и Сецессиона, над диким сумбуром неровных крыш у подножия Градского холма. Тигр сказал, а Сверчок поверил, что так оно и будет. И это тоже была его отличительная черта. Доверчивость. Сверчок почти не представлял себе, что люди могут лгать или притворяться. Когда он сталкивался с явной ложью, он мучился, как будто солгал сам, как будто тоже причастен к этой лжи. Такое же мучительное чувство он испытывал при виде неприкрытой нищеты, которая казалась ему упреком его благоустроенному буржуазному шитью.
А Тигр жил именно в такой нищете. Поэтому Сверчка не поражала его странная неумолимая ненависть к малейшему намеку на мещанскую спесь или лень; Сверчка не отталкивала страстная ненависть, доходящая до бешенства, время от времени прорывавшаяся в коротких, рубленых фразах, ничуть не похожих на те, к которым мы привыкли, – обычно Тигр владел собой. Так как он был по характеру бобылем и чудаком, эти его черты выступали особенно ярко. На каком-то собрании СКОЮ[20] секретарь городского комитета говорил о сектантстве молодежи. В качестве примера он привел тот факт, что молодые люди не хотят писать на стенах домов «ОФ», а пишут только «СССР» и рисуют серп и молот. Сверчка неприятно резануло, как Тигр после собрания сказал: «Еще чего! «ОФ» пусть пишут те, кто участвуют в ОФ. Мы, коммунисты, сколько бы нас ни было, всегда и всюду будем рисовать только серп и молот».
Тигр жил в старом, заброшенном доме с вонючей лестницей: ее почему-то всегда использовали пьяные. Комната его была под самой крышей, потолок шел наклонно и в углу соединялся с полом. Краски и штукатурка осыпались до седьмого слоя, и на потолке проступали серые полоски плесени. Под этим потолком в углу размещались железная койка, похожая на больничную, столик с тремя дубовыми и одной сосновой ножками, полка замусоленных книг и окошко, из которого видны были до самого Града все крыши старой Любляны, покрытые снегом, черным от дыма и сажи. Эти крыши, конические, кривые, раздутые или вдавленные, беспорядочно разбросанные у склона Градского холма, вызывали у Сверчка мысли об истории, о средних веках, об алебардах. Почему именно об алебардах – он и сам не знал.
На стене висела приколотая кнопками карта Европы, вся покрытая разноцветными флажками на булавках. Особенно густо они были натыканы там, где тянулся фронт от Ленинграда до Черного моря. Самый большой красный флажок стоял в том месте, где была обозначена Любляна. Сверчок со странным чувством неловкости подумал: будь это карта Любляны, Тигр воткнул бы этот флажок именно там, где вот эта крыша, под которой живет он.
Тигр лежал, натянув одеяло до подбородка, и читал. Когда вошел Сверчок, он снял очки, Сверчок остолбенел, взглянув на его лицо, – таким он его не видел ни разу. Как будто кто-то провел по нему рукой, стер все черты, убрал с него всякое выражение и даже уменьшил глаза.
Тигр указал ему на стул, надел очки и сказал:
– Мне было холодно, поэтому я и залез под одеяло.
Сверчок огляделся.
– У тебя нет печки?
– Нет. Если бы и была печь, все равно нечем топить. А я бы только отвык и простудился.
– Я пришел поговорить насчет Нико, – начал Сверчок, пытаясь понять, с чего это у него такое чувство, будто он просит милостыню.
– Я не люблю возиться с анархически настроенными мальчиками из мелкобуржуазных семей, – спокойно ответил Тигр. – Если уж они мелкобуржуазного происхождения (тут и так возни не оберешься), так пусть хоть подчиняются дисциплине.
Сверчок поежился. Наверное, от холода.
– Видишь ли, – сказал он, – я его знаю. Он поступил так только для того, чтобы проверить, на что способен. Весной его можно переправить в другое место, а до тех пор ему надо подыскать разумное занятие.
– Занятие, занятие! – нетерпеливо воскликнул Тигр. – Я думаю, у нас дел хватает. Ему даже не придется искать.
– Речь идет не только о деле, но и о том, чтобы не оставлять его в одиночестве. Если бросить его, он может опять что-нибудь выкинуть. Я был у него. Валяется на постели в чужом доме и почитывает романы о море.
– Не лучше ли читать что-нибудь более разумное? Почему ты не дашь ему Сигму или Беера? Вот что ему надо читать.
– Да он это уже читал, – сказал с досадой Сверчок. – Ему надо поручить дело, а не пичкать философией. У него и без того в голове путаница.
– Удивляюсь, – Тигр изумленно приподнялся, и Сверчок увидел, что он одетый, – удивляюсь тому, что ты говоришь. Трудовое и идеологическое воспитание должны идти параллельно.
Он замолчал, потеребил корешок книги, лежавшей перед ним, и добавил:
– Хорошо. Дай ему дело. Ему тогда некогда будет думать о глупостях. Это древнее мудрое солдатское правило. Но чем он может заняться? Полиция его уже разыскивала? Да? Тогда пусть он для начала изменит свою внешность, выкрасит волосы или что-нибудь в этом роде. И не позволяй ему бывать на собраниях, где много народу.
Сверчок отвел глаза от его лица. За толстыми стеклами очков блестели, как две искры, холодные, неумолимые глаза человека, который знает все, а особенно хорошо то, чего он хочет. Рванул ветер. Он пронесся над занесенными снегом крышами, так что заскрежетали плохо подогнанные гвоздики, державшие оконное стекло. По коньку соседней крыши воровато крался рыжий полосатый кот.
– Ладно, Тигр, главное, что ты не возражаешь. Все остальное устроим мы с Мефистофелем. Не беспокойся. По-моему, было бы слишком жестоко бросить его одного.
– Храбрость, – проворчал Тигр, – надо проявлять тоже в соответствии с директивами. На благо революции. Не против ее воли, не без ее ведома, не по своему усмотрению, ибо сознание каждого ограничено определенными рамками. Что толку, если его поймают и вздернут на дыбу в Бельгийской казарме?
– А что толку, – сказал Сверчок, – если схватят меня или тебя и тоже вздернут на дыбу? Почему мы должны верить ему меньше, чем себе?
Тигр не отвечал. Над крышами сгущались первые сумерки. Тигр зажег свет – пятпадцатисвечовую лампочку без абажура. Комнату заполнило неяркое желтоватое свечение. Теперь комната казалась еще более бедной и некрасивой.
Сверчку стало не по себе.
– Если тебе нужны деньги, – произнес он, поколебавшись, – ты скажи.
Мы знали, что Тигр получает от организации по нескольку лир в день и питается в основном фасолью.
– Нет, – ответил он, заметив движение Сверчка, – я ни в чем не нуждаюсь. Я привык. Мне не до удобств. Меня интересует сущность вещей. Не внешняя оболочка, которая ничего не определяет. И потому я не люблю людей, которые в душе остались мелкими собственниками.
– Мелкие собственники… – Сверчок проглотил этот упрек. – Это стоило бы обсудить. В Любляне мало людей, которые не были бы мелкими собственниками. В Любляне нет крупной промышленности и куда больше студентов, чем рабочих.
– Если бы Нико сказали: «Парень, иди и сожги свой дом, потому что так нужно», он бы, конечно, захотел узнать, почему так нужно, а если бы ему объяснили, ты думаешь, он сжег бы?
– Если бы он что-нибудь и сделал с удовольствием, – засмеялся Сверчок, – то именно это.
– А потом ему было бы до смерти жаль.
– Это неважно.
– Он не имеет права жалеть об этом.
– Ты слишком много хочешь от людей, Тигр.
– Не больше, чем от себя.
Глаза Сверчка блеснули неярким печальным светом. Он откинул волосы со лба и не спеша поднялся.
– До свиданья, Тигр. Мы договорились с тобой. Спасибо. Мне надо зайти к Мефистофелю, если я его застану.
Тигр проводил его взглядом, затем устало прикрыл глаза. Снова лег поудобнее, открыл книгу и стал читать.
Он читал толстую книгу о Парижской коммуне.
Через некоторое время он резко поднялся. Бросил книгу на стол, погасил свет и накинул на плечи одеяло. Подошел вплотную к окну и протер стекло. Темнота обхватывала крыши тысячью цепких щупальцев. Горбатые крыши приниженно прогнулись под неумолимой тяжестью тьмы. Трубы стали словно бы тоньше, голые деревья безуспешно отбивались от навязчивой ночи. В окне под самой крышей зажегся свет. У освещенного окна появилась женщина в сорочке. Она, видимо, подошла к зеркалу и остановилась, подняв руки к волосам. За ее спиной показался мужчина. Он взял ее за локти и нежно привлек к себе. Женщина с живостью обернулась, затем вырвалась и задернула занавеси. Светлый квадрат исчез.
Он прижал лоб к холодному стеклу. Почувствовал, как дужки очков стискивают виски, пошаркал ногой по полу, точно боялся, что он стал скользким или обмерз, и сжал кулаки. «Нет, важно, – сказал он про себя, будто отвечая Сверчку. – Есть, есть нечто большее, чем человек, дом, любовь, дружба. Есть! Есть. Есть?» Он приложил ладонь к ледяному стеклу на уровне лица и начал разговор с самим собой. «Что справедливо? Что? Люди? Человек? Можно ли посылать человека на смерть? Да. Да. Да. Хотя ты этого никогда не сможешь забыть. Кто его может посылать? Когда? С кого начинается это право? С меня? Уже с меня?» Он скользнул рукой по влажному стеклу и обтер мокрую ладонь об одеяло.
Картина все возвращалась, стояла у него перед глазами: бледное, изможденное лицо с открытыми блуждающими глазами, темнота, снег на асфальте, черные телеграфные столбы, похожие на скрючившихся чудовищ, ветер гоняет вокруг них снежинки и человек – он шатается, в руках у него болтается палка. Сначала он подумал, что прохожий пьян. Несчастный налетел на телеграфный столб, и он подбежал помочь. Увидел он белые, пустые глаза слепого. «Г д е м о я М а г д а л е н ц а?» Он открыл глаза и посмотрел на отца. Тот сидел, съежившись в кресле, живое воплощение горя, и испуганно смотрел на него, опасаясь, что над ним посмеются. Он не знал, как понять это непривычное приглашение. А учитель говорил, как на уроке:
– Это превзошло все мои ожидания, все мои пожелания. Сегодняшний день имеет историческое значение для целого мира и особенно для нас, словенцев. Ничего более великого мы, словенцы, не знаем. Честь и слава крестьянским бунтам, но все же… – Он закрыл глаза и опять услышал отчаянный голос слепого: «Г д е м о я М а г д а л е н ц а?» – «К а к а я М а г д а л е н ц а, ч е л о в е к б о ж и й?» – «М о я М а г д а л е н ц а».
Он провел рукой по глазам и продолжал:
– Это не бунт, сосед, это революция. Организованность, руководство, единство, армия… Я смотрю на молодежь с восторгом и чувствую себя польщенным. Ведь это и мы их вырастили. Мы приходили от них в отчаяние – не знаю, куда мы смотрели. Нам казалось, что они морально неустойчивы, а они были морально здоровыми; мы считали их равнодушными к национальным интересам, а они их остро чувствовали; мы считали их избалованными, а они являли пример спартанцев, да, спартанцев; мы утверждали, что они глухи к человеческим ценностям, и здесь мы тоже ошиблись. Я восхищаюсь молодыми людьми, и я содрогаюсь, когда слышу, что их преследуют и убивают… Люблянский процесс, триестинский процесс… процесс за процессом, словно можно управлять людьми с помощью процессов. А они как будто из крови встают. Смерть перестала быть пугалом. Она утратила свою значимость, ибо речь идет о более важных вещах, чем одна жалкая человеческая жизнь… Гибелью отдельных людей невозможно покорить народ, пусть даже такой немногочисленный…







